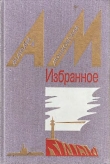Текст книги "Брусника созревает к осени"
Автор книги: Владимир Ситников
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Серафим Данилыч с той поры исходил ядовитой злобой. Голову отворачивал, когда попадались навстречу Хохрины. А теперь уж что. Так и оставшийся бобылём жил он одиноко в казарме, нелюдимый, злой, рано состарившийся. Говорят, анонимные жалобы строчил во все инстанции. Опасались его соседи.
Только Яков Семёнович ничего не боялся. И, смущая тихую свою сестру, сегодня выпевал давнюю частушку из молодых лет:
Ах, ты, Шура, ах ты, Шура,
Шура из-под Вологды.
Давай, Шура, пошуруем,
Пока оба молоды.
– Ой, озор, ой, озор ты, Яшка! – утихомиривала брата Ольга Семёновна. – Смотри. Уж седина в голову, а всё равно бьёт бес в ребро.
– Не береди ты мою душу, Олюшка, какой бес, – притворно вздохнул Яков Семёнович. Он ещё не чувствовал годы и способен был петь, пить и куролесить.
Эрудит из 8 «б»
На другое утро после затянувшегося дня рожденья Славка залежался в постели, с блаженным смущением вспоминая о том необыкновенном, что приключилось с ним на карьере, куда они отправились искупнуться. Он, конечно, первым бросился в воду. Захотелось показать Катерине, что умеет плавать и «саженками», и «поморскому» – брассом, и даже немного «баттерфляем» – «бабочкой». Однако Катерина на это не обратила никакого внимания. Она не спеша освободила ноги от туфель, скинула платье и, оставшись в оранжевых плавках и в таком же лифчике, стройная, длинноногая, подпрыгнула и легко скользнула в воду. Вынырнув, она пошла ровным сильным кролем. Выходит, ей было чем удивить всех. Классно плавает.
Славка замахал руками, рванув «баттерфляем», но только нахлебался воды. Сгрёб волосы ладошкой со лба. Взглянул, а Катерина оказалась далеким далёко. Настоящей пловчихой была она.
Верочка Сенникова, Кирка и Витя Логинов, как малыши, бултыхались около берега, боясь отплывать на глубину. Стиль «по-собачьи» с надутыми щеками был единственным, каким умели они держаться на воде.
Вернувшись и обогнав без труда Славку, Катерина перевернулась на спину и с наслаждением выдохнула:
– Ой, как хорошо! А ты умеешь на спинке?
– Умею немного, – откликнулся Славка и тоже лег на спину.
Нагревшаяся за день вода была ласковой и нежной, как шёлк. По этой теплыни они плыли бесшумно рядом до самого выворотня. Катерина легко выбралась на отполированную животами и коленками корягу. И Славка залез туда же, боясь смотреть на Катеринино ослепительно белое тело. Теперь она казалась совсем иной, чем в одежде. Ещё красивее и притягательнее. Поэтому он и боялся смотреть на неё.
Воздух оказался прохладнее воды. Полумгла скрывала их, и всё казалось таинственным, необыкновенным, заставлявшим говорить шёпотом. Голоса гулко звучали над водой.
– Какой вечер хороший, – болтая ногами, проговорила Катерина.
– Ага, – согласился Славка и вдруг выпалил, удивляясь своей дерзости, – А ты, оказывается, очень красивая.
– Я знаю, – спокойно ответила она, поведя бровью. – Хочешь, поцелуй меня.
Славка обомлел от неожиданности, замялся. Ничего себе: сразу и «поцелуй меня».
– Они не видят, – поддразнила Катерина. – Ты что ни разу с девчонками не целовался?
Слова звучали упрёком. Не скажешь ведь, что да, ни разу. А она, наверное, вовсю целовалась, раз так говорит.
Он, чтобы казаться бывалым, чмокнул её куда-то в щеку, а, может, в ухо.
– Разве так целуются? – со смехом сказала Катерина и, обхватив Славку рукой за шею, поцеловала прямо в губы. Он опешил и не мог ничего проговорить. И что надо было делать ещё, он не знал. Наверное, надо было ещё поцеловаться, но он онемел. Катерина сидела маняще красивая, доступная, смотрела на свои ноги в воде, а он боялся смотреть на неё не то, чтобы поднять руку, обнять её и поцеловать. А может, надо было?
Кирка, Витя и Верочка на скрытом кустами, туманом и наступающей мглой берегу, звали их. Катерина почему-то засмеялась.
– А ты здорово придумал, что позвал купаться, – похвалила она его и плавно, бесшумно соскользнула с коряги в воду. Он плыл рядом и ругал себя за то, что упустил момент: надо было поцеловать её ещё раз, так, как целуются влюблённые в кино, взяв за шею, и обнять.
Большой сумбур был у Славки в башке после Катерининого поцелуя.
Кирка, Витя и Верочка, уже одетые, прыгая на берегу, отбивались ветками от комаров и слепней, ругали Славку с Катериной за то, что те уплыли так далеко и не торопятся возвращаться.
– Ну, лягушата, побултыхались и то хорошо, – с пренебрежением проговорила Катерина. – Я не люблю загорать и купаться днём, а вот ночью при луне в море плавать – сущее наслаждение. Человек весь в пузырьках, в воде, словно серебряный. Не купались вы в лунную ночь?
– Нет, – с сомнением сказала Верочка, – Ночью спать надо.
– Конечно, примерным школьницам давно пора спать, – подпел Славка, но они ещё долго бродили по посёлку.
Теперь, вспоминая это купание, поцелуй Катерины, Славка думал, как здорово всё было, как здорово, что исполнилось ему 16, и он теперь, наверное, почти взрослый. И он ждал новой встречи с Катериной.
Надо же, поцеловала. Значит, влюбилась в него.
От красивых воспоминаний и мечтаний оторвал его сердито наставительный голос директорской дочки, Светки Ямшановой, которая сунулась в окошко их комнаты своим длинным комариным носом.
– Мосунов, ты помнишь, – кричала она во всё горло, – что сегодня Олимпиада? Мама сказала, чтоб как штык.
– Буду, – пробурчал Славка.
Директор школы Фаина Федоровна, по кличке Фефела, опасалась, что школьная команда для Олимпиады не соберётся. Каникулы. Мало ли.
– Слышал или нет? – крикнула Светка вновь.
– Буду, – повторил он.
Светка была вся в мать. Зануда.
– Вот и нечего разлёживаться, – упрекнула она ещё раз Славку. – Шефы автобус дают, чтоб точно к десяти.
И Славка стал подниматься.
Участие в Олимпиаде было связано с выгородкой, в которой жил он с матерью. До этого-то они ютились в общежитской комнате, где жили ещё две женщин с детьми. Мешали друг другу неуклюжими колясками, санками, корытами для стирки, ваннами для мытья. Очутилась Ольга Семёновна здесь в Дергачах, совсем нежданно-негаданно. Из-за гангрены умер её муж Николаша Мосунов. Зауросил у него комбайновый соломокопнитель. Прыгнул в него Николаша, чтоб вытеребить завалившуюся солому, а мотор впопыхах не выключил. Заработали шнеки, ноги ему переломало. Началась гангрена. Врачам спасти его не удалось.
От нервов что-то случилось с матерью Ольгой Семёновной – начало руки сводить. Дояркой работать – невмоготу. Мучалась, не зная куда себя деть. На тяжёлую работу неспособна, а лёгкой в деревне нет.
– Пойдём думать, – сказал Ольге брат Яша и из Кривобора переманил её в Дергачи.
Он работал здесь комендантом. Собрала Ольга свой скарб – сундучишко, лавку, ведро да кастрюлю и перебралась. Работа по лету не такая угарная, как на ферме. Считай, три года жила-мучилась в общежитии, где всё на виду у всех.
А потом Яша расстарался, огуревел для них эту выгородку, лишив жильцов коридорного окна и пожарного выхода. Басил, что имеет на это указание от начальства. Здесь Славка и рос.
Одно время Славку даже называли дитём барака. Мать затемно уходила на работу, поэтому будила и кормила его старуха Дуня Березина, которую с лёгкой руки того же Славки стали называть Дундя Березиха. Зимой и весной он терпел её наставления, ожидая маму.
Старуха Дундя Березиха была немного колдуньей, промышляла знахарством: заговаривала пупки, грыжу, снимала головную боль, бралась лечить даже тайные мужские пороки. Она и признала у Славки болезнь – урос. Урос – это когда ребёнок капризничает без останову, в общем – уросит. Славка ревел из-за того, что летом в самую жару, волокла его Березиха с собой на карьер полоскать бельё. Идти приходилось по нестерпимо горячему песку. Подошвы горели. И он хныкал:
– Возьми на ручки, Дундя Березиха. Дундя, ножки жгёт.
– Какая я тебе Дундя? Да как я тебя возьму-то, коли корзина с лопотью в руках.
На траве около карьера ноги не жгло, зато кусало комарьё и оводы. Славка опять ревел и уросил.
– Ох, ты, сопливое золотко. Ну, пореви, пореви, – утешала Славку Березиха.
– Урос у него, лечить надо, – сказала с озабоченностью в лице Березиха матери. – Знаю я средство.
Славка запомнил, как его на полном серьёзе «лечили», протаскивая между поперечин пожарной лестницы. И Березиха, и Ольга Семёновна остались довольны «лечением», считая, что после этого ребёнок перестал уросить. Да ведь лето кончилось, а осенью песок не «жгёт» и оводьё не жалит.
Ольга Семёновна лелеяла своего единственного сынулю, припасала кусок послаще, гладила по головке, называла по-деревенски «мака». Мака – это значит, баской, то есть хороший и красивый, да ещё смирный, послушливый. В детстве Славке нравилось, что называют его Макой, а когда в школу пошёл, стал сердиться на мать. И так весь барак его Макой зовёт, не хватало ещё, чтобы он для школы стал Макой.
Вреднючие двойняшки – Тамарка и Нелька Топоровы, прозванные Сестренницами, узнали про Маку – и ну дразнить. Орали с противоположной стороны улицы:
– Мака, Мака, – тьфу, собака.
Славка срывался с места и бежал за двойняшками. Те с визгом разбегались в разные стороны, и откуда-нибудь из-за поленницы опять раздавалось:
– Мака, Мака, – тьфу, собака.
Долго изводили его эти вредины.
А потом объявили, что обе любят его.
Заболела учительница Анна Алексеевна, и на уроке у заменившей её училки все третьеклассники пересели, как им хотелось. Сестренницы сели к Славке по обе стороны, хотя втроём никто не сидел.
Одна толкала его и говорила: «Я тебя люблю», другая тоже говорила: «Нет, я его пуще люблю». Когда шли из школы, Сестренницы держали его за руки. Одна за левую, другая за правую. Никак разделить его не могли.
Парни кричали вслед ему:
– Девушник, девушник!
Славка стеснялся, но отвязаться от двойняшек никак не мог.
Хорошо, что Анна Алексеевна проболелась и навела в классе порядок. У Сестренниц любовь остыла. Нельзя же всё время одного Славку любить. Петька Малых по кличке Малыш вон какой могучий стал.
Когда Славка подрос, вытянулся, превратился в добродушного долгана, слова «Мака» и «девушник» забылись.
Да и больно-то бегать не удавалось. В листопад, зимой во время снегопадов, Ольга Семёновна не успевала справлять дворницкую работу, и он до запарки орудовал осенью метлой, а зимой деревянной лопатой.
А если буран неистовствовал не один день, то выскакивал дядя Яша и его жена тётя Поля. Дородная, круглая тётя Поля разворачивалась ловко да ещё мужа подгоняла:
– А ну, Хохрин, хватит дымить. За дело!
Почему-то она всё время звала его по фамилии.
После угарной работы пили они чай в выгородке.
– Ой, Хохрин, на работу ты ленивый, а вот выпить молодец, – подначивала она мужа.
Ольга Семёновна приберегала для братца «четушечку».
– Ну вот цетусецкю уцуцькает Хохрин и в баньку пойдёт, – говорила тётя Поля. – Славка попарит.
Эти разговоры по-родственному Славке нравились.
– Как, Славка, будешь меня парить, если стариком стану? – спрашивал дядя Яша.
– Дитятко, как тесто, каким замесил, таким станет, – говорила мать. Она знала уйму редких старушечьих прибасенок.
– Нет старухи, так купил бы, есть старуха, дак убил бы, – напоминала мать пословицы, вывезенные из деревни. Были там и такие: чем семейнее, тем говеннее, – и в каждой какой-то глубокий житейский смысл, потому что дядя Яша соглашался с ними:
– Всё истинная правда. Ещё есть одна: надо надуматься, а наделаться успеем.
В мужской день Славка ходил с дядей Яшей в поселковую баню. Тому нравилось, как племяш трудится над его спиной и трёт мочалкой, и хлещет веником. Дядька был непробиваемым, и поначалу не хватало сил за один раз выпарить его, а потом ничего стало получаться.
– Кремень, а не парень, – хвалился им дядя Яков, чтоб слышали соседи. – Один недостаток – пиво не пьёт.
А дядька мог одолеть кружек пять за один присест.
– Правильно, что не пьёшь в будни. Пить надо только по революционным праздникам да в Пасху и Троицу, – поучал он племянника.
Мосуновых жители казармы считали самыми бедными, тихими и безобидными людьми. Некоторые даже жалели. Ольга Семёновна обмерла от неожиданной щедрости, когда жестянщик Гурьян Иванович Сенников – Верочкин отец принёс к их дверям круглый раздвижной стол.
– Вот барыня велела передать, – сказал он, подмигнув Славке.
Почему Гурьян Иванович свою жену Елену Степановну, кастеляншу районной больницы, называл барыней, никто не знал. Может, из-за её дородности. Гурьян Иванович с восхищением косил глаза на супругины сытые бёдра и, когда не было дома Верочки, шлёпал смачно рукой ниже спины:
– Комар с комарихой сели, – объяснял он. – Лё, лико-лико, сколь велико, – восхищался он и добавлял, – Ой, сладка, будто ягодка, – ягодичка. Раскараванило тебя, барыня. Знать, от котлет.
Елена Степановна багровела от возмущения:
– Ты, как был грубым неотёсанным мужиком, так им и остался, – упречно произносила она. – Полнеют не от котлет, а от лет.
– Лё, лико-лико, – опять придуривался Гурьян Иванович, кося под дремучего деревенского мужика.
Себя Елена Степановна считала женщиной культурной и даже утончённой. Сама Ангелина Витальевна, жена директора торфопредприятия ей заказывала платья шить, а тут такая грубость.
– Как был Гурей, так Гурей и остался, – со вздохом говорила она.
Оказалось, что у стола ноги источены жучком, но всё равно, он украсил выгородку, в которой кроме стула, сундука да двух общежитских, синего цвета, тумбочек, да такого же казённого цвета двух панцирных кроватей ничего не было, если не считать деревенскую скамейку.
Славка и уроки делал на тумбочке. А тут наступила благодать – стол широченный, а если вдруг гости нагрянут, так можно было его раздвинуть, и он стал бы в два раза больше. Но это чисто теоретически, потому что раскладывать стол было ни к чему. Редко кто к ним, кроме дяди Яши да Березихи заходил. Тогда и к кровати не протиснешься. Впервые раздвинули его на Славкино шестнадцатилетие.
Ольга Семёновна столько благодарностей рассыпала перед Гурьяном Ивановичем и Еленой Степановной – не счесть да ещё недели три вела за Сенниковых очередь – мыла коридор и крыльцо в казарме, освободив дородную кастеляншу от необходимости нагибаться.
Славке это не нравилось.
– Ты зачем унижаешься? – возмущался он.
– Да что ты, что ты, Славко, какое унижение? Люди помогли нам, дак вот… Чего гордиться-то. Ты уж повежливее с ними будь. Вон они какие хорошие. Они добро сделали нам, так и я отплатила добром.
– А зачем угождаешь, как Молчалин? – возмущался Славка.
– Не говори эдак, – испугалась мать. – И здоровайся бастенько – не переломишься. А то скажут: ишь какой гордой. Подумают: «Мы им стол, а он нос воротит».
«Во-первых, угождать всем людям без изъятия -
Хозяину, где доведётся жить.
Начальнику, с кем буду я служить.
Слуге его, который чистит платья,
Швейцару, дворнику для избежанья зла,
Собаке дворника, чтоб ласковой была», – со злостью в голосе процитировал Славка Молчалинские заповеди из Грибоедовского «Горя от ума».
– Я вот дворник, дак что со мной зазорно здороваться? – до слёз обиделась Ольга Семёновна. – Ну, Славко, не думала, что ты эдак обо мне скажешь. Зазорной-то работы не бывает. Всё делать приходится. Научишься жать – научишься жить.
Славка стушевался, поняв, что не туда его завела классическая
цитата.
Видимо, мамино воспитание всё-таки сказалось. В ту же весну к 8 Марта он сделал подарок всему дому – огрёб крышу от снега. Он стоял с лопатой на сугробе. Проходя мимо казармы, каждый ему что-нибудь говорил. Один: «С успехом трудиться!», другой – просто: «С успехом», Березиха сказала: «Бог на помощь». Только Гурьян Иванович, хитро подмигнув, подбросил:
– Не ломайся-ка, парень, лё, тепло уже, весна придёт – солнце всё сгонит.
– А вдруг проломится, – высказывал опасение Славка.
Однако жильцам понравилось, что их казарма раньше других освободилась от снега: не будет опасения, что своротит трубу или продавит их крышу сугробищем, наметённым с северной стороны.
– Смотри-ко, мосуновский-то парень как вырос. Вроде давно ли маленький был. Всё гонял по обочине обруч от бочки, поддерживал его проволочной правилкой да ещё губами тарахтел под вид мотора: р-ры. Будто мотоциклом управлял. А тут вовсе взрослый, с лопатой, – радовалась Березиха.
– Вот, Славко, все заметили твоё доброе дело, – сказала мать. – Яша говорит, если на конторе крышу огребёшь, деньги заплатит.
И Славка превратился в заправского огребальщика крыш. На конторскую крышу тоже слазил. Наверх уже кричали другое.
– Ничего не боишься. Правильно, смелость города берёт, – бодрил его Гурьян Иванович.
– Живи смелее, повесят скорее, – вставил своё Киркин дед Герасим.
Шли они после «закуски», и языки требовали свободы выражения.
Так разохотился Славка, что когда Кирка – Канин Нос сообщил по секрету, что знает, где можно заработать, с радостью согласился.
Звали охотников на рытьё канав вокруг складов медуницкого «Заготзерно». Побежали туда вдвоём. Рыли отводные канавы в глубоченном, в человеческий рост снегу. Мечтали закалымить за день по десятке. Славке такие деньги казались большими, а Кирка скривился:
– Фигня. Короче – я и по сотняге за день заколачивал…
Врал, наверное.
Выбрасывая снег фанерной лопатой, Славка с радостью думал о том, что купит матери кофточку к дню рождения. Видел он в сельмаге такую расшитую белым шёлком. Тридцать пять рублей стоит. А тут сказали за неделю по семьдесят рублей заплатят. Получится на кофточку и на торт.
Однако им заплатили куда меньше, потому что вычли налог подоходный да ещё за бездетность. Славка за бездетный налог обиделся на бухгалтерских работников из «Заготзерна», а Кирка зло напомнил, что им детей заводить ещё не полагается – возраст не детородный.
– По ведомостям вы у нас как взрослые мужики проходите, – обрезала кассирша.
Ничего не поделаешь. Подростков всегда все надувают, как заблагорассудится.
На блузку для мамани денег хватило. Когда Славка развернул перед ней эту красоту, Ольга Семёновна вместо того, чтобы обрадоваться, вдруг заплакала:
– Дак, выходит, вовсе ты у меня большой вырос, Славко? В эдакой-то басоте меня не признают. Всё в ситце да фланельке ходила, а тут шелкатьё. Гли-ко, до чего хороша кофточка!
В пахнущей гниением, затхлостью и клозетом казарме размещалось немало разных людей. Кроме Дунди Березихи и Сенниковых, жил Витька Логинов с матерью. Чистенький, с бантом на шее, он учился в музыкальной школе играть на скрипке. Мать его – медсестра Клара Викторовна – женщина утончённая, души не чаяла в сынуле. Провожая его в музыкальную школу, целовала в щеку или в лоб. И он любил свою мамочку. Обещал учиться на отлично.
Ещё занимал свой «пенал» одинокий злой старик Серафим Данилович Чуркин, который выскакивал, озираясь только тогда, когда требовалось по нужде в клозет или на кухню. А когда пуст был коридор, бесшумно ходил, прислушиваясь, о чём говорят люди за дверями. Он не любил общаться. Иногда из жалости или от широты души, мужики и бабы, засевшие во дворе играть в лото, звали его раздавить бутылочку. Заводилой был Гурьян Иванович.
– Весь день в башке звон от железа. Хоть человечью речь послушать, – объяснял он свою тягу к лото.
От стола неслось стуканье и бряканье лотошных бочонков, и бубнивый голос Березихи выкрикивал:
– Семён Семёныч! (что означало – 77), Туда-сюда (это – 69), Барабанные палочки (11), Дедушка (что значило – 90).
Оказавшийся в выигрыше Гурьян Иванович пускал свою присказульку:
– Лё, лико-лико. А не собраться ли с умом да не послать ли за вином? – и шёл звать Данилыча. Тот, согласившись, долго считал мелочь. – Чо долго? – спрашивал Гурьян Иванович.
– Рука у меня не слушается, – отвечал Чуркин. – Токо гривенника не достаёт до рубля, – объявлял он, наконец.
Гурьян Иванович великодушно махал рукой: сойдёт, с паршивой овцы хоть шерсти клок.
Данилыч был скупердяем. Это знали все. У него в комнате горела только одна лампочка над столом, задвинутым в угол. И та на 25, а может, даже на 15 свеч.
– Не деньги считать, – объяснял он, хотя учитывал, наверное, каждую копейку.
Ходил Данилыч в одном и том же сером пиджаке с засаленным воротом и рукавами, серой выцветшей кепке и лицо у него было какое-то серое, морщинистое, не запоминающееся.
Выпив, он, тыча пальцем в грудь Гурьяна Ивановича, дотошноспрашивал иудистым, притворно ласковым голосом:
– Почему у нас все поголовно картошку садят? Не знаешь?
– Ну, второй хлеб. С войны привыкли, – отвечал Гурьян Иванович.
– Ерунда! Просто не верят люди своему государству, потому что оно запросто обманет. Сколько нас надували? И будем мы иметь в сухом остатке хрен целых хрен десятых. Что Россию губит? Бескультурье! Выпивка без закуски, власть – без совести.
– Лико-лико, а я не знал.
Гурьян Иванович озирался и на откровенность не шёл. Слишком смело резал сосед. Согласишься с ним, а потом греха не оберёшься. Ещё донесёт. Поговаривали, что Данилыч – старик сквалыжный. Пишет анонимки. Приезжал журналист из газеты, чтобы написать фельетон о Березихе, промышлявшей знахарством. Было при журналисте письмо. Наверное, от Данилыча. Но жильцы о старухе плохого не сказали. Так и ушёл газетчик несолоно хлебавши.
Бабка Березиха обо всех всё знала. И о Серафиме Данилыче – тоже.
– Тяжёлым утюгом бог прошёлся по их семье, – поджав таинственно губы, говорила она. – Мать-отец у него с голоду померли, а он гли какой! Никого не любит. Как так жить можно?
Встречались зимой жильцы в основном около плиты. В общей коммунальной кухне стояли на столах керосинки, а позднее керогазы, около которых хозяйки колдовали с обедами и ужинами. По субботам и воскресеньям зимой и осенью топили огромную плиту.
Достаток и бедность жильцов обнаруживались на общей кухне вот на этой широченной, как двуспальная кровать, дровяной плите, уставленной кастрюлями и кастрюльками, чайниками, сковородами, бельевыми баками и даже бидонами. Самые разные ароматы и дымы доносились отсюда в сени. Ольга Семёновна жарила картошку на постном масле, варила картофельницу или кашу. По праздникам – кролика, которого называла «заяц». Мясо было редкостью. Одинокий пенсионер Серафим Данилыч таясь, приносил кастрюльку – ковш с какой-то позавчерашней хлебатенькой, которую обычно варил в своей комнатёнке. Из ковша и ел. Тарелок у него, наверное, не было или он экономил воду, не желая лишний раз мыть посуду.
Клара Викторовна пекла блинчики, делала кексики для Витьки. Зато Елена Степановна жарила чебуреки с мясом, огромные котлеты, пекла пироги. Гурьян Иванович да и сама Елена Степановна любили поесть и имели достаток, чтобы покупать мясо.
Около плиты шли откровенные разговоры, случались самые злые перепалки. Ольга Семёновна от скандалов всегда уходила к неудовольствию Березихи. Березиха, любившая всех судить и рядить, была этим недовольна:
– Хоть бы ты раз поругалась, отбрила кого-нибудь. Дак на тебя бы нападать не стали.
– А зачем? – недоумевала Славкина мать. – На меня и так не нападают.
Березиха была находчива и лиха на язык и вовсе ничего не стеснялась. Как-то выскочил у неё нежданчик. Другая бы умерла от стыда. А эта нашла оправдание:
– Нервы стали ни к чёрту. Износились.
Сенниковы считались зажиточными людьми. Во-первых, у них были две комнаты, по стенам ковры развешаны и даже имелось пианино. Верочка играла на нём, правда, не очень охотно и не очень подолгу. Гурьян Иванович был человек мастеровитый и работал не только в гараже торфопредприятия, а ещё прихватывал на стороне – шабашил кровельщиком, уезжая на заработки в соседние районы и даже в областной центр.
Елена Степановна умела шить модные платья и костюмы, и к ней шли, чтоб принарядиться к свадьбе, юбилею или выпускному вечеру. Конечно, те, у кого было на что наряжаться.
Не станет же заказывать маманя Славке штаны, если ни шерстянки на них нет, ни денег.
Гурьян Иванович был человек с юмором и любил поддеть свою жену. Он не только называл её барыней, но и устраивал розыгрыши. Раз задержалась Елена Степановна 8 Марта на больничном женском вечере. Муж встретил её, держа над головой оленьи рога, посланные братом из Анадыря.
– Что это с тобой? – не поняла Елена Степановна.
– Лё, лико, выросли за сегодняшний вечер, – сказал Гурьян Иванович.
– Как так выросли? – опешила жена.
– Тебя спросить надо. С кем гуляла?
– Ну дурак какой, – обиделась Елена Степановна и замкнулась.
– Лё, сколь велико. Как, пилить будем или топором рубить рогато? – веселился Гурьян Иванович.
Елена Степановна шутки мужа считала глупыми, свирепела, когда тот называл её «барыней». Надолго замолчала. Ему же пришлось извиняться.
– Вот, Верочка, какой дурак твой отец, – восклицала мать.
– Ну, пап, зачем ты так? – поддерживала Верочка Елену Степановну.
– Лё, лико. Шуток не понимаете, – вздыхал Гурьян Иванович. – С тоски помрёшь с вами, – и шёл в «Закуску», чтоб там отвести душу в разговоре. Там над его деревенскими приговорками хохотали от души.
Славка, конечно, знал, что Сенниковы обычные нормальные люди. Наверное, хорошие, раз в детстве приглашали его на семейную ёлку в Новый год, гостинец дарили. И вот стол круглый отдали. Но всё равно, пробегая мимо, при встрече бормотал усечённое: «сте», вместо полновесного «здравствуйте», потому что чувствовал их тайное унижающее его превосходство над собой.
Когда в дверь мосуновской выгородки протискивалась Верочка, страдальчески морща лоб, говорила, что у неё не решаются примеры по алгебре, какие-то непонятные задали, Славка сердился:
– Чего тут непонятного-то, – и, быстро объяснив решение примера, отворачивался, делая вид, что ему некогда.
Верочка была старательная ученица, зубрила уроки по истории и литературе и получала пятёрки, а Славка отвечал, как придётся. Зато по мнению директора школы Фаины Фёдоровны – Фефёлы Мосунов знал уйму ненужных вещей, которые, возможно никогда ему не пригодятся.
– И зачем он только ими башку свою забил, – недоумевала она. Но Славка и не хотел забивать свою голову всякой всячиной.
Причина его эрудированности была очень проста.
Наспех сделанная выгородка оказалась страшно холодной. Зимой в углах белели снежные «зайцы» и даже волосы на Славкиной голове к утру покрывались инеем. Мать заставляла его спать в шерстяных носках и рубахе, требовала повязывать на голову бумажный платок. В детстве он это терпел, а повзрослев от платка отказывался наотрез, а вот пальто на ноги поверх одеяла набрасывал. Печку приходилось в зимние холода топить по два раза в день. Пол был ледяной – босой ногой не ступишь, поэтому и в комнате ходили они с матерью в валенках. Наверное, из-за этой холодрыги Ольга Семёновна часто простывала, покашливала и с нетерпением ждала тепла.
Славка в это время мечтал построить большой, тёплый и светлый дом, такой, какой был у них в деревне Кривобор, но как это сделать, он не знал.
Днём, чтобы не колеть от стужи в выгородке, Славка находил укромное тёплое место – поселковую библиотеку.
Брал с полок всё, что ни попадалось на глаза. Особенно пристрастился к энциклопедическим словарям, сборникам «Хочу всё знать» из серии «Эврика». Там история новейшей науки о биоэнергетике, о профиле равновесия и других мудрёностях. Ну и, конечно, тяжеленные книги по архитектуре, живописи, музыке не прошли мимо его рук. Ну и не пропускал романы, которые в школьной программе не значились.
У восьмиклассника Мосунова был самый заполненный формуляр. Для него заказывали книги из районной библиотеки и даже областной. Библиотекари в стенгазете упоминали его фамилию с похвалой: «Мосунов у нас самый активный читатель!»
– Правильно, Слава, ты делаешь. Любить чтение – это обменивать часы скуки на часы наслаждения, – красиво говорила литераторша Ксения Петровна.
Но Славке нравилось, как сказал инженер Самосадов:
– Я без библиотеки как Рахманинов без рояля.
Славка страшно удивился и даже испугался, когда (было это уже в восьмом классе) к нему домой прибежала директрисина дочка Светка и заорала, что ему надо явиться в школу. К Фефёле он пошёл с неохотой. От директора хорошего ждать нечего, хоть вроде ничего зловредного и пакостного он не сотворил. Да мало ли…
В Дергачевской школе, как и в других была своя команда эрудитов, которые ездили на Олимпиады, КВНы, «Голубые огоньки» и всякие встречи. Подобрались в ней в основном одни десятиклассники. И вот уехали на Урал перед самой Олимпиадой родители капитана команды. И он с ними. Нового капитана нашли быстро. Бойкий хвастливый кудряш Вовка Свистунов предложил сам себя.
Он всеми распоряжался, обрывал, поучал, но ведь этого было мало. Прежний капитан Севка Шишов был сообразительный и начитанный, а этот нет. Где взять эрудита?
– Слава Мосунов из восьмого «б» знает много ненужностей, – пощипнув бородавку на подбородке, сказала директриса Фаина Фёдоровна, – Может, рискнём? Из-за неполного состава команды с нас могут снять очки. А так хоть команда будет в комплекте.
Олимпиада проходила в первой Медуницкой школе, которая славилась победами на районных и областных конкурсах. Эти зубры и зазнайки, одержавшие много побед, смотрели свысока на ребят из Дергачевской школы. И вдруг в зачуханной команде незаметный стеснительный восьмиклассник в подшитых валенках, вытянутом свитере с чужого плеча по фамилии Мосунов удивил всех своими точными ответами. Сообразил, что Мексиканский залив больше Персидского, назвал знаменитую картину Рафаэля «Сикстинская мадонна» и пьесу Генрика Ибсена «Пер Гюнт», о которых медуницкие знатоки имели смутное представление. Даже годы правления французского короля Людовика XIV сохранились в памяти восьмиклассника Мосунова.
Капитан Дергачевской торфяной школы Вовка Свистунов был доволен. Он так уверовал во всезнание Славки Мосунова, что обращался только к нему:
– А ну, поднапрягись, Муссончик, – умолял он.
И Славка напрягался и выручал. Он знал фамилии почти всех космонавтов, особенно советских. А когда обнаружилось, что команда Дергачевской торфяной школы благодаря Славке Мосунову знает, что звали древнегреческого целителя Аскрепий, а его дочь Панацеей, все поняли – торфяные парни и девчонки будут победителями зимней районной Олимпиады.
По словам Фефёлы, которая переживала за свою команду в зале, она была готова расцеловать Мосунова, до того он оказался подготовленным и эрудированным.
– Откуда что взялось? Вроде парнишка незаметный, мать уборщица, – недоумевала директриса.
Наверное, не поверила бы Фефёла, если признался ей Славка, что причиной его эрудированности стал холоднючий стылый пол, положенный прямо на слеги и не имевший чернового засыпанного глиной настила, который обычно сохраняет тепло и не пропускает стужу.
После победы в Медунице Славку всегда брали в команду. И в восьмом, и в девятом ездил он в её составе. И вот сейчас, летом, выпускник десятого класса 1978 года Вовка Свистунов был согласен в последний раз съездить в качестве капитана команды. А потом в институт.