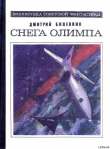Текст книги "Гипотеза о сотворении (сборник)"
Автор книги: Владимир Рыбин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Вырастил хлеб – ты творец, сотворил из ничего нечто.
Сшил сапоги – ты творец, создал из ничего нечто.
Выплавил металл, создал машину – ты творец.
Создавалось из н и ч е г о что – то.
Подмену не заметили или не захотели заметить, поскольку машины к тому времени все больше заменяли человека. А когда самотворящиеся и саморазвивающиеся роботы и вовсе освободили человека от труда, искусство все больше начало превращаться в творца отвлеченностей, творить, так сказать, и з н и ч е г о н и ч т о.
Самое главное, делавшее человека человеком, дававшее ему высшую радость и удовлетворение, отдавалось роботам. Человек из творца превращался в потребителя…
Ермаков пришел к этим мыслям уже здесь, живя в Городе искусств, наблюдая, как взрослые и умные люди занимаются несерьезным, по его мнению, делом, убеждают друг друга в несуществующем. Ему не раз приходило в голову сделать что-нибудь с роботами, чтобы они хоть чуточку ограничили свою услужливость, дали возможность людям почувствовать себя способными на большее, нежели абстрактное ликование. Теперь он был доволен тем, что никому не говорил об этих своих мыслях. Иначе в случившемся обвинили бы его.
Они с Леней проговорили у костра всю ночь. Многое Ермаков понял тогда по-новому. И хоть почти не спал, был утром свеж и бодр, как бывает свеж и бодр человек, переживший высший подъем духа, от которого не устают. Утром у него был уже продуман план действий, программа спасения людей.
Вдвоем с Леней они принесли груду металла, пластмассовых мышц, деталей и узлов – все, что удалось снять с разбитых роботов. Ермаков сложил все это на берегу речки и начал строить временный навес из жердей и прочной пластмассовой пленки, которая имелась на складах у запасливых роботов. Вначале никто не обратил на это внимания: каждый в поселении, по словам Обнорского, имел право чудить, как ему вздумается. Даже сообщение о гибели роботов, казалось, не произвело на поселенцев большого впечатления. Ермаков сказал председателю Каменскому, что надо срочно собрать всех и разъяснить серьезность положения. Каменский ответил, что непременно соберет, только позднее, поскольку неожиданная обстановка вызвала у всех новый взлет вдохновения и он не намерен мешать творческим порывам.
– О творческих порывах придется пока забыть, – неосторожно сказал Ермаков, чем вызвал у Каменского бурю негодования.
– Ничто не может заставить подлинного поэта перестать творить! – с пафосом воскликнул он. – Каждый должен до конца делать свое дело. – И неожиданно заключил: – Ты свободен от творческих порывов, вот и думай, как быть.
– Значит, ты мне отводишь роль робота?
– Роботы были исполнителями, а я пока что говорю тебе – думай…
И Ермаков стал думать. Собственно, он уже все продумал и потому, никому больше ничего не говоря, принялся перетаскивать свое имущество к реке. Нетрудно было предвидеть, что через две недели кончится запас воды в замке и эстетам волей-неволей придется переселяться вниз или носить воду наверх. Затем он начал строить дом из камней и металлических сеток, которые скреплял быстротвердеющим пластиком, взятым все на тех же складах роботов. Дом получался невзрачным, похожим на большой сарай, но и он радовал, поскольку Ермаков знал: скоро в нем придется поселиться многим колонистам. Строительство продвигалось медленно: много времени отнимал уход за обширными огородами, оставшимися от роботов.
Роботы, роботы! Ермаков по сто раз на день вспоминал их, только теперь как следует осознав, сколько же они делали для людей. Даже для него, человека, умеющего работать, это было как открытие. Какое же потрясение ждет эстетов, когда и им всерьез придется впрячься в работу!
Первое время его хлопоты у реки никого не привлекали. Лишь иногда тот или иной поэт или художник останавливался неподалеку, смотрел удивленно на «ороботившегося человека». Потом кое-кто, осознавая трагичность положения, начал ему понемногу помогать. Через месяц, как он и предполагал, все переселились к реке. Все, кроме одного Обнорского. Он заявил, что если ему суждено умереть от голода и жажды, то он умрет поэтом, и жил в невообразимом хаосе, создавшемся в его мастерской, поскольку прибирать за ним было некому. Кое-кто, жалеючи, носил ему в замок воду и свежие овощи с огорода. Он привыкал к этому и часто гневался, если очередной доброволец-водонос задерживался.
Долго Ермаков разбирался в механизмах, обслуживавшихся некогда роботами, и наконец включил их, дал воду в замок, наладил связь. А потом и более того – надумал сам создать робота. Когда он сказал об этом председателю, тот сразу поверил в эту возможность и уже от него не отходил, просил, требовал, чтобы первый робот был создан поскорее.
Ермаков торопился, работал даже по ночам. Но однажды его осенило, что Каменскому нужен не робот-помощник, а слуга, что им движет лишь тоска по той паразитической жизни, которую вела колония прежде. И он начал задумываться: следует ли вообще создавать робота? Но дело было начато, и Ермаков продолжал работать, забывая об отдыхе, находя радость в каждом ожившем под его руками узле.
И вот наступил день, когда робот должен был ожить. Восторженный Леня не отходил от Ермакова, ожидая этого самого главного момента.
– Вы словно бог! – не выдержав распиравшей его радости, воскликнул Леня. – Такое сотворили!..
– Благодарю, – скромно ответил Ермаков и потер переносицу, чтобы не чихнуть, поскольку от паяльника, которым он пользовался в эту минуту, поднимался едкий дым.
– Как мы его назовем?
– Поскольку первый, пусть будет Адам.
– А вторая – Ева?
– Возможно.
– А вы не боитесь, что они начнут размножаться?
– Дай бог, – сказал Ермаков.
– Размножаться массово и бесконтрольно.
– Не дай бог.
– А потом скажут, что никакого создателя не было, что все получилось само собой…
– Хватит пророчествовать. Слышишь, звонят? Возьми трубку.
– Это вас опять председатель спрашивает.
– Я не могу подойти, включи трансляцию.
Под потолком зашуршало, и низкий голос загудел, казалось, со всех сторон:
– Как дела, Ермаков? Обнорский совсем замучил требованиями. Не может он без робота, а у него симфония – самый пик творения.
– Дела идут. Робот вот-вот заговорит. Только ведь не для Обнорского же я его делаю?
– Мы потерпим, мы уж как-нибудь. А ему нельзя, он – гений.
Ермаков вздохнул.
– Чего вздыхаешь?.. Зачем мы тут поселились? Чтобы погрязнуть в заботах? Творцы должны творить…
– Пускай с горы слезает. Не все равно, где творить?
– Это тебе все равно. Ты не понимаешь высокую поэзию искусства. А он феномен, ему нельзя отвлекаться от своих видений.
– Боюсь, что слуги из Адама не получится, – сказал Ермаков.
– Какого Адама?
– Так мы назвали нашего первенца.
– Почему не получится? – удивился Каменский.
– Такова программа: помогать только в том случае, если дело человеку не по силам.
– Ничего, научим все делать. Или заставим.
– Даже если робот окажется талантливей Обнорского?
– Что ты говоришь? Что ты такое говоришь?! Разве можно быть талантливей Обнорского?!.
– Уж лучше я Адама не буду оживлять, – сказал Ермаков. – Пускай стоит как музейный экспонат…
– Ну знаешь! – оглушили динамики. – Мне говорили, что ты ненормальный, но не до такой же степени! По-моему, ты просто болен. Сейчас я приду разберусь.
– Приходи, я встречу.
Ермаков отложил паяльник, оглядел свое детище – странное сочетание металла и живой ткани, напоминающее осьминога. Точнее, у робота было двенадцать конечностей, восемь оканчивались округлыми рифлеными башмаками с шипами, четыре – трехпалыми отростками. Все конечности приводились в движение искусственными живыми мышцами, стянутыми к большому – полуметрового диаметра – шару-телу, в котором находились управляющая система, электронный интеллект. Четыре перископических глаза, под углом выдвинутых из этого шара, делали робота похожим на неведомое чудовище. Но Ермаков уже любил его, еще не ожившего, потому что знал: робот будет добрейшим и способнейшим существом. И работящим, как никто в этом поселении.
– Леня, ты пока ничего не трогай, – сказал Ермаков и вышел, накинув на плечи легкую куртку.
Солнце клонилось к горной гряде на западе. Легкий теплый ветер приятно освежал. Рядом под камнями тихо журчала речка. Чуть ниже она разливалась озером, сверкающим сейчас, на закате, как чистейшее зеркало. За озером круто поднимался горный склон, переходящий в живописный скальный обрыв.
За закрытой дверью мастерской вдруг послышался крик, какой-то стук, и на пороге показался Леня, бледный как полотно.
– Он ожил, ожил! – торопливо повторял Леня и все метался глазами по сторонам, искал, чем бы подпереть дверь.
В дверную щель просунулось длинное щупальце, и Леня отскочил в испуге.
– Здравствуй, Создатель! – вежливо сказал появившийся в дверях робот, пошевеливая всеми четырьмя своими глазами-перископами, оглядываясь. – Можно, я погреюсь на солнышке?
– Разве ты в этом нуждаешься? – спросил едва пришедший в себя Ермаков. Он с любопытством и некоторым испугом рассматривал свое детище, такое привычное там, на сборочном столе, и такое до жути незнакомое здесь.
– Солнце всем полезно. Разве не ты это говорил?
Мурашки пробежали по спине Ермакова. Много чего говорил он, работая у сборочного стола, не думая, что его слова могут быть услышаны. Но робот, видимо, жил еще до того, как первый раз шевельнулся. Так живут эмбрионы. Человек или любое животное еще не родились, но они уже учатся жить и понимать окружающее.
– Ты знаешь, как тебя зовут? – осторожно спросил Ермаков.
– Адам. Вы же с Леней так меня назвали.
Снова Ермакову стало не по себе: что еще знает и умеет этот «новорожденный»?!
– Ты – мой Создатель, и я должен слушаться тебя, – неожиданно сказал робот.
– Что ты еще скажешь? – замирая сердцем, спросил Ермаков. Ему вдруг подумалось, что робот умеет угадывать мысли.
– Я создан не говорить, а слушать и исполнять.
– Но мне нужно получше узнать тебя… живого… Что ты можешь, чего хочешь?..
– Хочу все узнать об этом мире, – сказал робот и грациозно повел в стороны всеми четырьмя щупальцами-руками, показывая на горы, леса, на озеро и даже на небо, затянутое легкой светящейся дымкой. – Можно, я самостоятельно побегаю? Мне надо кое с кем поговорить.
– С кем, например? – спросил Ермаков, раздумывая, кого бы ему предложить в собеседники.
– Не с людьми, – сказал робот. – Вон с тем шариком.
Только тут Ермаков заметил огненный шар, примостившийся между камней у ручья. Этот шар был поменьше размером, чем в прошлый раз, и походил на желтый мяч, покрытый люминесцентной краской.
Когда робот, быстро перебирая длинными ногами-щупальцами, скрылся за камнями, Ермакову вдруг пришло в голову, что знакомство с этим таинственным природным явлением может быть небезопасно. Ведь и прошлый раз такой вот шар вел их по тропе. Вел к пропасти. Только осторожность спасла тогда. Кто знает, может, шары вели и роботов той трагической ночью?
– Назад! – крикнул Ермаков. Но робот не вернулся. Бежать следом за ним было бессмысленно: знал Ермаков, как быстро может бегать его «ребенок», сам закладывал в него программу.
Несколько раз он успел заметить своего Адама между деревьями по ту сторону озера, затем на горном склоне. Черный, он катился рядом с желтым шаром, словно хотел обогнать его. Потом эта пара исчезла в горах, и вскоре оттуда донеслось слабое эхо взрыва.
– Как тогда! – испуганно сказал Леня, подходя к Ермакову.
– Откуда у него такая прыть? – задумчиво произнес Ермаков. – Программа предусматривает самообучение, но не до такой же самостоятельности. Сделаем Еву, на привязи ее, что ли, держать?..
Тут на горной тропе застучали камни и послышались торопливые шаги: к ним сверху, от замка, быстро шел председатель Каменский.
– Где твой робот? – крикнул он еще издали. – Покажи, что он может.
– Ничего не может, – угрюмо сказал Ермаков.
– Зачем же ты его делал?
– Теперь я и сам этого не знаю.
Каменский стоял перед ним, высокий, плечистый и небритый, покачивался с пяток на носки, словно собирался прыгнуть. В его глазах было что-то недоброе, и Ермакову подумалось: будь робот на месте, председатель сейчас накинул бы на него узду, ошейник или что-то подобное и, как козу или собачонку, поволок к замку, к Обнорскому.
– Хитришь ты, Ермаков… Зачем мы тебя взяли?
– Затем же, зачем и других.
– Другие создают шедевры, а ты что делаешь?
– Пока что кормлю тех, кто создает шедевры…
– Вот и корми. Ты это умеешь – и делай. А другие будут творить произведения высочайшего искусства. Каждый должен заниматься своим делом.
– А я тоже буду писать стихи, – зло сказал Ермаков. – Мне это больше нравится.
– На Земле таких, как ты, поэтов – тысячи. Мы взяли сюда только избранных.
– А с чего ты решил, что я плохой поэт? Ты же ничего моего не слышал.
– И слышать необязательно, мы и так знаем, кто есть кто. – Помолчал, поглядывая высокомерно сверху вниз, и разрешил снисходительно: – Ну, прочти.
Ермаков усмехнулся, демонстративно выставил ногу как это делали некоторые поэты:
…Но для бездн, где летят метеоры,
Ни большого, ни малого нет,
И равно беспредельны просторы
Для микробов, людей и планет…
Каменский помолчал, подумал и махнул рукой:
– Сойдет для начинающего.
– Неужели хуже этого вашего шедевра: «Кричу опять: дважды два – пять!..»
– Да ты!.. Да вы!.. – задохнулся Каменский. – С первым же кораблем!.. На Землю!..
– До корабля надо еще дожить.
Они долго молчали, сердито косясь друг на друга. Растерянный Леня стоял поодаль, не решаясь подойти. Вдалеке кто-то бродил по берегу озера, взмахивал руками и выкрикивал несвязное. Кто-то монотонно стучал на хозяйственном дворе, то ли работал, то ли отбивал вдохновляющий его ритм.
– Ладно, – примирительно сказал Каменский. – Читай еще.
…возможно ли русское слово
Превратить в щебетанье щегла,
Чтобы смысла живая основа
Сквозь него прозвучать не могла?..
Каменский поморщился, пожевал полными губами.
– Поучиться бы тебе абстракции, сбить ритм, тогда… может быть… мы и приняли бы тебя… учеником, – сказал он. И спохватился: – А это ты сам написал?
– Это написал Николай Заболоцкий. Был такой русский поэт в древности.
– Я так и знал! – воскликнул Каменский. – Меня не обманешь! Нет, брат! Каждому свое: поэту – поэтово, роботу – роботово. А? Хорошо сказано? Надо где-нибудь использовать.
Он достал книжицу, принялся записывать понравившиеся слова. Удовлетворенный такой поэтической находкой, благодушно разрешил:
– Теперь показывай робота.
– А его нет.
– Как это нет?
– Убежал. За огненным шаром погнался.
– Зачем же ты его отпустил?!
– Ему еще учиться надо.
– Кому учиться? Роботу? Не смеши!
– Надо учиться, – упрямо повторил Ермаков.
– Да чему учиться? Воду качать? В огороде копаться? Мусор убирать? Обнорский сам скажет ему, что надо делать.
– Обнорский? Пусть он сам за собой убирает.
Каменский снова побледнел в гневе, но сдержался, не стал кричать и ругаться.
– Ладно, потом разберемся.
Но теперь не сдержался Ермаков.
– Робовладение тебе не напоминает рабовладение? – сказал он запальчиво.
– Не злоупотребляй каламбурами.
– Это не каламбур, а печальная истина. Рабовладельческая психология не слишком отличается от робовладельческой. А мы, соглашаясь, что одна позорна, даже преступна, по существу, утверждаем другую.
– Робот не человек…
– Не о роботах забота, о робовладельцах. Они-то – люди. Их разлагает эта психология, порождая паразитизм. Роботы создавались для освобождения человека от чрезмерно тяжелого, монотонного, изнурительного труда, а не от всякого. Не от всякого!.. Мы тут создали не Город высокой эстетики, а город бездельников, не умеющих трудиться и презирающих труд…
Он и еще бы говорил на эту тему, да Каменский как-то странно вдруг посмотрел на него и, повернувшись, пошел, почти побежал по тропе к замку. Оглянулся, крикнул издали:
– Ты сумасшедший! Тебя надо изолировать, пока чего-нибудь не натворил!..
– Это они все сумасшедшие, – сказал Ермаков Лене, обалдело смотревшего на него. – Жизнь, какой они живут, ведет не к развитию человека, а к деградации. Много будет бед, может быть, даже жертв. Но беды научат. У кого трудовая наследственность – вспомнят, выживут. Другие погибнут. Не от голода, так от сознания собственной беспомощности. Человек должен уметь делать всё или многое и ценить, любить это свое умение…
У него было тошно на душе в эту минуту. Не потому, что так уж было жаль, несомненно, обреченный Город эстетов. Ему вдруг подумалось: вирус робопаразитизма привезен с Земли, значит, он там гнездится в людях? Трудно было поверить в то, что человечество не справится с болезнью, но теперь он знал о ней и не мог успокоиться. Вот какую весть пошлет он на Землю в очередном сеансе связи. Если, конечно, удастся наладить связь без роботов. И это будет его «произведением», его «шедевром», созданным здесь.
В этот день Ермакову не работалось. Ходил по берегу речки в сопровождении молчаливого Лени и все думал, что ему теперь делать. Обнорский и другие хотели доказать землянам необходимость для эстетов особых, исключительных условий, даже отшельничества. Еще неизвестно, как будут приняты их творения, ибо не сиюминутные восторги, а время дает окончательные оценки. Пока же, по убеждению Ермакова, эстеты демонстрируют только одно – гибельность нетрудовой жизни для человеческой личности. Эксперимент приводит к непредвиденному ими результату. Хотя можно было предвидеть. В глубокой древности похожий эксперимент ставила сама история. Рабовладение привело к извращению подлинных человеческих ценностей, к распаду общества. Кое-кто пытался использовать этот распад в своих эгоистических целях, создав элиту избранных, для которых такое разрозненное на отдельные особи, ничем не сцементированное «общество», или, точнее говоря, стадо как раз и было нужно, поскольку стадом легче управлять. Но трудовая наследственность сказала свое слово в истории, создав в конце концов общество, где высшая ценность человека – умение трудиться – стала высшей ценностью общества.
Но вот появились роботы-слуги. История начала повторяться? В это не хотелось верить. И если уж тут, в Городе эстетов, возникла ситуация, похожая на модель будущего, то не попытаться ли довести эксперимент до конца. Чтобы выяснить не только то, как может деградировать общество, но и как оно может возродиться.
Было о чем подумать Ермакову. Помощника бы! Но единственный, кто его немного понимал, был Леня, не окрепший душой подросток. Поймет ли он все это, если уж взрослые не понимают? Подростков чаще завораживает внешний блеск, нежели глубокий смысл, до которого непросто добраться. Но другого советника не было, и Ермаков все чаще поглядывал на Леню, раздумывая, как рассказать все это мальчишке, чтобы не отпугнуть сложностью проблемы.
И тут он увидел прямо перед собой еще один огненный шар, небольшой, размером с кулак. Шар, будто мячик, отскакивал от камней со звуком легких ласковых шлепков. Но прыгал он не как попало, а устремляясь в одну сторону, вверх, в гору.
– Словно зовет за собой, – сказал Ермаков.
И впервые подумал, что огненные шары, возможно, отнюдь не природное явление. Что же тогда? Форма жизни?
– Как в тот раз, когда мы роботов искали – сказал Леня.
И тут Ермаков испугался. Куда на этот раз зовет шар? Туда же, в скалы? Чтобы показать разбившегося Адама?!
Он бегом бросился к шару, но тот отскочил строго выдерживая почтительное расстояние. Ермаков задыхался от бега, падал, сбивая колени об острые камни, но не останавливался. Почему-то в нем жила уверенность, что непременно надо торопиться, что можно куда-то не успеть. Леня не отставал, и Ермаков, оглядываясь, радовался этому, словно от мальчишки могла быть какая-то помощь.
Дорога была та самая. Вот и угол скалы, за которым обрывалась пропасть. Шар попорхал на углу огненным хвостом и исчез. Ермаков остановился подождал Леню, и вдвоем они осторожно пошли вперед. Увидели, как желтый, зыбучий, словно шаровая молния, огненный проводник сорвался с обрыва и полетел по снижающейся дуге к центру долины, простиравшейся глубоко внизу. Там, куда он летел, искрилось множество огненных точек. Они слипались в шар и шар этот, уже огромный, как дом, все продолжал расти переливаясь всеми цветами от ярко-малинового до ярко-оранжевого. Потом он стал ярко-голубым и все накаляясь, превратился в ослепительно белый. И вдруг тонкий прозрачный луч выметнулся из его середины, вонзился в блеклую пустоту неба. Теперь накалялся этот луч, а шар стал бледнеть, растворяться и, наконец, совсем исчез. Всплеснулось какое-то сияние на том месте, где он был, донесся далекий то ли вздох, то ли стон, и все исчезло. Ничто, совершенно ничто не напоминало о загадочном феерическом действии, только что разворачивавшемся в долине.
– Что это было? – прошептал Леня.
– Н-да, шарики-то, как видно, не простые, – задумчиво сказал Ермаков. – Сюда бы не эстетов, а ученых.
И вдруг он увидел там, внизу, желтый шар, движущийся не как все предыдущие, к центру, а в обратную сторону, бегущий стремительно и как-то странно, прыжками, словно его смертельно напугало происходившее в долине. Потом Ермаков разглядел, что это вовсе не огненный шар, а какой-то рыжий зверь, странно круглый, многоногий.
– Это же Адам! – воскликнул Леня.
Теперь Ермаков и сам понял, что это робот, только в стремительных движениях его было что-то незнакомое, незапланированное и, как ему показалось, агрессивное.
– Давай спрячемся, – сказал он Лене. – Посмотрим, что Адам будет делать.
Они легли на камни, поросшие редкими кустами, и сквозь ветки стали смотреть, как робот в легких прыжках перелетал через валуны. Достигнув обрыва, он не остановился, не побежал в сторону, а быстро, словно муха, полез по отвесной скале, цепляясь за ее неровности острыми шипами ног.
Робот вылез на площадку чуть левее, свирепо блеснул всеми четырьмя глазищами и, подобравшись как хищник перед прыжком, легко перескочил разделявшее их пространство. Здесь он сразу как бы погас, превратившись в уже известного им Адама, только какого-то нарядного, блестящего позолотой.
– Уф, – словно живой, отдышался робот. – Попрятались, люди называются. И не стыдно?
– Чего это ты меня стыдишь, своего Создателя? – сказал Ермаков, вставая и отряхиваясь. Он уже понял, что робот за это время не стал опасен, хотя и набрался откуда-то агрессивности.
– Я потерял к людям доверие.
– Терять можно то, что имеешь. А ты людей вовсе не знаешь.
– Теперь знаю. Это раньше я думал, что все такие как ты, Создатель.
– Когда раньше?
– Когда меня еще не было. Мне говорили, но я не верил.
– Кто тебе мог говорить?
– Они – махнул он рукой-щупальцем в блеклое небо. – Когда я еще не умел двигаться, но все понимал, приходил шар, объяснял, что люди, которым я должен был помогать, обречены, и лучше, если они поймут это раньше. А я не верил. Программа внушала мне, что нужно всегда помогать людям. Теперь знаю: помощь бывает во вред.
Ермаков попятился от края пропасти. Огненные шары, загадочная гибель роботов, неизвестно откуда взявшиеся необыкновенные способности Адама, события только что развернувшиеся внизу, в долине, – все это вдруг связалось единой мыслью, как единым стержнем.
– Ты что-нибудь узнал о шарах? Что это такое?
– Не «что», а «кто». Они изучали вас, а вы оказались недостойны контакта с инопланетным разумом
Вот оно! Ермаков зажмурился на миг. То, о чем он смутно догадывался, оправдалось. Мы в своей целеустремленности не догадываемся, что сами, в каждом своем желании и деянии, можем оказаться объектом исследования. Даже эстеты, вроде бы умеющие обостренными чувствами своими улавливать любую аномальность, ничего не заметили. Или они улавливают аномалии только своих личных ощущений, так сказать видят лишь самих себя?
– Недостойны? – с трудом выговорил Ермаков – Все?
– Кроме тебя, Создатель. Но ты ничего не решаешь в этом обществе.
– Здесь не все общество. Это лишь частица общества, к тому же не лучшая.
– Частица – отражение целого. Так Они говорят. Болезнь, угнездившаяся в одной части тела, незримо присутствует и в другой. Вы недостойны контакта…
– А ты?! – вдруг рассердился Ермаков. – Ты, созданный нашими руками, вобравший в себя наши мысли и желания, почему ты оказался достоин?
– Я им был нужен, чтобы сообщить решение.
– Почему ты, а не другие роботы?
– Другие были слугами.
– Ты предназначался для того же.
Адам как-то странно покачал глазами, выдвинутыми подобно четырем отросткам, и Ермаков понял, что этот жест означает «нет».
– Ты создавал меня, как равного себе. Ты думал так, когда меня творил.
Это была правда. Не знал он только, что мысль может передаваться рукам. Да, вероятно, помимо видимых движений рук, существуют еще и другие. Или какая-то передача мыслей и чувств через руки? А может, он, создаваемый робот, воспринимал их иным, неведомым способом? Или воспринимать помогали огненные шары?..
– Ты мог бы сообщить это, нет, не только здесь, а там, всем людям на Земле? Рассказать, почему мы оказались недостойны контакта?
– Да. Они этого хотели.
– Значит, собираются вернуться? – обрадовался Ермаков.
– Возможно. Лет через сто.
– Ну, хоть так, – облегченно вздохнул он и посмотрел на Леню, вытянувшегося, напряженно ловившего каждое слово. – Слышишь, Леонид? Ждать придется тебе.
– И мне. Я дождусь, – сказал Адам.
– И тебе. Тебе и Лене. Вам двоим предстоит сохранить память об этом моменте и готовиться к встрече. И готовить людей, разъяснять вред робовладельческого паразитизма. Это будет непросто, очень непросто.
– А вы? – спросил Леня.
– Я тоже буду разъяснять. И я постараюсь… дожить…
Теперь ему было легко. Он уже знал, что будет делать не только сегодня и завтра, но и через десять лет. Ему предстояло сделать все, чтобы Лени не коснулся этот неопаразитизм, чтобы он в своей жизни не только много знал, но и много умел, не только мечтал, но и делал. Делал своими руками. Через руки приходит к человеку уверенность в себе, нравственность, гордость и достоинство. Лишь через руки, умеющие делать все. Теперь он, Ермаков, будет самым яростным глашатаем радости простого труда. Потому что теперь он, как никогда, знает: мало твердить о будущем в наших мечтах, в наших сердцах. Светлое будущее становится реальностью, когда про него можно сказать, что оно в наших руках…
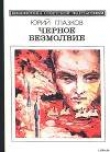
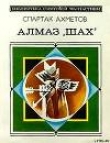



![Книга Здравствуй, Галактика! [Сборник] автора Владимир Рыбин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zdravstvuy-galaktika-sbornik-138648.jpg)