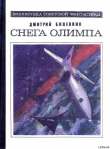Текст книги "Гипотеза о сотворении (сборник)"
Автор книги: Владимир Рыбин
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Я поежился от этой мысли. Вспомнилась давно позабытая детская сказка, где по ночам мертвые выходили из могил и бродили молчаливыми толпами, пугая людей. Мелькнуло шальное: уж не попали ли мы на тот свет? Я испуганно оглянулся и в глазах Пандии тоже увидел испуг: видно, и ее донимали страшные мысли. Она-то со своей обостренностью чувствования, пожалуй, раньше меня должна была испугаться.
А вокруг была тишина, не нарушаемая ничем, и от этой тишины, от безмолвного движения за окнами, от пустых, ничего не выражающих глаз всех этих существ становилось не по себе.
«Ты же разведчик, – кольнул я себя ехидной мыслью. – Дело разведчика не только прорываться туда, где никто не бывал, но находить выход из любых положений».
Я посмотрел на женщину-экокурсовода. Она сидела неподвижно, с высоко поднятой, чуть откинутой головой, отчего ее пушистые волосы стлались по подлокотнику кресла. Мне показалось, что она к чему-то прислушивается.
– Можно спросить? – прошептал я.
Большие раскосые глаза ее округлились, губы сложились в трубочку и послышался тихий, довольно мелодичный свист.
– Тс-с, не мешайте детям думать! – громыхнул над головой металлический голос переводчика.
Я тотчас ухватился за возможность задать новый вопрос:
– Какие же они дети?..
Женщина повернулась, показала мне, как надо сесть. Я последовал ее примеру, прижался ухом к спинке кресла и сразу услышал тот же голос, но уже тихий, словно бы доверительный:
– Да, они еще дети. Им нет и сорока лет.
Мне стало не по себе. Мой сорокалетний юбилей отмечался как раз перед этой экспедицией. Тогда товарищи говорили, что я давным-давно созрел не только для героических подвигов в космосе, но даже и для семейной жизни. А я краснел как мальчишка, пряча глаза от Пандии, присутствовавшей на юбилее, которая почему-то и не думала краснеть, хотя отлично знала, что и в ее огород этот камешек.
Может, экскурсоводша имела в виду то, что все мы до седых волос в чем-то не перестаем быть детьми? Я понимающе улыбнулся ей и сказал неожиданно:
– У вас красивые волосы.
Она скосила на меня свои глазищи, и я увидел в них не привычное холодное равнодушие, а что-то вроде любопытства.
– И глаза у вас удивительные.
Ее губы шевельнулись, что я расценил как улыбку и, воодушевленный, начал торопливо придумывать очередной комплимент, торопясь закрепить наметившееся взаимопонимание. Но в голову, как назло, лезли одни банальности, вроде все того же «у вас красивые…».
– Однако! – игриво сказала Пандия.
Женщина кольнула ее взглядом и повернулась ко мне, что я расценил как готовность продолжать этот разговор.
– Я так и знала! – произнесла Пандия.
– Что ты знала? – всполошился я.
– Да уж чувствовала.
Не приходилось сомневаться в ее предчувствиях, но тут она, по-моему, перестаралась.
– С вами приятно разговаривать, – сказал я женщине. – Вы умница, все-то понимаете.
– Да, мы все понимаем, – ответствовала она.
– Куда уж понятнее! – тотчас вставила Пандия.
– Хорошо у вас, – сказал я, обводя рукой широкие окна. – Мне тут нравится.
– Оставайтесь…
– Что?!
– Оставайтесь, – повторила женщина и улыбнулась в точности так, как улыбаются земные красивые женщины – изящно и обворожительно.
– Как это?
– Очень просто. Оставайтесь, и все. Вы узнаете много такого, чего не знает никто на Земле.
– Где? – опешил я.
– На Земле. Так ведь называется ваша планета?
– А… откуда вы знаете, что мы с Земли?
– Мы узнали это сразу, как только ваш корабль материализовался из вакуума.
– А что вы еще узнали?..
– Все, – сказала она, почему-то покосившись на Пандию. И вдруг добавила: – Оставайтесь, у нас многие остаются.
Это было совсем уж неожиданно.
– Вы хотите сказать?..
– Да, именно это. Вы не первые у нас.
– А кто еще был?
Я начал вспоминать историю наших сверхдальних экспедиций, но Пандия, каким-то образом поняв, о чем я думаю, сказала раздраженно:
– Не о нас она, не о нас.
Я все никак не мог согласиться с мыслью, что планета, на которую мы попали, возможно, и есть один из тех перекрестков космических миграций, о существовании которых ходили легенды среди космонавтов. Попасть на такой перекресток означало найти дороги ко многим обитаемым мирам.
– А кто еще тут был? – снова спросил я.
– Перечисление вам ничего не даст, – ответила женщина.
– Значит, мы – одни из многих? Этим объясняется безразличие к нам? Значит, вы просто, как говорится, устали от визитов?
– Не этим. Ваша цивилизация ничего не может дать нам.
– Но вы же нас не знаете.
– Знаем, – бесстрастно возразила она.
– Откуда?
– Из анализа ваших излучений. В том числе и таких, которые вы никак не фиксируете. Анализы были проведены еще до того, как ваша лодка опустилась на нашу планету.
– Так не бывает! Чтобы одна цивилизация ничем не заинтересовала другую? Не бывает!..
Женщина никак не отреагировала на мое восклицание. Отреагировала Пандия. Скользнув томным взглядом поверх моей головы, она изрекла:
– Что поделаешь, дорогой. Вы их не интересуете.
Ситуация была настолько неожиданной, что я не обратил внимания на эту язвительную реплику. Было такое ощущение, словно меня вежливо попросили удалиться. Я тупо смотрел на проплывавшие за окнами все те же поля и перелески, на все так же неподвижно сидящих перестарков-детей и не смел поднять глаз на женщину-экскурсовода. Наконец до меня дошло, что это мое предположение никак не вяжется с их безразличием к нам. Ведь если им все равно, есть мы тут или нет, то откуда вдруг возьмется желание избавиться от нас? Желание – это уже не безразличие. И я решил сделать вид, что не понимаю намека. Если мы их не интересуем, то они-то нас очень даже интересуют. Сами, не способные ни о чем просить, они, похоже, не умеют отказывать в просьбах. Остановилась же эта гусеница, когда Пандия кинулась ей навстречу…
– Трудно поверить, что наша цивилизация ничем не может обогатить вашу, – завел я все ту же пластинку.
– Мы избегаем новой информации. Мы многократно убеждались, что новая информация – это лишь новое толкование давно известного…
– Новое – хорошо забытое старое, – подсказала Пандия.
– Нет ничего такого, чего бы мы не знали или не могли бы узнать при желании.
– А желаний нет, – снова вставила Пандия. – Какой уж тут интерес, если желаний нет.
– Желания отнимают время, – как ни в чем не бывало продолжала женщина. – Каждому из нас не хватает жизни на то, чтобы усвоить уже накопленные знания.
У меня вдруг пропал интерес к этой планете. Что это за жизнь без желаний! Простая передача накопленных знаний от поколения к поколению? А рост, а дальнейшее развитие? Возможны ли они, когда никто ничего не хочет? Это же как у муравьев: одно и то же, одно и то же из поколения в поколение. У муравьев жизнь по биологическому стереотипу, а тут по социальному?
Теперь было понятно, почему нет связи с кораблем. Они отгородились от излучений космоса, не желая ничего знать сверх того, что им уже известно.
Ну что ж, на нет, как говорится, и суда нет. Но мы-то не дошли до такой жизни, нас-то у них многое может интересовать. А раз так – держитесь, уважаемые пандорцы! Пользуясь вашей долготерпимостью, мы будем совать нос повсюду…
– Я должна кое-что объяснить, – сказала женщина. – Наша долготерпимость небезгранична.
Мы с Пандией переглянулись, и я понял, что думали мы с ней об одном и том же. Обоим нам стало не по себе от этого объяснения женщины-экскурсовода. Значит, она читает наши мысли? Значит, мы действительно ничем не удивим их, поскольку все, что мы знаем, – в наших мыслях?
– Но ведь не бывает такого, чтобы одни ничем не могли быть полезны другим! – воскликнул я, никак не желая примириться с мыслью о своем ничтожестве.
– Ничем, – холодно сказала женщина. И показала на окна: – Мы возвращаемся, вы можете выйти.
За окнами уже поблескивали вдали металлические корпуса зондов и катера. И никого вокруг. Похоже было, что на этой уставшей от знаний планете и в самом деле не нашлось ни одного любопытного, кого бы заинтересовали наши аппараты.
– Высокоразвитая цивилизация не может быть негуманной, – сказал я, не желая отступать.
Женщина поняла сразу все – и что я хотел сказать, и то, о чем только собирался подумать.
– Мы не нуждаемся в новой информации. Но вы можете получить любую. Что же вас интересует?
– Все! – сразу отозвалась Пандия.
– Все не может интересовать никого. Любое разумное существо, как и общество в целом, может понять лишь очередной этап знаний.
– При таких возможностях нам трудно конкретизировать вопросы. – Я решил схитрить. Говорил и старался не думать о том, что вертелось на языке, чтобы не выдать себя. – Но мы рассчитываем на вашу помощь.
– Мы никому не отказываем в помощи.
– Вы не могли бы выйти вместе с нами?
– Зачем?
– Нам нужно спросить у вас…
– Спрашивайте.
– Это нужно там… в нашем катере.
– У вас неисправность? Я пришлю тех, кто вам поможет.
– Нет, все в порядке… Нам только спросить. Но лучше спросить там, в катере…
Я совсем измучился от необходимости говорить одно, а думать другое, чтобы она не угадала моей хитрости. Мне казалось, что если она сама увидит нашу технику, то поймет, что и мы не лыком шиты, и тогда возникнет обоюдный интерес, так нужный для контакта.
– Вам необходима привязка к аппарату? – спросила женщина. – У вас нет самостоятельности?
– У некоторых – никакой, – не упустила Пандия возможности съязвить.
– Экскурсия не может остановиться. Дети ушли в свои мысли, дети учатся, и я не вправе прервать этот процесс. Но если вам нужно, я вернусь. Доведу экскурсию до конца и вернусь.
Мы вышли из гусеницы, и она снова засучила своими бесчисленными ножками, заторопилась дальше. Последний раз мелькнули в окнах все такие же равнодушные лица, последний раз изогнулось за бугром длинное тело поезда, казавшееся живым, и мы остались одни на лугу в окружении своих зондов. Солнце перевалило за полдень, слабый ветер приятно холодил лицо, было тихо и спокойно на этой странной планете, которой мы были нисколечко не нужны.
– Что говорят на этот счет твои инструкции? – ехидно спросила Пандия.
– Они говорят, что так, как ты, нельзя себя вести при контакте.
– А как ты, можно?
– Что я такого сделал?
– Так вести себя с незнакомой женщиной! Она же инопланетянка.
– Вот именно. А я разведчик. Ты не забыла?
– Я ничего не забываю.
– Мне полагается вести себя так, как я нахожу нужным.
– Ну-ну, – ехидно сказала Пандия. – Ты большой мастер своего дела.
Я разозлился. Это было наконец смешно, вести такие разговоры в такой момент.
– Неужели нам нечего больше обсудить?
– Еще наобсуждаемся. Ты же видишь, какие они. Тут хоть оставайся. А позлить тебя так интересно!
– Ты сама злишься.
– Я? Больно надо!
– Тебе не кажется, что мы ведем себя здесь как-то странно?
– По-моему, ты всегда такой…
– Встретились с иной цивилизацией, а думаем о каких-то пустяках. Увязались в эту дурацкую экскурсию, ведем праздные разговоры вместо того, чтобы заниматься исследованиями… Бывало, обыкновенная букашка с другой планеты вызывала бурю…
– Они мне сразу не понравились, – сказала Пандия.
– Кто?
– Эти отупевшие от учебы «дети», эта гражданка из поезда-гусеницы. Послушай! – схватила она меня за рукав. – Может, дети – вовсе не дети, а космонавты вроде нас? Те, которых уговорили тут остаться?..
– Ну у тебя и фантазия! – сказал я, внутренне поеживаясь от такого предположения. – Тебе бы фантастические романы писать.
– А что?! Это же очень-очень развитая цивилизация. Бездна знаний. Пока их переваришь…
– В этом что-то есть, – признал я.
– Наконец-то заметил!..
– Погоди ты… – Я задумался. – Ты сказала: «пока переваришь»?
– Да, а что? Ведь если у них бездна знаний, то и переваривать эти знания нужна бездна времени.
– Ну?
– А жизнь ограничена. Биологические рамки не раздвинешь…
Меня поразила эта мысль, и я, воодушевленный неожиданной идеей, собрался добавить что-то свое. Но вдруг увидел, как глаза Пандии округлились в ужасе. Оглянулся и чуть не шарахнулся в сторону: возле меня, буквально в метре, извивалась, шевелилась, хватала воздух голая по локоть человеческая рука. Ничего вокруг, только эта рука, беззвучно ищущая что-то в пространстве. Самое ужасное было в том, что рука была мне знакома – белая, мягкая, какая-то по-особому пластичная.
Я глянул на Пандию: руки у нее были на месте. Да и понял, что эти изнеженные пальцы никак не могли принадлежать Пандии, чьи руки всегда лезли не в свое дело и потому были исцарапаны и исколоты.
А рука все трепыхалась в воздухе. Наконец, она ухватила что-то, медленно согнулась в локте, и мы увидели выходящую прямо из пустоты нашу знакомую аборигенку.
– У меня что-то заедает в системе подпространственного перехода, – произнесла она на чистом русском языке. Точнее, произнесла не она, поскольку губы ее даже не шевельнулись. Голос, мягкий, певучий, исходил из маленькой коробочки, прикрепленной у нее под горлом. – Так что вам нужно? Говорите скорей.
– А чего говорить, если вы сами все знаете.
У меня это вырвалось непроизвольно, и я тут же пожалел о сказанном, испугавшись, что она попросту обидится и исчезнет. Но, видно, даже обижаться не было в привычке у этих пандорцев.
– Конечно, знаем, – сказала она все тем же безразличным тоном. – Вы все, не только земляне, но и все другие тешите себя нелепой надеждой, что можно у кого-то что-то подсмотреть, перенять. Так ведь?
– А что в этом плохого?! – вскинулась Пандия.
Аборигенка даже не повела глазом в ее сторону, сказала, по-прежнему обращаясь ко мне:
– Плохо то, что вы себя обманываете. Перенять чужое – значит воспользоваться чужим, на это могут рассчитывать только нравственно несовершенные существа.
– Ну, знаете! – опять не выдержала Пандия.
– Чужие знания могут быть поняты лишь в том случае, когда свои близки к ним. Но тогда чужое и не нужно. Не в использовании чужого, а в развитии, совершенствовании своего – путь всякого прогресса.
Я видел, как Пандия нервно передернула плечами: вместо обоюдоинтересного контакта приходится выслушивать назидательно-приторную нотацию, на которые горазды и свои, земные, лектора. Это называется – напросились.
– Но мы хотели не только узнать о вас, но и сообщить вам о себе.
– Зачем?
– Как это зачем? Как зачем?!.
Теперь я не глядел на Пандию. Если уж мне невмоготу выслушивать такое, представляю, каково ей.
– У нас существует запрет на собственные знания, зачем же нам ваши?
– Как это запрет на знания?
– Я так и знала: вам неизвестен биологический предел познания. Хотя трудно поверить, что ваши ученые не додумались до сравнительного анализа созревания биологических систем…
Что-то знакомое было в ее словах. Будто бы только что я думал об этом самом. Думал, да почему-то недодумал.
Мы так и стояли посреди поля, и было в этой беседе что-то непонятное, противоестественное. Солнце, желтое, как лимон, клонилось к горизонту, и тень от стоявшего неподалеку нашего разведочного катера тянулась к нам по ярко-зеленой траве, словно подкрадывалась.
Не так, совсем не так представлялся мне первый контакт с представителями иной цивилизации. Сесть бы друг против друга в салоне нашего катера, который, право же, был совсем не плох для такого случая, да угостить инопланетянку как следует, да поговорить по душам, никуда не торопясь. А то получалось, что разговариваем, как прохожие, – здравствуй и до свидания.
– Пожалуйста, будьте добры, пойдемте к нам, – залопотал я, подобострастно жестикулируя, чуть не кланяясь.
Женщина удивленно посмотрела на меня и, как мне показалось, только из жалости направилась к катеру. Пандия шла следом и молчала, и я рад был, что молчала, потому что в эту минуту больше всего боялся ее ехидного язычка.
Войдя в салон, женщина мельком огляделась и никак, ни словом, ни взглядом не выразив своего отношения к увиденному, повернулась ко мне.
– Давайте знакомиться! – торжественно произнес я. – Меня зовут Андреем, ее – Пандией. Мы представители миролюбивой и дружественной планеты Земля…
– Это я знаю, – резко прервала меня женщина. И вдруг добавила: – Меня зовут Ная.
– Многоуважаемая Ная! Прежде чем мы начнем беседовать, пожалуйста, познакомьтесь с нашей земной цивилизацией, с нашей историей, культурой… Мы вас очень просим, – добавил я совсем уж слащавым тоном.
Не знаю, что на нее подействовало, – убедительность слов или мольба, явственно прозвучавшая в моем голосе, – только она, ни слова не говоря, ни о чем не спрашивая, шагнула к креслу, тому самому, в котором обычно мы брали сеансы самообучения, и села в него. Так-таки подошла и села, словно заранее знала, куда и как садиться, словно это было ей не впервой. Я предложил ей надеть наушники, но она сказала, что и так все услышит. Я попросил ее быть внимательной, поскольку изображения на экране меняются довольно быстро, но она удивленно посмотрела на меня. То есть она только подняла свои ставшие круглыми, как у кошки, глазищи, и я решил, что она именно удивлена. Или это была такая телепатия, внушение взглядом?
Объяснять больше было нечего, и я включил информационную систему. Для начала решил показать нашу историю, все, что было хорошего и плохого за много тысячелетий существования рода человеческого.
– Быстрее, – сказала она.
Я увеличил скорость подачи информации, решив, что самые ранние периоды истории ее не заинтересовали.
– Быстрее.
Снова прибавил скорость и счел нужным предупредить:
– Дальше будет интереснее…
– Быстрее, – перебила она меня.
Подскочила Пандия, до сих пор молча стоявшая в стороне, включила информаппарат так, что он завизжал.
– Тебя же по-человечески просят: быстрее, – со злорадством проворчала она.
Это была совсем уж безумная скорость, однако Ная ничего не сказала, сидела со скучающим видом, смотрела на экран, на котором ничего нельзя было разобрать – оплошная толчея цветолиний.
Общая история человечества проскочила быстро. Экран побелел на мгновение и снова замельтешил тенями. Дальше была история научных открытий с бесчисленными формулами и цифрами, над каждой из которых думать да думать. И Ная задумалась, уставив свой все еще равнодушный взгляд в мерцающий экран. А потом протянула руку к экрану, и… мерцание прекратилось.
– Это неинтересно, – оказала она. Изобразила пальцами какую-то фигуру, и экран сам собой снова замерцал. Изображения теперь мелькали не так быстро, как вначале, и я разглядел, что Ная снова смотрит фрагменты общей истории. Как она, впервые увидевшая нашу технику, переключила все по-своему, мне было неведомо. Но факт оставался фактом: она разбиралась в нашей технике не хуже нас самих. Эта ее способность все мгновенно понимать восхитила и ужаснула меня. Получался не контакт, а какое-то совершенно не равное общение. Такое я чувствовал только один раз в жизни, когда мальчишкой-первогодком впервые оказался в учительской перед бородатыми педагогами. Тогда я уже совершенно точно знал, что учителя существуют для меня, а не наоборот, но не мог отделаться от ощущения, что я для них что-то вроде червячка-мотыля, который рассматривают со всех сторон, прикидывая, как получше насадить его на крючок.
И вдруг до меня дошло, что ведь она, всезнающая инопланетянка, смотрит то, что уже смотрела. Значит, что-то ее заинтересовало?
– Вы что-то ищете? – опросил я, наклонившись к Нае. От ее волос пахло цветами, напоминающими ароматы, любимые Пандией.
Она повернулась ко мне, и я впервые так близко увидел ее красивое, чуть бледноватое лицо, ее глаза, в которых уже не было прежнего безразличия.
– Я еще не знаю, что именно, – сказала она с какой-то новой интонацией в голосе.
Это было уже немало. Во всех инструкциях сказано, что при контакте не следует пугать аборигена своими знаниями или незнаниями, а необходимо проявлять чуткость даже к незначительным проявлениям интереса. Другими словами: надо подлаживаться и делать вид, что тебя безумно интересует то, что заинтересовало его, хоть это, по-твоему, и сущая ерунда.
– Вы скажите, я вам помогу.
– Не знаю… Может быть… Пожалуй, нам надо лучше познакомиться.
– Куда уж лучше, – бросила Пандия из своего угла, куда она забилась, как неприкаянная, и сидела там в кресле, забравшись в него с ногами. Она почему-то показалась мне страшно одинокой в эту минуту, всеми позабытой.
Ная взяла меня за руку и, ни слова не говоря, властно потянула к выходу. Рука у нее была мягкой, невесомой, но неприятно холодной.
– Иди, иди, разведчик, – ехидно бросила Пандия.
Я на миг возмутился, хотел сказать, что обязанность разведчика не только первым бросаться в огонь и в воду, а проникать в неведомое, в том числе и в неведомые глубины психики инопланетян. Но ничего не сказал. А в следующий миг уже не мог ничего сказать, потому что люк катера за нами сам собой закрылся. Не выпуская моей руки, Ная прошла немного, мягко ступая по жесткой траве, потом резко повернулась, положила руки мне на плечи и близко, в упор, уставила мне в глаза свой пристальный колючий взгляд, от которого я словно ослеп, как слепнут от яркой вспышки. Еще ничего не видя, почувствовал, что она сняла руки с моих плеч.
– Теперь можешь оглядеться, – послышался рядом ее голос, звучавший так, словно мы находились не в поле, а в закрытом помещении.
Медленно, очень медленно проступали контуры предметов. Собственно, предметов почти и не было никаких, – только два кресла с высокими подголовниками и обычный журнальный столик с зеркальной поверхностью. А вокруг – стены. А может, это были и не стены вовсе, так, туман, плотный, слабо люминесцирующий.
– Тут я живу, – сказала Ная. – Садись.
Только теперь я заметил, что она обращается ко мне, как старая приятельница, – на «ты». Это обрадовало: значит, есть контакт, есть доверительность. Хотя кто знал, что означал у них переход на «ты»?
– Неуютно живешь, – в тон ответил я. – Никакой мебели. Где же ты спишь?
– Там, – махнула она рукой куда-то в туман. – А это, как это у вас? – гостиная.
Я подумал, что гостей она принимает не иначе как только по одному, раз тут всего два кресла.
– Сейчас больше не нужно, – сказала Ная, прочитав мои мысли. И неожиданно улыбнулась. Или мне только показалось, что улыбнулась, потому что глаза ее сощурились и блеснули, а лицо смягчилось и стало еще красивее. – А когда нужно, мест может быть сколько угодно. Смотри.
Она провела ладошками по гладкой поверхности столика. Я смотрел за ее руками и ничего особенного не видел: столик как столик, руки как руки. Только свет вроде как изменился, стал темновато-розовым.
– Не сюда смотри, вокруг.
В недоумении я даже встал с кресла. Стены исчезли и вокруг до самого горизонта, над которым висел розовый блин местного солнца, простирался хаос геометрических фигур. Это был город. Несомненно, город. Насколько мне известно, природа нигде еще не создавала таких четко разлинеенных ландшафтов.
Паутина улиц вдруг ожила, дома, если только это были дома, начали перестраиваться. Через мгновение я понял, что это всего лишь меняется точка зрения, – Ная, видимо, решила показать свой мир с разных сторон, – но первое впечатление от этого подвижного города было настолько ошеломляющим, что я не сразу расслышал ее объяснение.
– …все, что хотим, мы имеем, все, что можно узнать, – знаем. Ты, конечно, скажешь: все знать нельзя. Верно. Но мы не можем знать больше, на новые знания нас уже не хватает. Жизнь очень коротка, всего лишь двести лет. Но это максимум, доступный далеко не всем. До пятидесяти лет мы еще дети, до ста длится развитие мозга. Только к ста двадцати – ста сорока годам мы успеваем переварить массу знаний, накопленную до нас. Едва человек становится зрелым, способным на самостоятельную деятельность, как уже кончается жизненный ресурс…
Я был поражен. Но не тем, что она сказала, а недавней проницательностью Пандии, словно бы почувствовавшей, с чем мы тут столкнемся, и ни с того ни с сего вдруг заговорившей именно о возможности существования биологических рамок для разума, знаний, прогресса. Сколько раз убеждался ее удивительной, некому не понятной способности предугадывать будущее, и вот опять…
– Может быть, ты хочешь узнать, увидеть всю нашу историю?
– Да, конечно, – машинально сказал я, потому что как разведчику отказываться от возможности разом узнать все. Но в этот момент в мыслях у меня была Пандия, и я, подумав, что на ознакомление со всем прошлым и настоящим планеты уйдет уйма времени, нерешительно покачал головой.
– Все можно просмотреть очень быстро, – поняв причину моего отказа, оказала Ная. – Разве вы не знакомы с особенностями мозга лучше запоминать быстро мелькающие изображения? Информация, подаваемая на пороге восприятия, ложится сразу в долгую память, в подсознание. Разве ваш мозг устроен иначе?
Наш мозг не был устроен иначе. И наши педагоги тоже знают эту особенность мозга и успешно используют ее в обучении. Вот только, насколько мне известно, никто еще до конца, не объяснил механизм подобного восприятия. Я еще раз порадовался обнаружившейся очередной общности между нами, но снова отрицательно затряс головой. Мне было жаль Пандию, мучающуюся теперь в безвестности. Ведь ничего она не знает, куда я исчез и надолго ли. Хотел сказать об этом Нае, но вдруг увидел ее глаза, снова ставшие холодными, отстраненными, и промолчал. Не каждый день бывают подобные встречи, и нельзя, просто недопустимо не использовать до конца наметившееся взаимопонимание. Я только намекнул, что предпочел бы ограничиться знакомством с настоящим. Ведь и прошлое можно понять, если узнать настоящее.
Ная ничего не сказала, но виды за этими исчезающе туманными стенами вдруг начали меняться. Замелькали уже знакомые мне гусеницы-сороконожки, большие и малые, существа, похожие на людей, что-то делающие, сидящие перед широченными экранами, идущие, бегущие, даже плывущие где-то в море, открытом до горизонта. И еще то ли живые существа, то ли механизмы, прямо-таки нагромождения этих многоруких и многоногих, сползающихся и разбегающихся в разные стороны. То ускоряющиеся ритмы движения, то совсем замедленные, то стеклянное многоцветье, а то серая пустота перед глазами, сплошной туман, в котором копошились какие-то тени. Кто и что делал в этом мире, было совершенно непонятно, и я уже готов был признать, что не только прошлое, но и вообще ничего нельзя узнать, глядя на калейдоскоп этого настоящего.
И тут вдруг замелькали перед глазами детские мордашки, обыкновенные наивные и неизменно восторженные, милые. И другие – постарше возрастом, и еще постарше, и еще. Вот они уже и с легкими бородками, а все глуповатые, бегающие друг за другом, играющие в мячики, плаксиво хныкающие. Неловко было смотреть на этих инфантильных бородачей, казалось, что все они просто психически больны. «Что ж, – думал я, – и самые развитые цивилизации, наверное, не гарантированы от дегенератов… Но почему Ная решила показывать мне именно дегенератов?.. Да нет же, – одернул я себя. – Она же говорила, что до пятидесяти лет тут все – дети. Но почему?..»
– Почему? – Ная следила за моими мыслями – Ведь и вы платите такую же цену за прогресс эволюции, только пока что не столь большую…
– Да нет же! – решительно возразил я. Не потому возразил, что был совершенно уверен в ее неправоте, просто ужаснулся перспективе такого прогресса.
– Я вывожу это из вашей истории, которую вы только что мне показали. «Мозг пятимесячного человеческого зародыша… есть мозг обезьяны, подобной мартышке…» Так признавал знаменитый ваш ученый Дарвин. А мозг новорожденного человека не слишком отличается от мозга новорожденного шимпанзе. Точка отсчета почти равная. А дальше? К пяти годам мозг обезьяны созревает и больше не развивается. А человек в это время еще ребенок. Мозг человека окончательно оформляется анатомо-физиологичеоки лишь к восемнадцати годам. Так что и у вас затянуто детство…
– Но не настолько же! – вырвалось у меня.
– Вы привыкли к десятилетним детям, мы – к сорокалетним. Дело только в привычке…
– Не только!
– Не только, – вдруг согласилась Ная. – Есть у вас еще что-то, дающее основания верить, что вы не попадете в тупик, подобный нашему.
– Вот!..
– А что именно, никак не пойму…
Теперь, когда она избавила меня от страшного видения эволюционного тупика, я сам начал думать о нем всерьез. Детство человека в сравнении с детством обезьяны затянуто, вероятно, ровно настолько, насколько человек ушел от обезьяны. Ведь детство – это основное время обучения, перенимания навыков и умений, накопленных предками. А если наши потомки так же далеко уйдут от нас, не будет ли и человечество обречено на столетнюю инфантильность? Ведь может получиться, как говорила Пандия: знаний будет столько, что их и за сто лет не переваришь.
Теперь я с тоскливым равнодушием глядел на чужую жизнь, все еще мелькавшую вокруг за исчезнувшими стенами. Мы живем надеждами, и потому гипотезы о космических катастрофах нас не пугают. Уверены, что к тому времени, когда такая опасность станет реальностью, мы обязательно что-нибудь придумаем во спасение свое. Мы допускаем, что надежда эта может оказаться самообманом, но совершенно не приемлем безнадежности. А тут вдруг появилась перспектива именно безнадежности, возникла реальная картина тупика. Жизненный ресурс указывал предел нашему развитию.
– Нет, у вас что-то не так, – оказала Ная, – а что – не пойму. Надо еще раз заглянуть в ваше прошлое.
– Почему в прошлое? Если уж интересоваться, то настоящим.
– Ты же сам сказал: настоящее можно понять, узнав прошлое.
– Я сказал наоборот.
– Если есть связь в одном направлении, то она будет и в обратном. Я хочу посмотреть именно прошлое. И давай поторопимся, а то твоя невеста без тебя улетит.
– Какая невеста?! Почему это она моя невеста? – не задумываясь, выпалил я с той же энергией, с какой отвечал на подобные подковырки еще там, на Земле.
Ная улыбнулась. Да, на этот раз именно улыбнулась. Только одними губами. Глаза оставались отчужденными, словно бы углубленными в какие-то свои заботы.
– Вы, люди, право же, как дети. Многого не знаете, а может, и знать не хотите, но это вам не мешает быть уверенными в себе, в своем будущем. Вы, как путники, забывшие о дороге, о том, что прошли непомерно много и пора бы устать. А вы не устаете. Чего-то мы в вас недопоняли. Пойдемте, я еще раз хочу посмотреть на путь, пройденный людьми…
Она вдруг быстро оглянулась, словно испугалась чего-то. Тотчас возникли туманные стены, отгородили от нас непонятную жизнь этой планеты.
– Дай руку, – сказала Ная, вставая. – Да быстрей, быстрей, а то опоздаем.
Я встал и подал ей руку, недоумевая, чего это она так заторопилась? Туманные стены сразу придвинулись, заволокли все вокруг серой пеленой. И тут же растаяли. И я увидел Пандию, лежавшую в кресле с откинутой спинкой. Подумал, что она спит, и, не желая ее будить, стоял и молчал, любовался ею, радовался ей, словно не видел целую вечность. Но она почувствовала, что я тут, резко обернулась и вскочила, кинулась ко мне, затормошила в неистовой радости.
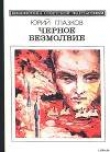
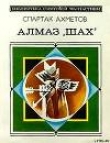



![Книга Здравствуй, Галактика! [Сборник] автора Владимир Рыбин](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zdravstvuy-galaktika-sbornik-138648.jpg)