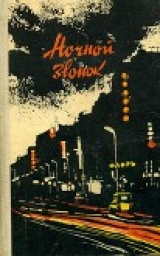
Текст книги "Марченко и варнаки"
Автор книги: Владимир Измайлов
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
Чудно: по-разному взятые им люди, всяких пределов преступности, они только что морально были на его стороне в поединке со скрытниками, словно даже уголовники были более умными и понимающими, чем сами «старцы», они даже гордились, что самим Марченкой «повязаны» – честь, которой эти темные фанатики и оценить-то не могут! А сейчас даже старцы были как бы допущены в этот странный эфемерный «коллектив» задержанных везучим и удалым милиционером, объединенный общим благородным презрением к самом недостойному из них, предавшему даже звериную уголовную дружбу, нарушившему даже волчьи законы их, и потому подохшему какой-то по-особенному презренной смертью.
Но даже и такого смутного намека на мимолетную тень общности не желал Марченко! И не только потому, что боялся потерять бдительность, расслабиться – он знал, что бесконечная напряженность не менее опасна, – он хотел только обнаженной и беспощадной ясности: люди, совершившие тягчайшее преступление перед Родиной во время войны, имеют дело только с Законом, и он, Марченко, представляет собой праведную и жестокую неотвратимость исполнения Закона. Вон с алтайцев уже пообдуло за эти дни налет придурковатости, задумываются впервые, может, не только о ждущей их тяжкой ответственности, но и о тяжести непростимых грехов своих. Скрытников вряд ли сломишь, но в темные головы их, похоже, вкрадывается мысль о неизбежности «покориться и постраждать», да и не примут, отринут они любую мягкость «анчихристова слуги». Уголовники… Брезгливого презрения к ним Марченко, и захоти, так не мог бы преодолеть. Марченко чувствовал себя не только бесконечно выше всех их, но и бесконечно сильнее ч и с т о т о й нечеловечески трудных обязанностей своих и не смог бы унизиться до физической жестокости даже к самому подлому из варнаков. Но зато и не мог, и не хотел даже намека на душевное сочувствие, даже на внешнее понимание их горькой доли. Потому и обдумывал хлесткий, как удар бича, ответ на н е в ы с к а з а н н у ю близость их к нему и даже обрадовался мертвому голосу Косого:
– А всех-то нас и ты, Марченко, не переловишь. Сколь нас по тайге непойманных, один воровской бог знает…
Из гроба тянул руку за своими Косой!
– Вас-то много? – облегченно захохотал Марченко. Так он от души хохотал, что сладостные слезинки из глаз выкатились на корявые щеки его, и арестантам от этого стало страшней и тоскливей, чем от его грозного давешнего предупреждения. – Да вас круглым счетом, – еле остановил он богатырский хохот свой, – по всей тайге было менее полусотни, вместе с набеглым ворьем и чужедальними дезертирами! А было выловлено до моего ухода сюда в тайгу – тридцать четыре! Да вот теперь себя присчитайте, а ведь я вас взял в самом глухом месте, глуше нету! Ну-ка, прикиньте для себя, дивно ли вони вашей осталось по глухим углам? Э-ех, вы, говнюки! – Конечно, он не Косому отвечал, он для всех остальных, а больше – для алтайцев говорил, Марченко.
– Да только в сибирскую дивизию от нас из аймака более тыщи добровольцев ушло! Средь них до трети, пожалуй, алтайцев, а – велик ли народ численно-то? Да ведь это кроме мобилизованных и призывников! Какое же соотношение-то получается, улавливаете? А таких темных углов, как наш, по всей стране, поди, больше нет. И – что же вы такое в данных обстоятельствах? Мушиное сранье на ламповом стекле, не вглядись, так и не заметишь, а мы его вот протираем до чистого блеску! Нонче мы тайгу очистим полностью и в-вони вашей по логам не учуять! Это я вам говорю ответственно! Вот как сейчас, после нашего ухода, будет по Согре-реке и по ее притокам!
Великое презрение открыто звучало в Марченковых словах и брезгливая подавляющая сила была в них! Коротко и недалеко раскатилось мрачное эхо Марченкова хохота, и в вечернем морозном безмолвии родилась и овладела всеми задержанными едучая и давящая душу тоска…
Пантелей только что по приказу Марченки свалил три добротных сушины на костер, разрубил, приволок к огню. Одна сушина была осиной, высохшей на корню, со сплошным дуплом вдоль ствола, как большая деревянная труба. Наложил Пантелей в эту трубу мелких дров – готова нодья! Раньше бы радовался Пантелей такой находке для зимнего ночлега – сейчас радоваться было нельзя. Тяжело было на душе, совсем тяжело стало после беспощадных Марченковых слов и могучего, как у Хозяина тайги, хохота.
Экий Марчинька! Кедр тот раз палить не велел, пожалел кедр, однако, его вот, Пантелея, не жалеет, нет! И сородичей-алтайцев не жалеет тоже, не хочет маленько обрадовать пустяшным доверием, хочет, чтобы горько и страшно на душе было у них, совсем, однако, с варнаками равняет: тоже отобрал у них опояски и ремешки, тоже отрезал пуговицы со штанов… Связанными руками на ходу штаны держишь, неловко идти и стыдно, так стыдно – упасть бы и умереть со стыда, не окончив своего позорного кочевья!.. Присев у костра, глядел на Тимофея и Пайфана, думал: они-то куда меньше моего виноваты, от этого еще тошнее становилось на душе. На варнаков русских не глядел прямо – зло косился время от времени, когда сами они на него не глядели, ненавидел их – черные души, страшные люди… Когда приходилось глядеть на них, даже грозный Марченко казался роднёй, – ему, Марченке, все-таки человек Пантелей. Шибко виноватый, но человек, а эти убийцы за человека кого, кроме себя, считают? На божьих людей поначалу долго глядел, со страхом даже – больно велики оба и звероподобны, тоже никого, даже русских, за людей не считают, кто не поклоняется их темному богу…
Какие люди плохие! Не знал, однако, раньше, что такие бывают. А сам-то он хорош ли? Все-таки лучше их, поди, никого не грабил, не убивал, только от военного закона прятался. Разве спрячешься от закона, если ему Марченко служит? Або-о, горе какое, стыд какой! Вот заколол ему Марченко штаны острой палочкой, чтобы дров нарубить, теперь даже палочку вытащил – сиди, держи штаны связанными руками! Даже у костра шибко неловко сидеть, когда штаны то и дело сваливаются.
Тимопей и Пайфан тоже думали, каждый по-своему. Тимопей – много, Пайфан совсем немного, не умел много думать Пайфан, если не про еду, не про араку да не про бабу. Про свою вину вовсе думать не умел, пожалуй. Тимопей был неглуп – глупых охотников не бывает, охотник по-своему много думает, только в большом селении, на многолюдье, бывает, теряется, оттого глупым кажется не шибко умным людям…
Тимопей думал теперь, как нужно говорить на суде, чтобы поверили, как на войну проситься, чтобы поверили, пустили. Дураком не притворишься – вон сколько алтайцев, Марченко говорит, на войну добром ушло. И сам Тимопей знает, много. Которых мобилизовали, тоже много, разве кто бегал от мобилизации?.. Заранее надо слова собирать, чтобы – как отборные орехи кедровые из бурундучьей норы, сытными были для чужой души слова, приятными…
Пайфан был ленив и глуповат той здоровой глупостью, которая от поколений безграмотности да от собственной лени накапливается. Пайфан думал, попрошусь в тюрьме дрова рубить, тюрьму, поди, тоже топить надо: большая изба, поди, вон сколько людей сидят. Чудно – почему сидят? Стоять не велят, что ли, лежать не велят, что ли?.. Пусть даже тупой топор дадут, стараться буду рубить… На войну не думал проситься Пайфан, погонят если – пойдет, больше бегать не будет, а самому на смерть проситься – дурак он, что ли? Лучше дрова рубить… Кабы, правда, не испортиться в тюрьме – вон варнаки русские какие страшные. Оттого, небось, что много в тюрьме сидят, много от закона бегают. Он-то не варнак, Пайфан, бегать больше не будет, худо вовсе выходит бегать-то… Ладно, убитый варнак был не солдат вовсе, винтовка ворованная, не будут теперь за винтовку спрашивать… Однако, неловко как даже у костра сидеть, когда штаны без ремешка, без пуговиц, руками держать надо, а руки-то связаны…
…Две богатырские нодьи обогревали спящих у костра мужиков. Только для Марченки это была первая ночь, когда он почти не выспался. Первая, но не последняя…
Однако порядок он в тот раз навел такой, что нарушать его боялись все, и, кроме неизбежных падений, поломок, путаницы, в двинувшемся поздним утром странном караване создавалась уже некая «сработанность», хотя в нем стало на одни груженые нарты и на двух могучих «коренников» больше…
Конечно, крутая Марченкова мера крепко задерживала поначалу движение и так-то еще не сладившихся нартовых пар. Но зато морально она подействовала потрясающе, тем более что Марченко никак не предварил ее словесно, вроде между делом у вечернего костра обрезав пуговицы и отобрав ремешки и опояски: ни единой крохотной надежды не оставлял он задержанным! Грозное предупреждение его все-таки оставалось бы словесным, если бы не эта вот дотошность и в дьявольском умении связывать людей с нартами и между собой, и в той жутковатой деловитости, с какой учитывал он каждую мелочь в пути и на ночлегах. Он, пожалуй, сразу же сломил их, когда, ощутив неприятный холод между ног, опомнились и возопили старцы и уголовники:
– Не по-людски и не по-божески, слуга анчихристов, тайные уды на эком-то морозе оголять!
– Начальник, чего-т, ты круто больно, весь струмент отморозим!
С бесконечным равнодушием бросил Марченко:
– А и хрен с вами… От вас, воровское племя, доброго потомства все равно не ждать, а вам, святые, по ангельскому чину грешных этих добавок вовсе не полагается. Господь ошибся, мороз исправит…
Деловитая бесстрастность эта и потрясла до немоты даже горластых «ангелов», жутковато намекнув, что беспредельна дьявольская изобретательность и упорство рябого ястреба…
Никто даже и не замечал, как заботливо он следил, чтобы никто не обморозился, как, настрогав десятка два березовых и черемуховых палочек, зашпиливал гашники то одному, то другому, больше других путавшемуся на ходьбе, под предлогом трудного подъема или крутого спуска и «забывал» на весь путь, выдергивая эти шпильки только на ночлегах. Все боялись ненароком напомнить излишней мешкотностью в ходьбе и резво вскакивали, падая: все-таки куда сподручней не держать штаны руками.
Постепенно судорожные рывки и неожиданные остановки сменились не бог весть каким, но ритмом почти непрерывного движения, нарастала скорость, так нужная Марченке. Даже до ветру все приучились ходить по-солдатски – только по команде сурового своего командира. Кормил же их Марченко строго по часам, да еще и с тонкой хитростью: утром и днем только подкреплялись, а на ночлегах ели обильно и сытно, оттого засыпали поначалу мертво меж теплых костров, и так выгадывал себе конвоир часок почти беззаботного сна с вечера. Сам же ел часто и помалу, потому не терял ни волчьей зоркости, ни чуткости, не позволяя сытому брюху расслабить стальную пружинность мышц и неусыпную трезвость мозга.
Он даже приучился коротко, урывками отсыпаться во время переходов: на пространных чистинах обгонял или оставался, выбрав удобное для обзора место, и на десять-пятнадцать минут проваливался в мгновенный сон, всегда просыпаясь в нужный миг, будто живой водой умытый. Особенно хорошо получалось на длинных подъемах-тянигусах – он сам прокладывал лыжню вверх, устраивался удобно, бросал зоркий взгляд на медленно тянущийся «обоз» и блаженно расслаблялся, засыпая. При спусках же, наоборот, пропускал вперед караван, придремывал коротко и с бешеной скоростью летел вниз, нагоняя людей и сгоняя ветром и стремительностью остатки сна…
Задержанные почти суеверно глядели на всегда свежего, неутомимого конвоира, пугаясь всегда чистой, не замутненной усталостью и раздражением синевы его торжествующих глаз, рысьей мягкости и стремительности движений и сатанинской его усмешки.
Пантелей из кожи вон лез, только чтобы Марчинька не сместил его с должности передового, головного, которая, как наивно верил Пантелей, только случайно досталась ему, и которую он таежным умением своим старательно закреплял за собой: мастерски прокладывал лыжню, безошибочно определяя и кратчайшие расстояния, и наилучший снег, и самые удобные для движения склоны, подъемы и спуски – чтобы по чистинам, минуя всяческую густель и непролазь, чтобы Марчиньке было лучше видно всех. Выгоды его положения с лихвой искупали необходимость торить лыжню: Марченко ни с кем не связывал его в пару, свободней связывал ему руки, так что даже каек держать было вполне ловко, и иногда, вроде, добрей поглядывал на него, Пантелея, Марчинька. А уж чего дороже могло быть ему теперь?
Поначалу Марченко менял пары, перебирая людей, – уж больно худо волоклись на лыжах уголовники, чем дальше, тем хуже. Но на одном из увалов, когда по могучему чарыму, покрытому слежалым сверху снежком, можно было идти очень быстро, Марченко долго шел рядом с этой парой, заметил, как подтянулись они под его пристальным взглядом, и вдруг бросил почти безразлично:
– Ну что ж, стойте. Сейчас отвяжу вас, заберу лыжи и убирайтесь куда хотите! Мне с вами не до весны тут валандаться…
Судорожно-отчаянный рывок незадачливой пары вслед за ушедшими вперед вскоре сменился вполне приличной ходой: тайге-то еще конца-краю не было…
Нарты, конечно, сбавляли возможную скорость хода, зато крепко и надежно помогали связывать пары, не мешали размеренному движению, а кинуться с ними в бег – если бы кто и попробовал, недалеко ушел бы…
* * *
…Неведомо чем, однако, закончилась бы таежная Одиссея удалого оперуполномоченного, если б не наградила судьба его за неслыханное упорство и отвагу прямо сказочной удачей в Дунькиной Щели. Оно, конечно, и удача не всякому лезет в руки, и упустить ее ротозею – легче легкого, однако туго пришлось бы Марченке в схватке с самой опасной бандитской группой в Дунькиной Щели даже и в одиночку, а уж тем более – обремененному десятком ненадежных своих подневольных спутников.
Во время первого своего, разведывательного, обхода Марченко заглянул в Дунькину Щель. Мрачный, глухо заросший густым молодым пихтачом распадок, там, на исходе своем, раздвинулся в небольшую чистину, а на той чистине-поляне, почти вбитое в камень крутосклона, стояло небольшое зимовье – полуизбушка, полуземлянка. Жилым явно было зимовье, и двое суток сидел в засаде Марченко, карауля неведомых временных хозяев, и – не дождался. Ушел, подгадав под желанный буран, сразу заметавший пьяным снегом следы, перед тем до мелочей оглядев темное жилье, – не оставил ли где ненароком маломальской приметы своего гостеванья…
Так и не знал он до сей поры толком, кто и сколько человек заняли избушку в Дунькиной Щели; знал твердо, что не один, а двое-трое, не меньше. Тверже того знал, что не местные трусы прятались тут от мобилизации, а какие-то набеглые опасные звери, хотя тоже, похоже, не совсем новички в тайге.
Будь один – с каким подмывающим азартом кинулся бы он в расчетливую, внешне безумную схватку с неведомыми варнаками, с каким наслаждением повязал бы их…
Но сейчас…
И миновать Дунькину Щель – всю жизнь казнить себя. И рисковать своими «ветеранами» – век не простил бы себе с л у ж е б н о й оплошности, попади кто-нибудь из них под пулю. И оставить одних…
Марченко сумел бы лишить их мало-мальской возможности освободиться, пока не вернется сам, но – вдруг не вернется? Беспощадно трезвый и опытный, он знал, что не заговорен от пули, вопреки легендам о нем, что не у каждого варнака при его появлении сводит от ужаса руки, особенно если в этих руках оружие.
Все чаще насвистывал он на ходу, упорно обдумывая последнюю свою операцию в тайге. Даже «обоз» оглядывался на его тихий и мелодичный свист, хотя им и казалось, что свистит он – от полной уверенности в себе, от хорошего настроения.
…Получалось – совсем без помощи своих «ветеранов» не обойтись. Конечно, он мог просто стрелять. И никаких бы особых забот – мазать он век не умел. Но вопреки легендам с т р е л я л Марченко считанные разы в своей богатой приключениями жизни. Именно потому, что до сих пор он успешно справлялся, он и уверенно знал, что доведет до аймака и еще столько же, лишь бы взять последних.
Лишь бы взять…
Он стал четко и последовательно обдумывать, как использовать задержанных, чтобы никем не рисковать по возможности, но создать у обитателей Дунькиной Щели полное впечатление окружения и не создать у своего «обоза» впечатления активного участия в операции. Обдумав, совершенно успокоился и больше всего на свете был бы разочарован теперь, не окажись там никого, как в прошлый раз.
Тут-то и подвалила ему эта самая удача. Марченко повел свой караван под гору, чтобы выйти в распадок как раз у истока его, к зимовью: заходить с устья – многовато чистого места было, метров за двести могли увидеть; с вершины – не было у него вершины, прямо за зимовьем круто сходил на нет распадок, замыкаясь каменной стеной с двумя узенькими тупиковыми щелями в ней.
С того же места, где вздымались в гору сейчас, к зимовью был вполне сносный лыжный спуск – по крутой, но довольно чистой изложине с редколесьем на ней.
Почти извершили гору, когда Марченко, идя сбоку своего растянувшегося обоза, замер и оторопел от стонущего человеческого рыдания. Собственно, сразу-то даже не подумалось о человеке – больно дик и чужд был в этой каменной и лесной тишине рвущийся, задавленный, не то рык, не то вой, не то лай.
В оружии даже нужды не было…
Под могучей старой пихтой, чумом навесившей ветви свои во весь круг, на узловатых корнях ее, меж которыми цепенела черная и седая от инея земля, извечно сухая, сидел… человек! Скорчившись в три погибели, будто весь хотел влезть в короткий драный полушубок, он неудержимо трясся от холода и нечеловеческих рыданий. Страшно рыдал, икая и дергаясь от икоты так, что стукался головой об узловатую черную колонну пихтового ствола. Из-под полушубка торчали ноги – без обуток, но не вовсе голые, а в собачьей шкуры мягких чулках, следья которых были так изодраны, что торчали наружу зачугуневшие от холода голые ступни. Под полушубком – тоже до пояса гол был человек, и только ниже колен, стучавших друг о друга так, что крылато взметывали шубные полы, спускались черно-заношенные и тоже драные кальсоны.
– Вставай, – негромко сказал Марченко, – застыл ведь, паря…
Дернулась резче обычного кудлатая голова, вскинув кверху пухлое черно-сизое от холода лицо в молодой жесткой бороде, тускло блеснули слепые от слез – не глаза, две мочажинки с мутной водой, обмерзающие по краям. Сквозь икоту и бурную дрожь-судороги хрипло, задавлен-но и прерывисто выревел:
– Уб-бей, Стрелок… С-ст-р-рел-лок… уб-бей-ик!..
«Ого! – внутренне ахнул Марченко. – Везет тебе, охотничек! Стрелок где-то рядом!»
Этот Стрелок был опасней всех, с кем до сих пор схватывался Марченко, и прозвище свое оправдывал с кровавой жестокостью садиста. Только эта необузданная, патологическая жестокость мешала ему создать постоянную банду – даже бандиты из бандитов не шли добром под его начало, а сам он ничьего начала над собой не признавал. К тридцати годам имел Стрелок больше сорока лет приговоров и десяток дерзких побегов, почти столько же фамилий и бегал уже не от мобилизации, а от давно заслуженной им высшей меры…
Не пожалел Марченко доброго стакана из заветной, до сих пор не шевеленной фляжки на дне своего рюкзака. Тимофей быстро разживил костерок, отпаивал парня чаем из чаги, одел и обул его в запасное свое. Тимофею радостно было, что Марченко молча сделал его чем-то вроде завхоза, и гордился этим не меньше, чем Пантелей ролью передового. С тупым удивлением смотрели остальные то на встреченного, то на своего конвоира, будто из-за пазухи вынул он шутки ради в темной глуши таежной полураздетого парня. Пугающ и загадочен больше обычного показался им сейчас Марченко!..
Только после того, как оттаял одетый и обутый парень, стал реже вздрагивать и во взгляде появилась осмысленность, понял Марченко, что отнюдь не одним только сейчас выпитым душновато наносит от парня, но расспрашивать не торопился, ожидая, что вот-вот начнет сам, горемыка.
…Да, в Дунькиной Щели сейчас обитал Стрелок. До сего дня – с тремя, отныне – с двумя сотоварищами. Сам парень – «вор в законе», барнаульский городской вор-домушник, бежавший последний раз из Сиблага, прозвищем – Ханыга, за любовь к торговлишке, презираемой всеми настоящими ворами. Со Стрелком сейчас остались Шнырь и Казюля, а вот его…
Ханыгу вновь затрясло от воспоминаний и безумной ярости, и Марченко спокойно понял, что полезет Ханыга на пули сейчас, только чтобы отплатить ненавистному Стрелку, а пуще того – «Каз-зюле, падле!» – выдумавшему эту страшную таежную казнь Ханыге!..
Два дня назад только вернулась их банда из налета на дальний приисковый участок Карачак. Налет оказался безопасным и неудачным: из-за трудностей разработки в войну, участок законсервировали, и в беззащитном магазине нашли бандиты только куль соли, драгоценной, правда, сейчас для таежной жизни, да огромную бутыль какого-то спирта, красноватого и пахнущего конфетами. Пошарпали по немногим жилым избам, из которых еще не успели выехать люди, заставили двух стариков пить «конфетное» зелье, никто не сдох, наоборот, захорошели старики. Один даже объяснил словоохотливо, что это-де «исенцыя фруктовая, гожая для питья, только страшенно крепкая!» Привычно накровавить там Стрелок не успел только потому, что где-то пальнули из ружья, и банда смылась поспешно, не забыв, однако, ни соль, ни «исенцыю».
Вчера Стрелок устроил пьянку и спьяна раскрылся, что-де хочет идти в Китай через Урянхай какой-то, Казюля знает проход, но что до этого надо устроить засаду на спецсвязь под Интересным, – там, слыхать, сейчас золотит сумасшедше! – чтобы разжиться золотом и тогда – прости-прощай, Советская власть, здравствуй, вольная волюшка!
Не поостерегся во хмелю Ханыга и рубанул Стрелку, что ему в Китае делать нечего, а на спецсвязь идти – в случае неудачи «вышка» верная, а ему, Ханыге, вовсе ни к чему спешить на луну. Стрелок залепил в рожу за трусость, Ханыга сгоряча ответил. Это Стрелку-то!.. Поизгалялся над ним Стрелок, такой крик из него вышибал, что самого, похоже, жуть брала. Пришил бы, натешившись, если бы старик «Каз-зюля, гад!» не выдумал какой-то таежный суд: пусть, мол, идет, как есть, долго подыхать будет! Стрелок дико хохотал, радовался, даже полушубок не велел снимать, накинутый на голое тело от сквозняка, и чулки тоже: Казюля трекал, что по закону – в чем есть идти должон. Ржал Стрелок, что вот будет смерть так смерть, сроду про такую не слыхивал, надо, мол, кодле при случае подсказать воровскую высшую меру! Казюля даже присоветовал сладким голосом, что, мол, за горой-то скинь с себя все, скорее замерзнешь, а то долго мучиться станешь, а Стрелок ему за тот совет – в рыло! Вдогон шмалял Стрелок, но для напуга, не попадал, так-то он даже кирной не мажет, и все хохотал, как чокнутый… Он вообще последнее время психует, Стрелок, видать, чует судьбу. Но вдогон за ним они не пойдут, а когда и где пойдут и Китай, он не знает. Шныря, скорее всего, пришьет Стрелок, но не сразу: им же поклажи сколь тащить, а Стрелок не любитель тяготиться. Казюлю не тронет до конца, Казюля тайгу знает, без него Стрелок пропал в тайге. Вообще, Казюля – старик темный, как гроб, гляди, сам подколет Стрелка при выгоде… Он, Ханыга, по гроб жизни не забудет, кто его спас, и пусть начальник в надеже будет, он сам пойдет на Стрелка, и никакая кодла его за то не осудит! Не, пусть начальник не думает, он не подорвет, воровское слово, все будет в порядке! Он, Ханыга, теперь с самим чертом бы повязался кровью, только бы Стрелку, г-гаду!..
Дал Марченко высказаться Ханыге, не прерывая яростную и бессвязную речь его, потом деловито обсудил с ним тут же зародившийся план. Лихорадочная готовность Ханыги тревожила его и заставляла спешить – слишком хорошо знал Марченко истерическую блатную искренность на момент. Но ничего лучшего нельзя было придумать, и надо было ковать железо, пока не остыло…
– А вдруг он выстрелит, Стрелок, не говоря худого слова, а?
– Не-е, – обнадежил Ханыга, – он, гад, поизгаляться любит сперва.
И лицо Ханыги, и так-то малопривлекательное, стало таким, что впору было за Стрелка беспокоиться!
…На исходе дня вышли на перевал, и когда внизу, в круглой чаше Дунькиной Щели, ясно увиделся голубой столб дыма из трубы зимовья, Марченко остановил всех и объяснил, что от них требуется. Он говорил сухо и четко, тоном неукоснительного приказа: не мог, не хотел даже в этом положении дать почувствовать себя сопричастными ему. Ханыга – другое дело, у него свой счет со вчерашними друзьями…
– Мне не помощь ваша требуется, мне нужно, чтобы вы на виду были у меня. Прятать вас негде и оберегать – тоже. Если стрельбу подымут – пихтач густой, прячьтесь за деревья, н-но без стрельбы чтоб на виду мельтешились, понятно?
Скрытники было забастовали:
– Мы сему делу непричастны! Мирска суета нам не надлежит»..
– Гляди, шумнем об етим, чтобы греха соучастия… – и не договорил.
Марченко пружинисто шагнул к старцам, мягко и беспощадно сгреб обоих за бородищи и, могуче клоня к себе головы их – много выше него были оба старца! – с холодным и ясным бешенством произнес чуть не по слогам:
– Я в-вам… Если хоть звуком!.. Мгновенно в рай! Без пересадки!
И полоснул взглядом по выпученным от цепенящего страха глазам старцев. У тех беззвучно разверзлись пасти в непролазных бородищах, льдистой судорогой повело все нутро: ослепительно синей, не божьей – дьяволовой молнией бесшумно ударил их этот антихристов взгляд…
А Марченко уже спокойно добавил:
– Риску для вас никакого, практически: до стрельбы я не доведу, мне их стрельба невыгодна самому. Но сам я, напоминаю еще, в случае чего – не промажу!
…Все вышло, как по-писаному, даже легче, чем ожидал Марченко, психологически безошибочно рассчитавший моральную «затравку». Когда осторожно скатились вниз, виляя по самым густым зарослям, и скучились в молодом веселом пихтаче, Марченко еще раз повторил Пантелею и Тимофею:
– Вот так вдоль пихт и пересекайте поляну, чтобы при стрельбе – сразу за пихты. Но – на виду, по краю, поняли?
– Как не понять! – обрадованно подтвердили алтайцы, донельзя довольные, что все-таки маленько помогут ему, что доверил им Марчинька больше, чем остальным варнакам и божьим людям – вот даже по-алтайски приказывает!
Раздетый до своего давешнего вида Ханыга сразу же крупно задрожал, но, похоже, не столько от холода, сколько от бешенства, вспоминая всем телом унизительное и бесконечное умирание свое. И это пошло на пользу – голос у него непритворно задрожал, когда, шагнув к запертой двери зимовья, воззвал он:
– Стрелок, выдь! Не шмаляй, Стрелок, слышь! Кориться иду, пропадаю-у! В твою волю, Стрелок, не шмаляй!..
Высоченный в меховой бекеше и ондатровой шапке, вышагнул наружу Стрелок, воскликнул с хмельным удивлением:
– Не сдох, Ханыга? Ну, крепок ты на мороз. Казюля, Шнырь, гляньте-ка, Ханыгин труп пришел могилу просить!
Повернулся боком к Ханыге, кинув в дверной проем:
– Дай-ка дробовик твой, Казюля, я его счас на дробь спытаю! Пож-жалею Ханыгин труп!..
Ханыга – и сам ростом не меньше Стрелка, но покряжистее его – скалой пал на врага, сбил в снег, мертвой хваткой сгреб за горло и сам завопил от ярости над вмиг потерявшим дыхание Стрелком. В дверь слитно рванулись двое, у одного над пламенно-рыжей бородой взлетел топор, Марченко почти в упор выстрелил из пистолета, пуля выбила топор и со стонущим журчащим визгом срикошетировала.
– Марченко! – истошно завопил рыжебородый и подавился криком от беспощадного, всем телом, удара под ложечку. Третий – Марченко – успел краем глаза заметить – выскочил безоружный, и за него не тревожился. Мгновенно связав сомлевшего рыжебородого, кинулся выручать Стрелка из рук обеспамятевшего до безумия Ханыги. Секунду-другую, и не дождался бы давно заслуженного суда страшный «мокрушник»: минут десять отхаживал его Марченко, еле оторвав Ханыгу.
Шнырь же, гигантскими прыжками заячьими пересекавший поляну, как в страшном сне, увидел вдруг, что по кромке пихтача пара за парой движется целый взвод с ружьями, которыми показались ему палки, всунутые Марченкой в связанные руки «обозников», заметался бессмысленно и встал, обреченно вопя:
– Сдаю-уся! Добром сдаюся!
И долго не мог понять, почему никто не берет его в плен.
Очнувшийся – так нескоро, что Марченко начал всерьез тревожиться, – Стрелок закатил истерику, отравляя морозный свежий воздух вечера страшным перегаром, мерзость которого дико подчеркивал конфетный сладкий припах, клубил пену на губах, потом успокоился и сипло пообещал Ханыге:
– Я, п-падла, и от дедушки уходил, и от хозяина уходил! Уйду, б-бойся, Ханыга, – тайга задрожит, как я тебя казнить буду!
– Отбоялся я тебя, кровопивец! – почти «по-русски» и совсем спокойно ответил Ханыга, и лицо его, черное, опухшее, вдруг осветилось неожиданно человеческой нормальной улыбкой.
– Везет тебе, мосол! – сдавленно прохрипел мятым горлом Стрелок.
– Удалому везет! – усмехнулся Марченко.
* * *
…В начале марта, ясным, чисто весенним по солнечной щедрости и небесной незамутненности утром явился в аймак записанный во все поминальники лихой оперуполномоченный Семен Марченко и привел ровнешенько чертову дюжину варнаков и дезертиров: последнего взял «у себя под носом», как сам после говорил, выковырнув его из хитрого тайника за глинобитной печью на одинокой заимке, вовсе близко от райцентра.
Вернее, привел-то он в связках двенадцать человек, а тринадцатого привезли на нартах. Самого же Семена Марченку, когда шел по улице во главе жутковатой и невиданной процессии к райотделу, едва ли кто узнавал – до того стал страшон! На костистом, обожженном морозами и высушенном ветрами лице, иссосанном бессонницами, нечеловеческим напряжением бессчетных дней и ночей, только и выделялись, что нос ястребиный да корявины. Слабее самого слабого из своих подконвойных выглядел Марченко, а все равно в провалившихся колодцами глазницах горели победной, исступленной синевой непоблекшие глаза его!..
Очистил тайгу родную Семен Марченко, как и обещался, гордец! Это походило на легенду, но из всех легенд про Марченку эта была самой правдивой. Мало кто дивился, что отчаянный гордец Марченко, даже выйдя в жилые места, не взял никого на помощь себе, так и гнал один, как брал до того, всю свою волчью стаю. Но все дивились – даже самые добрые сердцем люди – на кой черт тащил он через всю тайгу того, сгоравшего в антоновом огне бандита, который все равно на третий день помер в больнице? Но чтобы понять это, надо было хорошо знать самого Семена Марченко, а не только легенды о нем…
Мой же непосредственный друг и прямой начальник Максим Ёлкин ничему не дивился, даже тому, как Управление отпустило такого милиционера на фронт, Максим-то очень хорошо знал характер Семена Марченки.








