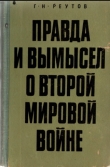Текст книги "Не бывает прошедшего времени"
Автор книги: Виталий Коротич
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
11
Существует представление о «русском Париже», в который привычно включают все связанное с украинцами, грузинами, армянами и даже цыганами с той же широтой, с какой где-нибудь в азиатской глубинке и сам Париж включается в общее понятие этакой «европейскости», где не учитываются несущественные подробности вроде разницы между шведами, португальцами и жителями острова Сардиния. «Русский Париж» довольно просторен, и в нем всегда можно сыскать уголок по возможностям и вкусу, начиная с ресторанчика «У мамаши Катрин» на Монмартрском холме, где синяя табличка свидетельствует, что в 1815 году благодаря русским казакам здесь возникло первое бистро.
Что же, как очаровательное французское "шер ами" – "милый друг", – с которым помороженные французские солдаты стучали в избы, прося хлебушка, стало основой пренебрежительного русского "шаромыжник", так и "бистро", возникшее из покрикивания торопыг-казаков (я вспоминал об этом), прижилось на парижских вывесках. Есть множество улиц с русскими именами, а самый красивый мост через Сену зовется именем русского царя Александра III и украшен его бронзовыми вензелями, а также корабликом – гербом Парижа – и двуглавой птицей, бывшей некогда имперским русским гербом.
Отношение к реликвии самое современное: разглядывая зеленую спину бронзового Нептуна, простершего руки над Сеной в центре моста Александра III, я увидел на той спине среди иероглифических паутинок и латинских фраз родное "Здесь был Коля" и подумал, что никакие путеводители не поведают всего о следах моих соотечественников во французской столице.
Вот и Виктор позвонил мне с утра, предложив сходить в некое местечко, связанное со следами соотечественников во Франции; уточняя, сказал, что это тихое кафе "Русское аудио", расположенное поблизости.
– Какое это "русское"? – спросил я. – Чье оно?
– Не беспокойся, – сказал Виктор, – я все понимаю. Поверь, будет забавно, так что не бойся...
– А чего мне бояться?
– Сам знаешь, – ответил Виктор. – Я читал, что у вас не любят, когда нынешние советские граждане встречаются с бывшими.
– Это смотря какие нынешние и какие бывшие. А я, как тебе известно...
– Ну ты особ статья. Привилегированная личность, к тебе отношение выработали и враги и друзья.
– Не надо. Ты давно не был в моей стране. Ты ничего про нас не знаешь, а вякаешь, как парижская "Русская мысль".
– Ага, уже читал! – хохотнул в телефоне Виктор. – Газетка что надо! За такие деньги можно бы издавать и что-нибудь поприличнее, тем более в Париже. А то как родственница нью-йоркскому "Новому русскому слову".
– А может, и родственница, – предположил я, – По маме. По той самой матери...
– Ну ладно. – Виктор изменил тему: – Ты пойдешь в "Аудио" или нет?
– Пойду, – решительно согласился я. – Только приду сам, огляжусь вокруг и войду. Как разыскать мне кафе-то?
– Найдешь, – сказал Виктор. – Пройдешь под метро-мостом, и первая улица направо, к Сене.
– Поищу... Поискал и нашел.
Почти сразу же за углом на улице Пондери стоял старый дом с широким окном на первом этаже, разрисованным самоварами и матрешками; все самовары и матрешки были в наушниках. Резная доска над входом несла на себе стилизованную вязь: "Русское аудио". Стена была серой, бетонной, доска сероватой, поэтому, если бы не матрешки в наушниках, я мог бы это "аудио" и не разглядеть.
Впрочем, у входа была еще музыка. Вальс. Знакомый и одновременно чужой вальс; так играют аккордеонисты-нищие в Марселе или в Италии у теплого моря с русалками; в Италии я слыхал их больше, целые ансамбли. Здешний музыкант был слеп, этим, должно быть, объяснялась его неподвижность – седой человек с обращенными к нам щелками незрячих глаз. Время от времени музыкант снимал наплечные аккордеонные ремни и принимался за основное занятие.
Дело в том, что слепой торговал главным образом лотерейными билетами. Музыка должна была привлекать покупателей счастья, не больше. Не знаю, что можно было выиграть в тех лотереях, но слепой не вызывал мыслей о выигрыше. Он взывал из темноты к нам, существующим в отчужденном от него мире, и предлагал рискнуть в игре, которая самому ему была не нужна. У музыканта было лицо мудреца (как у большинства слепых; а глухие в большинстве своем выглядят почему-то рассеянными, простачками). Я всегда жалел слепых и симпатизировал им, насколько интеллигент может и должен симпатизировать существам беззащитным. В Париже слепому сочувствуешь особенно, потому что в этом городе есть на что поглядеть. Слепой сидел на стуле с высокой спинкой; зеленая, какого-то полувоенного фасона рубаха и серебристо-черная борода делали его выразительным цветным пятном на фоне серой стенки "Русского аудио". Со времен войны я уже не видел слепых с аккордеонами под вывесками, начертанными кириллицей. Я прочел вертикальную надпись на инструменте – "Вельтмейстер", и снова сдвинулись времена, и Париж отодвинулся, потому что я уже видел такой аккордеон в детстве. Только тогда аккордеонист был зрячим и не торговал лотерейными билетами ввиду отсутствия лотерей.
...Это было там, у травы, в том городе, в том времени. Виктор тоже должен был бы вспомнить. Я решил обождать его здесь, у входа: под музыку ожидается веселей. Почти под всякую музыку.
У нашего киевского подъезда на траве часто бывало весело. Что бы ни происходило. И, как надлежит, всякое веселье срасталось с музыкой.
Но однажды пришел кобзарь, странствующий певец. Во время оккупации, будто из глубин истории, возникли слепые странствующие певцы с огромными (как тогда казалось) бандурами, заброшенными за спину. Бывали еще странствующие скрипачи, были странствующие аккордеонисты, один из них с "Вельтмейстером", но бандуристы запомнились больше всего. Иногда, как положено, кобзари были слепы, и с ними ходили мальчишки-поводыри или молчаливые женщины в запыленных широких юбках. Но тот, про которого вспомнилось, кобзарь (так, обобщая, звали всех странствующих певцов с бандурами) был зрячий и красивый. Он добыл из мешка, висевшего через плечо, складной стульчик и начал не спеша расчехлять бандуру.
– Тю! – сказал Колька, как обычно возникший у нас во дворе, едва создалась ситуация, хоть отдаленно похожая на редкостную. – Расчехляет бандуру, будто пулемет. Видали?
Колька, как и все мы, нагляделся на пулеметы; бандур мы видали поменьше.
Кобзарь перестал расстегивать пуговички на бандурной одежде и медленно остановил взгляд на Кольке. У него был тяжелый, проникновенный взгляд человека, привыкшего командовать и не любящего, когда вслух обсуждают его решения. Поскольку мы втроем – Виктор, Николай и я – разглядывали певца неагрессивно, с откровеннейшим любопытством и это не грозило тому никакими неприятностями, он опустил взгляд и достал бандуру из чехла. Это был не очень старый инструмент, даже еще не темный, не было на нем и заметных следов от ударов или царапин, что для кобзарского инструмента считалось почти обязательным и порождало специфический хрипловатый голос таких бандур.
А люди тем временем повыходили из подъездов и столпились вокруг лужайки, трава эта владела притягательной силой: коль кто-то приходил с миссией по-настоящему важной, он непременно останавливался на траве. Так что вполне естественно было, что человек с бандурой запел именно здесь. И песню он запел всем известную: про Галю, обманутую казаками и увезенную куда-то. Тогда, в сорок втором, песню пели по-другому, изменяя слова, грустя по сотням: тысяч Галь, которых прямо из уличных облав гнали на вокзал и увозили в Германию. Гали должны были там работать и первыми узнавали уготованное славянам рабство.
Мы слушали молча, даже Колька молчал. Оттого что бандурист играл не очень умело, слова были слышны лучше и музыка не отвлекала. Мы даже не заметили, как бандурист запел песню про Катюшу, вот так, просто взял и запел, ту самую, довоенную, популярней которой на свете не было.
– Марш домой! – сказала Таисия Кирилловна и дернула Виктора за руку.
Поскольку Виктор стоял, обняв меня, то и я покачнулся. Николай, который, как обычно, был сам по себе, зыркнул на Таисию Кирилловну и сказал, чтобы не портить с ней отношений:
– И я, должно быть, пойду, что-то погода портится.
Кольку иногда подкармливали у Виктора на кухне, и он был заинтересован в том, чтобы произвести на кормилицу наилучшее впечатление.
А человек с бандурой пел, глядя, как положено, себе под правую ладонь, а там золотом светились струны, замкнутые вверху левой ладонью певца, медленно передвигающейся по грифу вверх-вниз.
Виктор дернул маму к себе, а я сказал этаким баском: "Ничего, Таисия Кирилловна, послушаем еще чуть-чуть". Но взволнованное лицо Кольки, который ввиду обстоятельств собственной жизни владел обостреннейшим чувством опасности, заставило меня оглянуться.
По двору шли три немца в черном. Каждый из нас знал, что такое эсэсовский мундир и чего можно ожидать от людей, у которых на фуражках расплющены серебристые черепа. Люди начали быстро расходиться, шурша подошвами, не оглядываясь на бандуриста, который вовсю пел о девушке Катюше, влюбленной в советского пограничника.
Лишь когда самый высокий из трех немцев, шедший посередине, остановился, а следом за ним встали и другие два, бандурист поднял лицо от струн. Таисия Кирилловна уже оттащила нас поближе к подъезду, а Колька и вовсе втянулся в подъезд, откуда светились белки его огромных, вечно голодных глаз.
Высокий эсэсовец наклонился, вытер пыль с сапога, а затем с разворотом ударил сапогом по бандуре. Струны заревели, как раненые, гриф отломился от деки с первого же удара. Немец ударил еще раз, дека треснула и выпала у бандуриста из рук. Второй эсэсовец ударил по складному стульчику, и певец упал на остатки того, что минуту назад было музыкой, песней, бандурой.
И вдруг я понял, что немцы пьяные, что они бьют не за "Катюшу", а просто так, а значит, могут и не убить. Должно быть, поняла это и Таисия Кирилловна, потому что прервала отступление в спасительный полумрак подъезда. отпустила руку Виктора, и он тут же снял ладонь с моего плеча – я был ему как якорь.
Хохоча, немцы двинулись дальше, даже кобур не расстегнули, не оглядываясь и каждым движением демонстрируя, до чего у них отличное настроение.
Почти совершенно не помню, что было после этого.
Что помнил, то вспомнил здесь, на Пондери, возле какого-то кафе с аккордеонистом и лотереей. Интересно, если бы тот человек играл на аккордеоне, разбили бы его эсэсовцы или нет?
ПАМЯТЬ.
"Наша задача не в том, чтобы германизировать Восток... а в том, чтобы добиться того, чтобы на Востоке жили (после войны) только люди немецкой крови".
"Войну с Россией нельзя вести по-рыцарски. Это борьба идеологий и различных рас. и ее нужно вести с беспрецедентной, безжалостной и неукротимой жестокостью. Все офицеры должны отказаться от устаревших взглядов... Германские солдаты, виновные в нарушении международного права, не будут наказываться".
Из обращения Гитлера к войскам СС от 20 августа 1942 года.
ПАМЯТЬ.
...На руинах своих убежищ
На рухнувших маяках
На стенах печали своей
Имя твое пишу
На безнадежной разлуке
На одиночестве голом
На ступенях лестницы смерти
Имя твое пишу
На обретенном здоровье
На опасности преодоленной
На безоглядной надежде
Имя твое пишу
И властью единого слова
Я заново жить начинаю
Я рожден чтобы встретить тебя
Чтобы имя твое назвать
Свобода
Поль Элюар, 1942 год
12
Париж как Париж. «Русское аудио» так «Русское аудио». Ожидал я Виктора и дождался. Вошли в кафе. Аккордеонист как раз собрался играть.
А кафе оказалось странным, я еще не видел таких.
Никто ни с кем не здоровался. Никто не разговаривал ни с кем. С первого взгляда было заметно, как медленно люди разворачивают пакетики с тремя кусочками сахара в каждом, разглядывают кофейные чашечки, медленно достают сигаретные пачки, неспешно выбивают из них сигареты и так же не спеша закуривают. Здесь, в доме номер 16 по улице Пондери, никто никуда не спешил. Кроме кофе, пива и других радостей, обещанных баром, в кафе предлагались напрокат кассеты с магнитофонными записями. Собственно, дело было в гнезде для наушников, пристроенном к каждому столу. Ты отдавал бармену выбранную кассету, брал у него наушники, и с пульта эту кассету запускали для тебя лично. От этого одинокие посетители у столиков выглядели странно: те, кто прижимал наушники к ушам, подергивались, но каждый в своем ритме.
– Забавно? – подмигнул Виктор и, не ожидая ответа, сам оценил увиденное. – Очень забавно!
– Ты впервые здесь? – Я указал Виктору на людей, подрыгивающихся у столиков.
– Нет. Но раньше я приходил сюда один. Это заведение для одиноких, сюда, как правило, компаниями не ходят, да и что за компания у эмигранта? Так, стайка... Собьются на вечерок, похлопают по спинам друг друга – и по норам.
К нам подошел человек в джинсовом пиджаке и косоворотке, в картузе с большим бумажным цветком, пришпиленным справа у козырька. Функцию брюк у него выполняла некая хитрая подробность костюма, полное имя которой мне неведомо, – этакие штанишки, застегивающиеся под коленками, нечто среднее между одеждой оперного пажа и шароварами султана, правителя лилипутов. Официант, одетый таким образом, предложил нам наушники. Когда мы отказались, он подал меню и принял заказ на два кофе и двойную порцию ликера "Куантро" со льдом, для Виктора. Виктор поинтересовался у официанта: что это надето на нем, вправду ли русский национальный костюм? Тот ответил, что понятия не имеет, лучше про такое спросить у других официантов, тут в другую смену есть русские, украинец и поляк. Он же учится, а здесь прирабатывает и относится к своему костюму как к спецодежде. Он зарабатывал и по-другому – раздеваясь, позируя учащимся в художественной школе; тоже неплохо, но тамошние гомосексуалисты настроение портили. Никаких языков, кроме французского, официант не знал и не желал знать; после университета он будет агрономом, а с помидорами можно общаться молча.
Мы засмеялись, и официант ушел, на ходу передав бармену наш заказ.
Несмотря на все наушники да костюмы, в "Русском аудио" не было тайны, не было биографии, не было какой-то приметинки для добрых людей. По крайней мере не ощущалось ничего такого. Даже когда – вопреки традиции – вошла шумная компания и принялась сдвигать столики напротив нас, чувствовалось, что компания случайна, не из завсегдатаев и веселятся они, как веселились бы где угодно, просто настроение у ребят хорошее.
Ритм, вернее много ритмов, в кафе продолжали творить люди, рассевшиеся поодиночке, дрыгающиеся каждый в собственном стиле. Хоть на вывеске было слово "Русское...", не было у посетителей обычного для подвыпивших славян желания пообщаться, излить душу первому встречному и выплакаться на ближайшем плече.
Должно быть, не все здесь были из ностальгических эмигрантов. Еще ожидая Виктора, я посмотрел сквозь разрисованную витрину и сразу же ощутил дисциплинирующую атмосферу чужестранного заведения, где продают выпивку, но клиенты пьют сдержанно и исключительно на свои.
Но вот напротив нас с Виктором (мы молчали, ожидая заказанное) шевельнулся один из слушателей, снял наушники, повел ногой, внимательно поглядел на компанию, сдвигающую столики, и снова надел наушники, вслушиваясь в персональную музыку. И, возможно, потому, как он возвел очи, выражение лица стало таким, будто услышал он в лесу птичье пение и страшно ему вспугнуть стаю. Человек постукивал стаканчиком по столу в ритме, ведомом ему одному. Затем он опять снял наушники, так как хохот компании, веселившейся от души, достигал его сквозь все заглушки.
– Как вы считаете, – спросил мужчина по-русски, напомнив мне о том, что все-таки подвыпившие славяне – самая контактная часть человечества, – вон та дамочка у входа, она ожидает кого-нибудь или хочет познакомиться?
Не удивившись, что человек, снявший наушники, избрал собеседником именно меня, не удивляясь, что вопрос был задан по-русски, я взглянул на даму. Было ей несколько за сорок, и шансов на знакомство с кем-то элегантным и трепетным у нее было маловато. О чем я и сообщил.
– Считаете, ей здесь нравится? – настойчиво спросил мужчина, постукивая стаканчиком.
– А черт разберет, что здесь кому нравится, – искренне ответил я.
Виктор молчал, поглядывая то на меня, то на человека без наушников, то на ревущую у сдвинутых столиков компанию. Бармен подошел к крайнему за сдвинутыми столиками и что-то сказал ему на ухо – компания чуть поутихла, хотя ясно было, что это ненадолго: стол уже покрылся графинчиками с красным вином...
– Этот бармен, – сказал человек без наушников, – похож на "большого брата" из оруэлловского романа "1984". Помните, там есть "большой брат", которому посвящаются регулярные двухминутные излияния по телевидению. "Большой брат" определяет, что слушать и что смотреть, что делать...
– Там еще есть оппонент "большого брата", – вмешался я, – которого полагается проклинать, потому что иначе "большой брат" накажет. С надлежащей ли старательностью проклинаете вы того дьявола?
– Кого, кого? – всполошился мужчина, – Мы здесь, пожалуй, немного ругани слышим – так, чтоб из года в год да в один адрес. Разве что русских коммунистов ругают не переставая.
– Я же и спрашиваю, старательно ли поносите дьявола, выигравшего войну у фашистов, научившего людей, живших в темноте и в бедности, читать и писать, давшего всем жилье и работу.
– Вы случайно не коммунист? – удивленно переспросил мужчина.
– Коммунист, – сказал я, – самый настоящий.
– Глупые шуточки! – буркнул человек и надел наушники. Компания за сдвинутыми столами притихла.
– Войны не будет. Войны не было никогда! – сказал Виктор и позвякал льдинками в стаканчике с желтоватым "Куантро". – Да здравствует мир!
– Война была, – ответил я, – а мир в Европе держится, потому что войну выиграли мы.
Человек в наушниках демонстративно отвернулся от нас, уставившись в сторону бара.
– Вспоминаешь бандуриста? – поднял я чашечку с кофе и взглянул на Виктора, – Ну, того, которому эсэсовцы разбили бандуру?
– Нет, война окончена! Нет, не помню!
– Здесь у каждого свои наушники, – сказал вдруг мужчина, который только что сидел, отвернувшись от нас. – Вот вы шутите, пугаете меня...
– А вы боитесь коммунистов? – спросил я. Мужчина снова надвинул наушники на лохматую, очень немолодую свою прическу и вслушался. Он постукивал стаканчиком в ритме личной музыки, а по стуку можно было понять, что кафе здесь недорогое, так как столы в нем не деревянные, а пластиковые.
Бармен что-то выкрикнул в зал и клацнул клавишем на пульте. Люди, в том числе и сосед наш, начали стягивать наушники, оглядываясь. Лишь компания за сдвинутыми столиками жила независимо от кассетной забавы и развеселилась еще больше, уже и каблуками постукивали по полу.
– Почему бы вам не поговорить со мной? – снова повернулся к нам человек, чьи наушники смолкли. – Вот вы не желаете со мной общаться, а зачем же тогда вы в "Русском аудио"? Сюда ходят спасаться от тишины. Вот я кофе взял, выпил, музыку послушал – и все за шесть франков. Что такое шесть франков? Чашечка кофе или номер здешней русской газеты...
– "Русская мысль"? – перебил его Виктор.
– Да.
– Так подотрись ею! – Виктор опьянел от ликера и становился все агрессивнее.
– Не обижайте и не пугайте меня! – Человек без наушников жалобно взглянул на нас, а затем на женщину за столиком у входа, сидевшую все так же одиноко и отстраненно. – Искусство жить вне родины – это, кроме прочего, искусство поиска собеседников. Я беседую с окнами, с зеркалом, со старым диваном в своем парижском жилье и с еще более старым диваном, оставшимся там, в стране, где я жил тысячу лет назад и где доставал диван по знакомству, потому что с диванами были временные трудности. Здесь не бывает сложностей с мебелью, здесь поговорить не с кем.
Мужчина постучал стаканчиком по столу и послушал отрывистые звуки. Бармен что-то заорал у своей стойки и включил пульт. Одинокие люди за столиками потянулись к наушникам, только женщина у входа сохранила невозмутимость. Мужчина немного подождал моего ответа, отвернулся и взял наушники.
– Разве здесь можно поговорить? – сказал Виктор. – Сдуру я тебя затащил сюда. Хочешь, я тебе расскажу про этого типа? Интересно-о-о...
Я не был уверен, что нуждаюсь в подробностях. Выразительность самой атмосферы "Русского аудио" характеризовала гостей заведения, тем более постоянных гостей, достаточно полно.
– Хочешь знать о нем больше? – переспросил Виктор. – Впрочем, для чего тебе это знание? Чтобы повозмущаться или позлорадствовать: вот, мол, каково им, бездомным!
– А знаешь, я подумал именно так: вот, мол, каково им, бездомным. Пошли отсюда... Повеселились, и ладно.
– Не прыгай, – взмахнул рукой Виктор. – Погоди.
К нам подошел официант с таким же, как у первого, розаном на картузе. Пажеские официантские штаны были чем-то залиты – ощущалось, что работа кипит.
– Принесите водки, – сказал Виктор.
Официант бегом доставил нам потный графинчик и две рюмки. Одну я возвратил, а Виктор, не комментируя моего поступка, плеснул себе полную.
– Будь, здоров! – Он опрокинул рюмку и подмигнул. – Вот подохну, и человечество отпустит мне все грехи, вольные и невольные, ако я отпускаю должникам своим. А ты? Ничего не забудешь, ничего не простишь? Тебе мало, что и здесь вот поле боя, большинство – люди с войны, побитые, покалеченные.
– Не прощу, – сказал я. – Гадов не прощу, тех, кто Киев мой жег, не прощу, тех, кто людей моих убивал, не прощу. Помирать буду в муках, вечным блаженством рискну, а не прощу. И дособеру материал для фильма, чтобы другие тоже не прощали.
– Я господин из Америки. – Виктор быстро пьянел. – Я господин без памяти. У меня целый народ беспамятный, потому что, если начнут они вспоминать, скольких индейцев зарезали, скольких негров убили, чтобы загрести и освоить землю свою, я захлопаю крылышками и воспарю выше всех, как безгрешнейший человек на свете! Я из Америки! Я не вижу того, что ты видишь, – развалин, трупов, жженой травы, я слеп к твоим видениям!
– Идиоты, – громко обратился к нам человек из-за соседнего столика и положил наушники перед собой, – нас же память затерзала, а не беспамятство. Не ври, что родина через океан не притягивает. Это мощный магнит, тянет и тянуть будет. Вон Шаляпина, уже мертвого, а перетянуло через кордоны аж на Новодевичье московское кладбище! И слепые от видений мучаются, не говори так про слепых! Это мой брат играет на аккордеоне у входа и торгует лотерейными билетиками, как попугай. Он воевал в Красной Армии, а потом в плену фашисты ему глаза выбили. После освобождения партизаны подарили ему аккордеон, а я приехал к брату и вот остался. Зачем я тут? У нас с братом фашисты перебили дома всю родню: я бы их, гадов!..
Мужчина из-за соседнего столика вскочил, а затем вдруг прижал наушник мне к голове. Схваченная с середины, но узнаваемая, запищала старая песенка, знакомая по дому, старая довоенная пластинка, запомнившаяся невесть когда. Я не обиделся, мужчина почувствовал это и заговорил, обращаясь не к Виктору, а ко мне:
– Ну вы меня должны понять, вы не такие, как этот бармен, ой как я хочу песни своей, хлеба своего, а брат, он же сплошная память о беде, а не о победе, ой же как я домой хочу, только брата нельзя бросить, он ведь одинешенек!
– Иди гуляй! – вдруг гаркнул Виктор на моего собеседника и почему-то хлопнул в ладоши.
– Почему это "иди"? – Мужчина с наушниками возмутился, но видно было, что и в возмущении он полагается сам на себя, потому что никто вокруг не снял наушников, компания за сдвинутыми столиками гуляла, не обращая ни на кого внимания, а женщина у двери сидела все так же одиноко.
– Чистенькие вы все! – крикнул Виктор и снова хлопнул в ладоши. – Тот прямо из Красной Армии, а этот вообще из облисполкома! Чистенькие вы все, и память у вас замечательная! А я весь беспамятный и в дерьме, я сюда подыхать приехал.
– А ты не ори, – на хорошем русском языке спокойно сказал бармен, подойдя к нам вплотную. – Я же тебя отсюда могу так зафутболить, что окочуришься раньше, чем поймешь, что с тобой происходит! Я, милейший, служил у генерала Власова в РОА и не стыжусь. Если пожелаете, я вам такие песенки крутану, что у вас глаза на лоб вылезут. Вы в "Аудио" платите за музыку, а заказываю ее я! И чтоб никто здесь, кроме меня, голоса повысить не смел!
Вдруг от двери послышалась музыка. Слепой аккордеонист вошел в кафе и, играя "По долинам и по взгорьям", двигался в сторону бармена, ни на мгновение не прерывая песню о дальневосточных партизанах, которые разогнали воевод и уже не отдадут завоеванного.
– Выгоню! – взвизгнул бармен.
Слепой швырнул бутылку точно на голос, и, пролетев мимо барменской головы, та разбилась о стену возле пульта, густой ликер потек по обоям.
– Это же ты, гад, моих детей и жену мою в Освенцим отправил, это же ты село мое жег, это же ты, гадючья морда...
– Кто ему выпить дал! – взвизгнул бармен. – Какое село, какие дети?!
Слепой снова бросил на звук, теперь точнее, потому что жестянка попала точно в цель, монеты отлетели от барменского лица и покатились по полу, но никто за ними не наклонялся.
– Врет он! – крикнул бармен, вытирая струйку крови в углу рта. – Кому они нужны, коммунистические байстрюки с бабами! Вот скоро во Франции коммунисты возьмут власть, все на Колыму поедете, узнаете, где чье!
Он даже не замечал, что кричит по-русски.
ПАМЯТЬ. (Из речи рейхсфюрера СС Гиммлера в Познани, октябрь 1943 года.)
"Что сейчас происходит с русскими или чехами, – меня совершенно не интересует... Живут ли нации в довольстве или дохнут с голода, интересует меня постольку, поскольку нам необходим рабский труд для нашей культуры, в ином отношении он не представлял бы для меня никакого интереса. Умрут ли 10 000 русских баб от изнурения во время рытья противотанковых рвов, меня не интересует. Для меня важно только одно: когда этот ров будет закончен для Германии".
НАПОМИНАНИЕ. (Из британской газеты «Гардиан», январь 1985 года.)
"Я четыре года прослужил добровольцем в королевском военно-морском флоте, и у меня нет сомнений относительно того, кто на самом деле выиграл войну в Европе. И поэтому я с гордостью приму участие в праздновании Дня Победы, который учредили русские люди моего поколения, оставшиеся в живых во время фашистской агрессии 1941 – 1945 годов.
Я обязан своей свободой не Голливуду, а миллионам неизвестных погибших русских людей.
Дэвид Скелдинг"