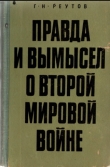Текст книги "Не бывает прошедшего времени"
Автор книги: Виталий Коротич
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
8
Умение хвалить людей, книги и города свойственно далеко не всем людям на свете. Я давно знаком с одним – и неплохим – профессионалом-литератором, который в штопор свивается, если в его присутствии хорошо отозваться не то чтобы о другом писателе, а о ком угодно. Сам он может снизойти до похвалы другому человеку, но при этом, и хваля, неуловимо унижает, сводя похвалу к пренебрежительности.
Нельзя, не надо привыкать, когда так говорят о людях. Не надо мириться, когда так говорят о городах. Общие места всегда опасны – то ли "Все женщины одинаковы" или: "Всем им одно надо от бедной девушки"; то ли – "Ах, что там ваш Рим, провинция", "О, Нью-Йорк, грязная толкучка", "А, Париж, все у него в прошлом". Человеческие неискренность и поверхностность, неумение или нежелание искать точки собственного соприкосновения с судьбами людей и городов, задумываться о них, опасны, особенно для человека пишущего. Впрочем, столь же неприемлемы некритичность восприятия, наперед запрограммированные восторги, как всякая неискренность. Даже внутренне сопротивляясь, нельзя не подпасть под обаяние Парижа, обращенное к каждому из нас. Нельзя пренебрегать великими репутациями, надо задумываться над ними; коль уже слава книги, города или человека состоялась, достигла нашего времени – значит, стоит задуматься над ее корнями.
Очень плохо, что в Париже мне довелось быть одному – в обычном варианте визитерского вакуума. Пока разберешься, с кем можно поговорить по душам, а с кем нельзя (твою исповедь запишет и немедленно передаст куда следует), командировка закончится. Как хочется иметь родную душу рядом, как хочется!
В городе детства, в сожженном Киеве, была у меня трава возле подъезда, куда можно было возвращаться из походов по голодному и расстрелянному городу, и там ожидали меня, там выслушивали меня, не перебивая. Все меня там уважали, всё уважало: земля, трава, соседний дом, подъезд, где на третьем этаже находилась квартира моего детства. Что за чудесное местечко там было! Место для всех наших мальчишеских приговоров, для составления проектов преобразования жизни человечества, с которой явно что-то было не так.
В Париже у меня своей травы не было: собственно, травы в городе росло порядочно, только вся она была чужой. А к подъезду "Макс Резиданс" я и вовсе поспешал по бетону – так скорее. Здесь были чужие лужайки, чужие подъезды и чужие друзья. От того, что в Париже мне было не с кем выговориться по душам, я очень страдал. Знакомые по дому корреспонденты суетились, выполняя редакционные задания, вызванивая Москву; было им не до меня, разве что время от времени можно было встретиться и погоревать за кофе, что суетливо, мол, не так живем. Все успевали многое, и все понимали, что перед своими хвастаться сделанным не следует: а вдруг кому-то не удалось, зачем дразнить? Лучше спроси, кому какая помощь нужна. Спрашивали искренне...
Умение делиться – очень важное умение. На Востоке есть милое наивное поверье, что, если поесть перед глазами у голодного, непременно живот заболит. Следует разделять хлеб между голодными, улыбку – между одинокими, следует...
Мало ли что следует...
Впрочем, хорошие собеседники убивают тягу к писательству. Я уверен, что человек, имеющий постоянную возможность выговориться с предельной откровенностью, стремится к сочинительству куда с меньшим энтузиазмом, чем тот, кто по выбору или по обстоятельствам одинок.
Некоторые уроки войны важны мне в чисто человеческом плане. Помните, стучал человек в дверь к нам, просился переночевать – всегда разрешали и стелили на мягком. До войны такое в городах было не очень заведено; во время войны серьезные люди с синими петлицами тысячу раз предупреждали, что по нечаянности можно приютить шпиона. Их слушали. Но слушали и подсказки утомившихся от войны сердец.
Почему-то не верю, что хоть однажды в доме у нас ночевали нехорошие люди. Чужой человек ведь должен был пройти вначале по двору, постоять на траве у подъезда, поздороваться и перемолвиться с кумушками и хоть как то, а заявить себя.
Как же вы, Иван Спиридонович, в Европе отаборивались?
А ты, Виктор? Как входил в Америки свои и Европы? По какой траве? В какую дверь? Думаю о тех, кто входил в чужое безразличие, растворяясь в нем; даже врагам своим не желаю горшей судьбы.
У меня всегда были собеседники, исповедальники, слушатели, – я рос и формировался, спасибо судьбе, перед множеством заинтересованных взглядов и до сих пор перед ними живу. Это важно, Иван Спиридонович, как жить, когда все глядят сквозь тебя.
Знаете, до чего же хочется побродить по Парижу в одной из компаний моего детства и погрызть зеленую травинку с нашего двора! Причем, уверен, мои голодные одноклассники не падали бы в обморок даже перед роскошнейшими парижскими витринами. Война и то, что мы, дети, тоже победили в войне, формировали нас достойными до величественности, королями на травке...
Почему я вспомнил про все это? На рю Сегюр, поблизости от гостиницы, были выставлены квадраты искусственного дерна. Изумрудная трава, синтетические стебли которой можно было мыть из шланга и ездить по ней хоть на тракторе. Здесь же для полной ясности был изображен мальчик, моющий искусственную траву могучей струей воды, а рядом – другой мальчик, разминающий могучим колесом изумрудность газона. Ненастоящий дерн надлежало укладывать перед загородным домом, где об эту синтетику рекомендовалось вытирать ноги и парковаться на ней. Искусственная трава бесстрашна.
Наверное, это Неплохо, что такое придумали. Что существует бесстрашная лужайка, которая ничего не боится и которую можно носить с собой, как прилежные мусульмане носят молельные коврики для намаза. В то же время мне не нравится, что на свете придумано столько заменителей чего угодно. Эрзац-кофе, эрзац-любовь, эрзац-литература, эрзац-картошка.
Слово "эрзац" во мне с детства. Оно означает "заменитель", "подделка", "искусственный", но я никогда не заглядывал в словари, чтобы усвоить это значение. Виктор, должно быть, усвоил его основательней, долго прожив среди изобретателей самого понятия "эрзац" (бывает ли "эрзац-родина", подумал я). Слово принесли оккупанты, оно исчезало с ними, очень быстро исчезало, тем более что началась активная борьба с космополитами, когда иностранные слова забывались особенно быстро. И все же слова запоминались, как голоса чужих самолетов; я еще по далекому вою различал, где "мессершмитт", а где "хейнкель".
...Никогда не предвидел, что столь легким окажется всякий переход с парижских бульваров на сожженные улицы моего детства – по собственному следу. Бесконечные переходы между войной и миром; я очень хорошо знаю, что бывают времена, когда добрая правда лучше любой выдумки; сейчас вот такое время.
Таков уж стиль этой книги – путевые заметки с мемуарами, но все это мне представляется значительнее, чем просто литературный прием. Факты: нашего времени таковы, что самый большой выдумщик столбенеет, обратись к ним лицом.
Один из немногих случаев, когда я могу согласиться с бывшим британским премьером, человеком безусловно незаурядным, хоть и не из лучших наших друзей. Андре Моруа вспоминает, как они обедали в Лондоне незадолго до начала второй мировой:
"Когда все вышли из-за стола, Черчилль взял меня под руку и отвел в маленькую гостиную.
– Сегодня, господин Моруа, – сказал он резко, – не время писать романы! Да! И не время писать биографии...
Я встревоженно взглянул на него.
– Сегодня необходимо лишь одно – ежедневно писать по статье..."
"Путевые заметки с мемуарами" должны принять в себя понемногу и из романного, из биографического, из документального жанров, так как жизнь вмещает в себя все...
Допишу эту повесть и сделаю фильм, но все это погодя, а пока думаю, насколько даже Париж не существует для меня без той, прошедшей, войны, без всей моей прошлой жизни. Поэтому и вспомнилось скрипучее слово "эрзац".
Когда фашисты отступали из Киева, я решил принести домой хоть что-нибудь оставленное ими; в доме ничего не было, и не было именно потому, что оккупанты ограбили нас, нажились по самую свою бандитскую глотку.
В пустом помещении немецкого штаба, где уже лютовали какие-то бабы, потроша и ломая все, что можно было сокрушить, я обнаружил бумажный мешок с чем-то безусловно съедобным. Те же бабы подсказали: "Бери, мальчик, все равно мыши сгрызут". Я подсел под бумажный мешок, принял его на плечи и попер домой. Не знаю, сколь долго довелось мне тащить его; тогда казалось, что вечность. Я все-таки припер: падал от напряжения, наконец рухнул с мешком на траву у подъезда.
Кто и как довел меня домой, не помню, но в мешке оказался сушеный картофель. Это была еда, хоть никто из нас ни до, ни после сушеной картошки не видывал и не едал. Теперь новый продукт воцарился у нас возле плиты – мешок и не убирали. Меня отпаивали картофельными супчиками, похожими на некрасивый компот из сухофруктов серого цвета. У нас это кушанье звали "эрзац-картошка", но я чувствовал себя героем, победителем драконов, спасителем семьи.
Слово "эрзац" поскрипывает, как песок из оккупантского продукта в бумажном мешке...
– Считаешь, супа и на меня могло бы хватить? – спросил Виктор, когда я рассказал ему про сушеную картошку. – Я почему-то запомнил, что у тебя самым страшным ругательством в детстве было "жадина", "жмот". Ты там не жмотничал возле своего мешка, сохранил способность поделиться?
– Не жмотничал, – сказал я. – А словом тем до сих пор ругаюсь...
Мы с Виктором назначили свидание на Монпарнасе у небоскреба, заполненного универмагами, в том числе американским "С энд А". В подземном переходе у небоскреба всегда можно посидеть в маленьком кафе, зарывшемся под монпарнасские тротуары. И в разговоре с Виктором воспоминания про эрзац-картошку на фоне здешнего уюта могли прийти лишь в особенным образом устроенное сознание, как мое.
– Ты переполнен памятями. Должно быть, и моя память в тебе, – сказал Виктор, – а я подробностей не помню. Просто помню о нескольких поражениях, о том, как страдал, проигрывая...
Виктор внимательно поглядел на циферблат своих часов (у него был старомодный, со стрелками, американский "Виттнауэр"), покачал его возле уха и послушал. Взмахнул левой рукой в мою сторону:
– Там у вас у всех память, как у тебя? Прикасаясь к этой теме – ты заметил? – начинаю говорить "у вас", потому что страна, где я родился, становится непонятна мне. Володя, отвечай честно, мне надо знать. Память победителей особенна, она истощается от триумфов, имей в виду. Впрочем, я не раз принимался читать некоторые ваши романы про войну, но, может, мне попадались именно такие: в романах больше всего было о потерях, беспорядке в начале войны, растерявшихся лейтенантах, грязи в траншеях. Вы действительно написали обо всем в надлежащих, истинных пропорциях? Как одержали победу, кого наградили, кого простили, кого осудили?
– Тебе хочется знать про это?
– Хочется. У побед и поражений разные памяти. Я тебе задам шкурный вопрос: вы еще долго будете преследовать тех, кого назвали предателями?
– А почему шкурный? А почему назвали? Предатели, они и есть предатели. Ты уехал, никому не навредив, вместе с родителями, при чем ты?
– А при том, что я все забыл. А вы еще долго помнить будете?
– Всегда, – сказал я. – И ни одному предателю не простим.
– В Америке такого быть не может. Есть давность, после которой преступления забываются, кровь высыхает, запах пороха рассеивается.
– Виктор, – сказал я, – ты прости, но я изложу свою мысль торжественно. Преступление против народа, предательство народного дела не забываются, покуда народ жив. Преследовать преступников должно государство, коль оно вправду воплощает народное дело. Если же государство прекращает преследование убийц, это значит, что оно солидарно не с теми, кто противостоял убийству, а кто убивал.
– Хочешь сказать, что твоя страна – воплощенная справедливость?
– Страна – да. Хоть, как в любой большой стране, есть у нас и лжецы, и воры, и прочие человеческие ошметки. Но они не разговаривают громче всех, и не они определяют все.
– Ты убежден?
– Абсолютно. Я не любил бы свою страну так, как люблю, если бы она была иной. Я ушел бы в оппозицию, но крайней мере жил бы иначе.
– А так ты "за"? – меланхолически спросил Виктор, снял часы с запястья и покачал их возле уха. – А то нынче многое модно вполсилы, даже патриотизм...
– Еще и как! – сказал я. – Еще и как "за". Ты же сам знаешь.
Мы помолчали, прежде чем переглянуться.
– Ты очень страдал? – спросил я. – Знаешь, взрослость и в том, чтобы суметь понять себя и других.
– А ты? – не ответил Виктор. – Ты же хочешь сделать кино о том, что люди забывчивы, возродить образы всех поражений и всех побед.
– Это у тебя, Виктор, было два поражения. А у меня – одно поражение и одна победа. В этом разница.
Он еще раз внимательно взглянул на меня и поднялся:
– Надо идти. Иногда я думаю, как во времена, когда нам было хуже всего, кто-то клацал на счетах и щелкал на арифмометре. И в Париже подсчитывали количество снарядов и бомб, и в Лондоне подсчитывали, и в Берлине, и в Москве. Хорошо, что не все снаряды попали в цель. Сделай кино и про это.
– У нас во время войны была известна история, когда офицер вызвал на себя огонь собственной артиллерии, потому что фашисты обрушились на него густой массой, и он предпочел погибнуть, а не пустить их.
– Это не для меня, – сказал Виктор. – Созвонимся вечером. Ты читал их писателя, он же летчик, Антуана де Сент-Экзюпери? Из благородной, богатой семьи, пошел простым пилотом, полетел куда-то и не вернулся. Возможно, если бы он не вызывал огонь на себя, было бы на свете побольше красоты.
– А может быть, напротив. А может быть, фашистские бомбардировщики, сбитые Сент-Экзюпери, и не долетели до Парижа, до Киева и до Лондона...
Виктор поклонился и медленно ушел от меня, ничего не ответив.
...Я шел по Монпарнасу, знаменитому бульвару, бывшему пристанищем европейской богемы еще в начале века. Здесь растекались водовороты голодных писателей и художников, работавших до истощения, безжалостно к себе, но подчас и гениально.
Интересно было идти по бульвару снизу, от некогда знаменитой "Курящей кошки" к "Ротонде", "Куполу", "Дому", где сидели респектабельные посетители, подавались напитки, и не снившиеся истощенным художникам полвека назад. Решившись, я глотнул в "Куполе" стаканчик перно с водой за добрую память хороших людей и вспомнил, как Хемингуэй в "Празднике, который всегда с тобой" рассказывал о Паскине, пьяненьком веселом художнике, чью работу я увидел на стене тбилисской мастерской Гудиашвили. Времена соединяются нерасторжимо, судьбы соприкасаются; странно, что кто-то может не ощущать этого единства времен и судеб.
ПАМЯТЬ. (К вопросу о сращивании времен и о судьбах городов.)
"В период Сталинградской битвы советские войска разгромили три немецкие бронетанковые дивизии, находившиеся до этого во Франции. После поражения в гигантской битве под Курском гитлеровское командование заменило свои наиболее боеспособные войска во Франции, Бельгии, Голландии плохо обученными солдатами. В таких условиях действия французских патриотов стали более организованными и эффективными.
"Не использовать исключительно благоприятных реальных возможностей, которые создало победоносное наступление Красной Армии, было бы не только непростительной ошибкой, но и преступлением по отношению к Франции", – писал Морис Торез.
После капитуляции Италии против советских войск сражалось 260 вражеских дивизий, среди которых 210 – германских. А на итальянском фронте англо-американским и французским войскам противостояли только 9 – 10 немецких дивизий. Союзники рассчитывали взять Рим одновременно с Киевом. Но это им не удалось. Англичане не смогли захватить остров Родос. В разгар боев на Востоке боевые действия США и Англии в Италии были приостановлены. В итоге гитлеровцы смогли направить против Советской Армии новые танковые дивизии и даже перейти в контрнаступление в районе Киева".
Ю. Борисов. «СССР и Франция: 60 лет дипломатических отношений».
ПАМЯТЬ.
"Я думаю, что те, кто погиб, просто служат порукой за остальных".
А. де Сент-Экзюпери. «Военный летчик».
9
Одним из самых выразительных образов, которыми ребенок увековечен в истории мировой культуры, безусловно, является Гаврош Виктора Гюго. Я много размышлял о том, почему на таком же уровне не увековечены всемирно наши киевские или одесские Гавроши, почему в благодарной памяти человечества не запечатлелись они так, как юный герой Гюго. Киевские мальчишки, бывшие связными у партизан, наши девчата, переносившие мины с квартиры на квартиру, молодежь, бежавшая от фашистов, устраивающих облавы, вооружавшаяся против захватчиков, – кто напишет про них? Я вряд ли сделаю это, хотя в фильме будет немало сцен гибели молодых людей. Но молодые люди ведь и смеялись и еще как! Никогда не забуду беспризорного Кольку из своего детства, как он умел смеяться, голодный и холодный. Как он хотел и как умел жить!..
– Кольку застрелили, – сказал Виктор, словно прочел мои мысли. – Он удирал от облавы, а полицай выстрелил и попал первой же пулей. Мне мама сказала, она очень плакала. Я не сказал тогда тебе, потому что мы уезжали и не только живые с мертвыми, но и живые с живыми расставались навечно.
– Таисия Кирилловна не ошиблась? Виктор пожал плечами:
– Послушай, Володя, если мы с тобой отправимся по собственному следу, сколько белых пятен окажется на пути нашего возвращения! Я ведь и в этом случае не Кольку вспомнил, а мамин голос. У меня нет маминых фотографий, только некоторые слова ее. Наши родственники, наши знакомые, наши города из прошлого – все они позади, в иной жизни, там...
– Виктор, ты не прав. Смерть не разрывает нашу жизнь на части: даже мертвые всегда вместе с нами, просто изменяется форма взаимоотношений. Прошлое исчезает лишь то, которое ты стремишься уничтожить: да и не исчезает оно, а таится, как память у пьяного: просыпаешься, а дом над тобой горит, и все разом вспомнится. Понимаешь, Виктор, я встречался здесь с ветеранами полка "Нормандия – Неман", какая же у них хорошая память! Помнят даже, что командир полка Тюлян строил свою землянку рядом со взлетной полосой, чтобы в момент тревоги успеть к самолету первым. Они помнят, где кого убило и где кто похоронен, – им не требуется ничего предавать забвению.
– Считаешь, мне надо? Считаешь, скрываю некий грех?
– Тебе находить надо, а ты теряешь.
– Все мне подсказывают, где находить, что находить, а я хочу дожить спокойно, потому что война окончилась и я не хочу, таскать ее за собой.
– Думаешь, если забудешь прошлую войну, спасешься от всех?
– От каких еще всех?
– Вчера на улице Сен-Жак на Монпарнасе я встречался с участниками движения за мир, объединившимися в организацию "Призыв ста". Я сказал им, что тот мир, который мы сообща хотим защитить, начался после нашей Победы. Они глядели на меня удивленно, а иные и слушали недоверчиво. Этих самых "иных" убедили, что каждая война, мол, отдельная. Но ведь, если кто-то останавливает распространение правды о предыдущей войне, вызревает новая.
– Если следовать, Володя, твоей логике, то и я способствую новой бойне.
– Тем, что стремишься позабыть старую, тем, что других приучаешь к забыванию.
– Володя, не говори красиво! Ты же знаешь, кто я такой.
– Не знаю.
– Но была война!
– Было и после войны.
– И посему великий грех – забывать?
– Когда я вчера встречался на Сен-Жак с участниками "Призыва ста", на улице патрулировали неофашисты из организации Ле Пена. Они несли плакаты: "Освободите Клауса Барбье!" На части неофашистов были ослиные головы из папье-маше, а на груди плакаты: "Я осел! Я верил, что Барбье или еще кто-нибудь из членов антикоммунистической организации мог убивать невинных!" Они уже называют СС скромно "антикоммунистической организацией", а эсэсовца Барбье "невиновным"!
– При чем здесь я?
– При том, что ты знаешь и не говоришь правды. А они знают и лгут. Значит, по сути, ты за них!
Виктор замолчал, и я еще раз подумал, сколько лет и сколько судеб между нами сегодня. Оценивая все происходящее, все равно возвращаюсь в детство, будто к межевому столбу.
С той поры, как мы расстались, у него была жизнь, рассказывать которую Виктор не спешил и хотел забыть, как все прожитые дни, включая вчерашний. А я?
Меня судьба уравняла с целым народом. А его?
Когда мне встречаются сверстники, которых я знал несколько десятилетий назад, всегда стремлюсь разузнать, до скольких лет, до какого именно времени были мы вместе, рядом, в одинаковых условиях. Даже разные школьные годы были будто разные эпохи: до того, как в классах затопили; до того, как роздали первые учебники; до того, как впервые привезли парты. У меня было очень много общих переживаний и впечатлений с миллионами людей, доселе берегу в себе это чувство.
Однажды во всех классах нашей школы вывесили плакат, где в картинках повествовалось о героическом поступке киевского школьника, спасшего полковое знамя. Удивительно, но ни у кого не было чувства, что рассказанное на плакате событие случилось недавно. Война продолжалась, а плакат рассказывал о подвиге, повторить который не удастся никому из нас: радио транслировало праздничные салюты и концерты, а Красная Армия перешла уже государственную границу и ее полковые знамена развевались на неведомых европейских ветрах.
Николай Василенко (я тогда все искал на улицах взглядом нашего друга Кольку из оккупационных лет и поэтому относился к Василенко с нежностью – он был единственным Колькой на весь класс), чей отец после ранения, демобилизованный возвратился домой, ежедневно рассказывал нам невероятные истории о европейской жизни, о городах и селах с труднопроизносимыми названиями, где наша доблестная армия колошматит фрицев на пути к Берлину, позабыв о трудном начале войны. В газетах публиковались указы о присвоении геройских званий; уже первые демобилизованные постукивали костылями и позванивали медалями; в городе работали не только школы, но и университет, куда из действующей армии отозвали нескольких профессоров. В воздухе пахло Победой и миром.
Мне до сих пор жаль себя, до сих пор странно, как я, ребенок, все это выдержал. И в то же время мне жаль тех, кто не пережил этого, не прошел моих школ формирования характера. Собственно, школы были не только мои, учились мы массово...
Нас было в классе сорок два мальчика, все разные по возрасту, знаниям, опыту. Еще напишут книги и снимут фильмы о том, что именно почувствовали взрослые, возвратившись с войны и засев за парты; В конце Великой Отечественной ощущение возвращения с войны было у каждого из нас.
Мы все возвратились с войны, кто выжил. Мы понесли потери, ведь слишком уж многих сверстников растеряли в дыму и в огне. Кое-кто погиб в бомбежку, кто-то остался в эвакуации, кто-то просто исчез, как Виктор, а некоторые заболели и не выздоровели. Война продолжала убивать нас: никогда не видел я столько детских похорон, как в ту пору.
Но мы выжили! Поскольку послевоенное время еще не наступило, мы учились по невесть как уцелевшим учебникам, порой была единственная книга на класс. Иногда полурока уходило на то, чтобы продиктовать нам домашнее задание. И это объединяло. Когда оказалось, что у одного из моих одноклассников был учебник, утаенный от всех, прижимистого владельца книги нарекли "жмотом", а в те годы сообщества не было клички позорней.
Много позже, в конце школы, мы научились жульничать, прятать от родителей недавно введенные дневники. В начале же моих школьных лет все вокруг были охвачены не виданной мною никогда больше стихией порядочности; мы были одержимы добросовестностью. А к учебе относились как к делу государственному, выясняя премудрость таблицы умножения, которой у нас не было на тетрадных обложках, поскольку и самих тетрадей не было. Писали мы на чем угодно, в том числе на твердых досках, с которых все можно было смыть: чернилами служила болтушка из сажи.
Сколько мы умели и как гордились своим умением! Война делала нас взрослыми в семь, восемь, десять лет, и детство не было беззаботным ни у кого. Иногда я боюсь за собственных детей: слишком уж благополучны они и всезнающи; мы ведь даже довоенные книжки о счастливом детстве (других в школьной библиотеке не было) читали, не иронизируя, предполагая, что когда-нибудь и сами так заживем. Растут дети у нас, лучше ли живут они? Едят-то лучше...
Мы знали цену счастью и были счастливы ежедневно: появился хлеб – счастье; тетради – счастье; выдали что-нибудь из одежды – счастье! Счастьем было то, что наша власть воцарилась в городе, – все прочие благополучия следовали из этого.
Пора потерь и время радостей – я врастал в них сквозь детство, где было предостаточно того и другого.
А теперь, в Париже, возвращал себе Киев.
Ну скажите, вы можете представить себе человека, погружающегося в глубину, из которой только что так нелегко было всплыть? Причем погружается он добровольно, даже не отдышавшись. Сорок лет прошло после войны, не верится.
(На Елисейских полях по вечерам можно наблюдать поразительное зрелище, волнующее, трогательное, привлекательное для туристов: когда Вечный огонь у могилы Неизвестного солдата зажигают как бы вновь. На закате к могиле, расположенной под слоновьими ногами наполеоновской Триумфальной арки на площади де Голля, приходят визитеры. Иногда это почетные гости Парижа, иногда молодые люди, иногда ветераны. В сопровождении почетного эскорта люди, которым выпала эта честь, подходят к светильнику на могиле и зажигают огонь.
Не сравниваю и не обсуждаю ничьи традиции, но это важно – знать, что Вечный огонь мы поддерживаем сообща и зажигают его не боги, а нормальные люди, наблюдающие из поколения в поколение за тем, чтобы он не погас.
В течение дня эта площадь была автобусной стоянкой, здесь толпились туристы, покупая сувениры, открытки, игрушки. Но в сумерках под Триумфальной аркой вспыхнул огонь, и времена сплотились еще теснее.
Думаю о собственном детстве, как о Вечном огне, который должен оставаться трогательно чистым, свидетельствовать, что жизнь серьезна и беспрерывна. Так же наши с вами жизни. Прошу вас принять этот тезис как необходимый для понимания всего, что напишу дальше.)
Разговаривая с Виктором в Париже, я понимал, что мы разделились тогда, в детстве, когда он сбежал от горя моей страны и моего горя. Надо объединяться судьбой с народом. Если этого не происходит, не происходит и жизни. Точнее, жизнь становится как облако, от которого никому ни дождя, ни тени.
Когда было необходимо, мои сверстники оказывались в состоянии спасать полковые знамена; детей, отличившихся в недетских делах, среди моих сверстников было немало. К десятилетнему возрасту я нагляделся на мальчишек с медалями больше, чем на мальчишек, играющих в мяч. Да и медалей в ту пору наша промышленность вырабатывала побольше, чем мячей. Тогда же ко мне пришел и мой первый Париж с фильмом про Гавроша, так похожего на всех детей народных войн и справедливых восстаний.
Половина моих одноклассников потеряла отцов на войне; в нашем классе было два одноногих ученика. Спасенные и никогда не спасавшиеся знамена развевались далеко от нашей школы, на западе, но пули, пробившие те знамена, продолжали лететь в нас.
Пусть простит мне Париж – я не страдал вместе с ним; это ведь мой город, Киев, мой двор и моя трава были оккупированной территорией. Я разбирал кирпичные завалы и всегда чувствовал, что мы с городом не раз спасали друг друга и нам никогда не будет плохо, если сумеем сохранить свое единство.
ПАМЯТЬ. (Справка для тех, кто выжил.)
Число человеческих жизней, загубленных во второй мировой войне, составило почти 70 процентов общего числа погибших во время войн в Европе за период с 1600 до 1945 год... Общее число жертв, включая убитых, погибших от голода, болезней и воздушных бомбардировок (с учетом гражданского населения), достигло во второй мировой войне 55 миллионов человек, что в 2,2 раза превосходит число жертв первой мировой войны.
По кровопролитию вторая мировая война является беспрецедентной. Но люди гибли и на каторжных работах в Германии, куда были насильственно угнаны. Только из Советского Союза было угнано 4978 тысяч человек, из Чехословакии – – 750 тысяч, из Франции – 250 тысяч человек.
Советский Союз вынес на своих плечах основную тяжесть борьбы с фашизмом. На его долю приходится самое большое число человеческих жертв второй мировой войны. Только прямые людские потери СССР составляют около 20 миллионов человек...
При среднегодовом приросте населения в 1,32 процента, который имел место в 1940 году, в Советском Союзе, не будь войны, в начале
1946 года должно было бы проживать 213 миллионов человек. В действительности же численность населения в этом году была примерно на уровне 167 миллионов человек. Следовательно, потери погибшими и снижение естественного прироста населения уменьшили возможную численность населения СССР на 46 миллионов человек.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
После завершения первой мировой войны 1914-1918 годов В. И. Ленин писал, что встает "вопрос о том, будет ли в следующей, на наших глазах подготовляемой буржуазиею, на наших глазах вырастающей из капитализма, империалистской войне перебито 20 миллионов человек (вместо 10-ти миллионов убитых в войне 1914 – 1918 годов...), будет ли в этой неизбежной (если сохранится капитализм) грядущей войне искалечено 60 миллионов..."
Сборник «Милитаризм: цифры и факты». Москва, Политиздат.