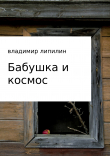Текст книги "Каникулы с дядюшкой Рафаэлем"
Автор книги: Винцент Шикула
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
НЕВЗГОДЫ ИЗ-ЗА ГЕЛИКОНА
Как только всходит солнце, сна в доме у нас как не бывало. Петухи горланить начинают ещё в темноте, кур будят. Те давай кудахтать, словно девчонки на автобусной остановке, когда учительницу ждут. Но куда ещё ни шло – куры. После них гусям черёд приходит. Отец постоянно забывает закрыть калитку в загородке, где у нас гуси ночуют. И потому никто им не мешает перейти через двор и остановиться у самых дверей в кухню. Подождали бы тут! Так нет! Как начнут долбить носами в дверь, словно очередями из автомата сыплют. Но самое скверное – это мухи. Едва солнышко покажется, как мухи уже над головой жужжат, будто самолёты, хоть ты тресни! И откуда только эти мухи берутся? Хоть каждый день их изничтожай, всё равно они откуда-то летят и летят. Больше ещё скажу: муха из всех насекомых самая назойливая. Вот именно так! Муху можно сто раз прогнать, сто раз от неё рукой отмахнуться, а муха опять прилетит. Вот какие мухи назойливые! Ну не-ет! Не позволю мухам себя донимать!
Сбрасываю с себя одеяло и встаю с постели.
– Что с тобой? – спрашивает мама.
Никак у неё в голове не укладывается, что вдруг я сделался такой ранней птахой.
Я пожимаю плечами и молчу.
– Почему ты уже встал? – допытывалась мама.
– Почему? Из-за мух! Мухи мне спать не дают!
– Но ведь не так уж их много! Позавчера всех перебила.
– Перебили? Откуда же они тогда взялись?
– Вот я говорю: не так уж их много.
– А всё-таки есть! Спать мне не дают, – говорю я, хотя и чувствую, что не так уж здорово сержусь. Наоборот даже, пожалуй, почти и не сержусь. Мне даже нравится, что я в такую рань встал.
– Если хочешь, ступай ложись на чердаке, – предлагает мама. – Отец ведь спит на чердаке, там воздуху больше.
– Э-эх!.. – И я потягиваюсь так, что у меня трещат кости.
Потом беру мыло и отправляюсь во двор, у колодца наливаю немного воды в таз, отхожу в сторонку и начинаю умываться. Мама стоит в дверях и всё ещё дивится, что я встал так рано, никак не может поверить, что из-за каких-то дурацких мух я поднялся.
– Завтракать будешь? – кричит мне мама с порога.
– Завтракать?
– Завтрак готов. Если хочешь, можешь сесть за стол.
– Нет, потом.
Таз и мыло я оставляю у колодца – и марш прямо в комнату. Там я беру геликон, надеваю на плечи и стою, словно с ним разговор веду. Наконец я извлекаю из него несколько протяжных звуков и, разыгравшись немного, начинаю гамму. Не успел я её окончить, как с чердака выскочил отец.
– Ах ты олух несносный! И ночью от тебя покоя никому нет! Только и знаешь хрипеть, фырчать да дудеть без умолку. Как у тебя труба только не лопнет!
Ничего не понимая, я гляжу на отца, а мама за его спиной смеётся.
– Или нарочно вы всё это подстраиваете, с ума, что ли, оба посходили, человеку отдохнуть не даёте! – сердито выговаривает нам обоим отец.
– Который час? – спрашивает мама и глядит на часы.
– Который час? Половина шестого! – ещё громче кричит отец. – Целый день по полю гоняешь, вечером возле дома возишься, а захочешь под утро поспать, так труба над ухом начинает реветь, весь дом дрожит!
– Что дрожит, где дрожит? – смеётся мама.
Глядя на неё, смеюсь и я.
– Шалопай этакий, он ещё и смеётся! – набрасывается на меня отец, хватает за воротник и выталкивает на двор вместе с трубой.
Ничего-то родители не понимают, и от этого у меня успехов не прибавится. Отец-то музыкантом не был. Понюхал бы музыки, знал бы, что научиться чему-нибудь можно, только если упражняться каждый день или хоть через день. Не понимает этого отец. И понять никак не желает. Зачем же, спрашивается, в таком случае тащил он меня в музыкальную школу? Зачем толковал о гармонике? А разве только одна гармоника существует на свете?
Я забираюсь в самый дальний угол двора и, сев на дубовую колоду, с грустью размышляю о своих родителях. Ничего-то они не признают! Думают, что только у них одних заботы есть. А если я чего-нибудь нового не разучу, что сказать дядюшке Загрушке в своё оправдание? И что Загрушка мне скажет? Он лодырем меня назовёт и геликон отнимет. Вот и сижу я да раздумываю, как мне родителей переубедить. Как их переупрямить? Скорей всего, так: не стану ничего есть. Сначала они будут меня насильно кормить, а там, глядишь, обо мне забудут. Тем дело и кончится. Или же отец, уходя на работу, шапкой меня шлёпнет. Скорей всего, так и будет.
Сижу я, посиживаю, на ласточек смотрю. Как они весело щебечут на крыше! Смотрите, живут как хотят, и никто им не мешает! Эх, был бы я ласточкой! Ну нет! Что-то такое я читал, и глупо это было. Гм… Быть бы птицей побольше! Я ещё некоторое время гляжу на крышу, потом забываю обо всём и играю гамму.
«Цвик! Цвиу!» – проносятся с криком ласточки над моей головой.
– Чао! – отвечаю я им и продолжаю играть.
– Соседка! – слышу я голос с соседнего двора.
У нас ни звука. Я прикладываю мундштук к губам и ещё раз проигрываю гамму.
– Соседка, вы слышите? – снова кричат с соседнего двора.
– Меня зовёт кто-то? – откликается мама на кухне.
– Соседка, не может ли ваш мальчишка дудеть ещё где-нибудь?
– Что-о?
– Дудеть! Знай себе дудит, а это нашему псу не больно-то по вкусу пришлось. Воет, словно бешеный.

– Ваш пёс?
– И голуби пугаются. Заприте-ка вашего парнишку куда-нибудь в подвал, что ли! Не перестанет, так я его водой оболью!
Конечно, кому не надоест меня слушать! Разобиженный, я проглатываю слюну, что набралась на губах, и тащусь через двор.
– Я отсюда ухожу, – ворчу я, проходя мимо мамы.
– Почему? И куда? – спрашивает она, и по её голосу я чувствую, что она раздражена точно так же, как и я.
– Ухожу.
– Куда?
– Куда глаза глядят.
– Хоть бы амбар у нас какой-нибудь был! – вздыхает мама.
Но я уже сыт по горло всеми этими невзгодами, тащу геликон в комнату, потом стою, заложив руки за спину, не зная, что предпринять и куда уйти. Когда я уже надел шляпу, доставшуюся мне в наследство от деда, вдруг мне на глаза попалась плетушка, и тогда мне приходит в голову: а ведь можно сходить в лес по грибы! На душе сразу становится легче, и я появляюсь на дворе с прояснившимся лицом.
– Куда ты? – опять спрашивает мама, и по её голосу я понимаю, что она всё ещё мне сочувствует.
– Никуда.
– Ну, чего ты отговариваешься?
– Я не отговариваюсь.
– Так скажи, куда же ты пойдёшь?
– По грибы.
– По грибы?
– Ну да.
– Один?
– А я ведь ни с кем не сговаривался.
– Заплутаешься ещё. Не годится в лес одному ходить.
– Ну-у…
– Ты, я вижу, и разговаривать по-человечески не умеешь. Смотри, отцу скажу.
– Да-а, все на меня жалуются. А я виноват, что мешаю всем?
– Кому ты мешаешь? – серьёзно спрашивает мама, и снова в её голосе слышится сочувствие. Но от этого я ещё больше злюсь.
– Всем мешаю.
– Тебя в лесу ещё лисица искусает, – говорит мама.
– Лисица?
– Лисы сейчас болеют.
– Лис я в лесу пока ещё не встречал.
– А вдруг наткнёшься?
– Наткнусь, так только рад буду!
– А не заблудишься?
– Нет, не заблужусь.
В ЛЕС ПО ГРИБЫ
Вот я и шагаю по тропинке. Слева ручеёк журчит, где мы всегда ловим раков. Однажды – дело было четыре или пять лет назад – я сунул руку под корень в воде да как закричу.
Ребята все ко мне сбежались, а когда я руку вытащил, они хохотать принялись, да так злорадно. Ещё бы! Рак-то клешнями в мой палец вцепился. Вот я какой герой!
Справа от тропинки виноградники тянутся. Старые лозы сейчас сверху донизу обрызганы купоросом; от купоросной лазури прямо в глазах рябит. Но кое-где виноградники заброшены: даже до лоз руки не дошли. Взрослые сами о многом часто забывают. А почему? И потом на молодёжь ссылаются: мол, молодые-то все в город бегут. И ещё грозят своим детям: «Осёл! Здесь останешься, работать в кооперативе тебя заставлю!» Будто в кооперативе одни дураки работают!
У Гра́бовки я задерживаюсь. Грабовка – это родник. Вытекает он из-под скалы, и всё лето в него падают орехи и дикие яблоки. Нигде по всей округе нет лучше воды, чем в Грабовке. Сюда пить ходят не только из нашей деревни, но и из соседней, что стоит сразу же за холмом по ту сторону ручья. Но сейчас ещё рано, пить мне пока не хочется, а потому я весело бегу дальше.
Наконец я и в лесу. На самой опушке растут толстенные дубы. Лиловые колокольчики выглядывают из высокой травы. Я вспоминаю о девчонках. Вот где могут они нарвать красивые букеты! Но где сейчас девчонки? Во время каникул разве найдёшь их? Они не скоро ещё вернутся в деревню: кто с экскурсией уехал, кто у всяких там бабушек гостит. А колокольчики-то тем временем, глядишь, и отцветут!
– Эй, дядя! – слышу я вдруг за своей спиной.
Я оглядываюсь.
– Дядюшка, правильно мы идём к Красному камню?
А-а, да это экскурсанты какие-то! Никакого дядюшки вблизи не видно. И я иду дальше своей дорогой, а сам в душе немножко злорадствую. «Вот и они почему-то спать не стали, тоже, видно, им мухи покоя не дают», – думаю я об экскурсантах. Это семь или восемь человек, идущих через лес.
– Дядюшка, правильно ли мы к Красному камню идём? – спрашивают они во второй раз.
Я останавливаюсь, гляжу во все стороны. К кому же это они обращаются?
А они снова:
– Дядюшка!
– Меня вы, что ли, спрашиваете?
– Мы правильно на Красный камень идём?
– Какой я дядюшка! – протестую я, думая, не обидеться ли мне на них всерьёз.
– Пожалуйста, мы вас спрашиваем…
– Да какой я вам дядюшка!
Они, приглядевшись, разражаются смехом.
– Извините нас! – говорит один. – Ваша шляпа нас с толку сбила.
– Шляпа?
– Шляпа и палка.
– Шляпа-то дедушкина!
Они смеются ещё громче.
– Шляпа дедушкина, а палку я взял грибы искать.
Я показываю дорогу на Красный камень, хотя и поругиваю их в душе, и отправляюсь искать грибы. Тот, кто ходит по грибы, знает, что самое трудное – найти первый гриб. Найдёшь один, а там уже ходишь взад-вперёд, стараясь не слишком далеко отойти от того места, где нашёл первый гриб, и не наступить случайно на его собрата. Но из-за этого первого столько ходишь, что и супа грибного не захочется. Грибы искать – то же самое, что рыбу ловить. Сидишь у воды, полчаса сидишь, с поплавка глаз не сводишь, а он когда-то ещё дёрнется. Вот тебе на! Наживку-то рыба съела – и до свиданья! Хорошо так посидеть! Да только если терпения нет, и рыбу ловить не затевай. То же самое и по грибы ходить, как я уже сказал. Ходишь, ходишь, все глаза проглядишь, и вдруг – вздрогнешь даже! – тебе белый гриб померещится, а на поверку выходит, что стоит перед тобой этакий дурацкий мухомор в красной шляпке, которую чуть не за сто метров видать. Но если тебе взбредёт иной раз в голову мухомор найти, чем угодно ручаюсь, что ты по лесу проходишь самое малое часа два. А сейчас ни с того ни с сего он тебе на глаза лезет. Все эти поиски рано или поздно прискучат, вот тогда счастье тебе и привалит. Вот он, гриб-то! Чуть я на него не наступил! Бедняга! Вздохнёшь только, может, и сам не поймёшь, как тебе досадно. Знаю я всё это. Наступил на гриб, а у самого сердце кровью обливается. На местах, где мох растёт, кое-что ещё видно, но там гриб и другие сразу увидят, значит, одно на одно выходит.
Я брожу по лесу часа полтора уже, а нашёл всего несколько лисичек и два крохотных белых грибка, которые едва-едва выглядывали из земли. Они росли вблизи от того бедного гриба, на который я наступил. И снова я чувствую досаду. Ещё на опушке поищу – и отправлюсь домой. Скажу маме, что грибы не растут: дождичка бы надо на два-три денька.
– Винцко-о! – вдруг слышу я чей-то протяжный голос.
– Ау-у-у! – откликаюсь я так же протяжно и оглядываюсь. – Кто меня звал?
– Винцко! Нашёл уже что-нибудь?
– Что-о?
– Спрашиваю: нашёл что-нибудь?
– Да так, кое-что!
– Верно. Если ходить, так всегда кое-что найдётся. И я нашёл кое-что.
– Поглядеть можно?
– Что?
– Можно ли поглядеть, спрашиваю?
– Отчего же не поглядеть? Ведь я кое-что нашёл. Если ходить, всегда кое-что найдётся, – повторяет он ещё раз.

В деревне у нас дядюшка Еле́менский один из самых завзятых грибников. Всегда, отправляясь по грибы, берёт он рюкзак и, пока не наполнит его доверху, из лесу ни за что на свете не уйдёт.
Я подхожу к дядюшке Елеменскому, заглядываю в рюкзак, и у меня от зависти дух захватывает.
– Здо́рово! – невольно восклицаю я. – Да ведь у вас почти полно.
– Полно, как же! – смеётся он мне прямо в лицо. – Туда их войдёт ещё во-он сколько – половина твоей корзинки, – говорит он, показав на мою плетушку.
– А я думал, что грибов-то вовсе ещё нет!
– Нет? Если с толком ходить, всегда кое-что найдётся, – повторяет он уже наверное в третий раз.
И вдруг он, вскрикнув словно ужаленный, подскакивает ко мне, нагибается и прямо у меня из-под ног выхватывает белый гриб.
– Ты, кажись, ослеп!
– Что?
– Иди-ка ты теперь куда-нибудь отсюда подальше!
– Почему?
– Теперь ты, парень, здесь мне не нужен… Оставь его! – закричал он, когда я тут же заметил ещё один белый гриб.
Я выпрямился, обчищая гриб. Дядюшка Елеменский мигом очутился около меня.
– Отдай! – приказал он и протянул ко мне руку.
Я глаза вытаращил.
– Отдай же! Не понимаешь? А тот гриб кто нашёл? Ты или я? Уж очень ты ловок – дружка из-под носа выхватить! Ты вообще-то знаешь, что такое дружок у грибов?
– Что же?
– Ну знаешь, я не виноват, что у тебя понятия никакого нет о таких важных вещах. Грибник найдёт какой-нибудь гриб, и все остальные, что поблизости растут, принадлежат тому, кто нашёл первый. Грибы, что в одном месте растут, вроде бы как одна семья. Все они братья или друзья. Друзья! Так ведь и говорится: грибную семейку в один кузовок кладут.
Он выхватил у меня белый гриб и сунул его в свой рюкзак.
– А теперь чеши отсюда! – приказал он мне, показывая на дорогу.
Я ни с места, в себя никак прийти не могу.
– Не слышишь, что ль?
Я ушёл в конце концов. Хоть и злился я, но и весело было мне. Всё-таки мне повезло. Пока я добрался до дороги, ещё четыре больших гриба мне попалось. Все четыре росли на одном месте. Ну, а что, если и пятый там же ещё остался? Дядюшка Елеменский пойдёт за мной и, может, найдёт его. Гм… А грибную семейку, мол, в один кузовок кладут!
ВСТРЕЧА С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
Когда я вышел из лесу, первым делом встретился мне дядюшка Томашович. Тот самый, что в духовом оркестре на корнете играет. Дядюшка Томашович играет первый голос, дядюшка Белай – второй. Оба они люди хорошие, и оба, с тех пор как начал я учиться на геликоне играть, со мной подружились. Иной раз остановят меня на улице, а ребята глаза таращат: о чём это я со взрослыми говорю?
– Сколько диезов в c-dur? – всякий раз пристаёт ко мне дядюшка Рафаэль.
– У c-dur нет диезов.
– У c-dur нет диезов? – глядя на меня, щурится дядюшка Рафаэль. При этих словах он как-то так чудно́ горбится, и все ребята, которые это видят, покатываются со смеху.
– У c-dur ничего нет.
– В самую точку попал! – восклицает дядюшка Рафаэль. После этого он расправляет плечи и накидывается на мальчишек: – Вы-то чему смеётесь?
– А мы не смеёмся.
– Ну и сыпьте отсюда!
Он топает ногой, и им приходится отступить.
Сейчас он на моё приветствие ответил и тут же меня проверять принялся.
– На какой счёт вальс играют? – спросил он.
– Вальс играют на счёт три.
– На какой счёт польку играют? – продолжает он свой допрос.
– Польку на два.
– А марш?
– Тоже на два.
– Вижу, ты вперёд подвигаешься, – похвалил он меня. – В мою книжку заглядывал?
– Заглядывал.
– Хорошая книжка… По ней мальчуган вроде тебя многому научиться может. Не врёшь, в самом деле заглядывал?
– В самом деле…
Он улыбнулся мне и дальше было пошёл, но вдруг вспомнил о чём-то.
– Послушай-ка! А тебе не хочется подработать? – спросил он.
– Подработать? А где?
Сперва я подумал, что, видно, он по грибы собрался, а сейчас, когда меня встретил, передумал и предпочитает у меня грибы купить.
– По-моему, подработать ты был бы не прочь.
– Подработать? А где?
– Вместе со мной.
– С вами?
– Ну да.
– Но ведь вы коров пасёте?
– Да, коров пасу. Ну так что? Плохая разве работа пастухом быть?
– Работа ничего.
– Тебе, кажись, не больно по вкусу такое дело. Ты доктор, что ли?
– Не-ет.
– Я о тебе подумал вот почему. Знаешь, сколько у меня коров в стаде? Сто двадцать!
– Как много!
– И по-моему, тоже много. Сто двадцать коров, да ещё тёлок около семидесяти.
– Как много! – повторил я.
– Я ещё бычков не помянул.
– А сколько же бычков вы пасёте? – спросил я, желая показать, что я и взаправду работой его заинтересовался.
– Это уж дело моё. Я потому и спросил, не хочешь ли ты подработать.
– Заработать-то я бы хотел…
– Гм… А тебе коров пасти не хочется?
– Коров? Гм… – тоже в свою очередь хмыкнул я. – Вы их один пасёте?
– Здесь вон, на Гре́фтах, пасу. Ежели знать хочешь, тут получше всякого курорта будет. Заманивать тебя я не хочу. Мать твою я уже спрашивал, а она сказала, чтоб я с тобой потолковал.
– Мама? Когда же вы с ней говорили?
– Раз я что говорю, значит, так оно и есть. Здесь я пасу. Мне какого-нибудь помощника всё обещают дать, да что-то никого не пришлют. Стар я стал, и нет у меня в ногах прежней прыти. Я кричу, а корова не стоит. Я еле-еле встану, а угнаться мне за ней уж не под силу.
– Я у председателя спрошу.
– Чего ж тут спрашивать? Помощника мне давно обещают и всё никак не пришлют.
– А у вас корнет при себе есть? – спросил я ещё.
– Понятно, есть. Разве здесь, в лесу, без корнета обойдёшься?
Я снова хмыкнул.
– Когда придёшь-то?
– Как скажете, так и приду.
– Завтра с утра? Идёт?
Я кивнул.
КАНИКУЛЫ С ДЯДЮШКОЙ РАФАЭЛЕМ
Вот так я и ушёл из деревни. Вещей взял с собой совсем мало. Из одежды кое-что да две-три книжки. Вернее, две книжки и тетрадь. В неё я записываю всё, что о духовом оркестре узнаю́. Грушковецкий духовой оркестр ещё в то время возник, когда дядюшка Томашович был чуть постарше меня. Тогда пастухом деревенским был дядюшка Загрушка. Перед каждым домом щёлкал он кнутом, на верхнем и на нижнем конце улицы в корнет трубил. Корнет купил он у Гала́мбоша за семьдесят пять крон. А Галамбош этот краловский пастух был, то есть родом из Кра́ловой. По словам дядюшки Рафаэля, Галамбош продал Загрушке корнет и научил его играть гамму. Остальному дядюшка Загрушка сам научился. Правда, кое-что он узнал, пока был в солдатах, но всё равно и так о дядюшке Загрушке можно сказать, что у него выдающийся талант. А потом стал в деревню ходить покойный Сла́нинка. Родом он из Выпытальца и много лет был военным капельмейстером. Вот этот Сланинка вместе с дядюшкой Загрушкой и основал грушковецкий духовой оркестр.
– У грушковецкого духового оркестра своя традиция есть, – говорил дядюшка Томашович.
– Традиция?
– Да.
– Какая традиция? – спросил я.
– Славная традиция.
– А что такое традиция?
– Традиция создаётся, когда что-нибудь, возникнув, долго существует и живёт.
– Духовой оркестр наш существует, а традиция в том, что он до сих пор жив и всё ещё людям дорог.
– И дядюшка Загрушка тоже традиция?
– И он.
– И дядюшка Сланинка?
– Да.
– Но дядюшка Сланинка уже умер.
– Всё равно. И ты традиция.
– И я?
– И ты…
Я всё это записал. И много ещё чего другого занёс в тетрадку. Постепенно я всю её испишу. На первой странице я написал: «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем». Пониже в скобках поставил: «Мои заметки». И дальше всё, что дядюшка Томашович мне рассказывал, и то, о чём мы с ним говорили.
– Дядя Рафаэль!
– Что?
– Какая это птица?
– Воробей.
– Это не воробей.
– Нет, воробей.
– Как ты узнал?
– Он щебечет.
– Воробьи не щебечут.
– Нет, щебечут.
– А олень?
– Олень трубит.
– А сойка?
– Сойка стрекочет.
– Кре-кре?
– Да, так.
– Или повыше чуть-чуть. – Я попытался передразнить сойку.
– Ещё выше.
– У меня низкий голос.
– Попробуй петь низким.
– Но тогда это не будет сойка.
– Не будет.
– Кто же будет?
– Ты.
И мы оба засмеялись.
СКАЗКА О ЗАКОЛДОВАННОМ
– Если сейчас кому-нибудь сказать, что когда-то я был браконьером, всякий возмутится, – принялся однажды рассказывать мне дядюшка Томашович. – В те-то времена любой порядочный человек браконьером был. Те, кто послабодушней, дома отсиживались, перья щипали или фасоль перебирали, если была она у них. Да и фасоли-то, милый мой, не всегда хватало. Вот однажды оделся я потеплее, карабин под куртку сунул, и чуть смеркаться стало, из дома улетучился.

– Вы, значит, вроде как волшебник были?
– Вот об этом-то я и собираюсь тебе рассказать.
– О волшебниках?
– Пожалуй, не совсем так. Словом, ты лучше послушай! Взял я тогда карабин: поищу, думаю, какого-нибудь зайчишку. Добежал я, значит, до Ку́хлы, где Не́спал капусту сажал. Никакой капусты, понятно, там не было, разве что кочерыжки остались, да и те гнилые, мёрзлые. Я там расставил силки. И решил я посмотреть, а то вдруг придёт ещё кто-нибудь да заберёт добычу, и с силками вместе. Прошёл я по силкам, все до единого обошёл – нигде ничего. Обозлился я: домой-то с пустыми руками воротиться неохота. «Перейду-ка вон там через ручей, может, и подкараулю кой-кого». Вечер был ясный. А ты и сам хорошо знаешь, что в ясный зимний вечер мороз сильнее. Поднял я воротник, разок-другой шмыгнул носом, пока до ручья дошёл. Подумал ещё: раз такая стужа, ручей-то, поди, замёрз и перебраться на другой берег ничего не стоит. Холодно-то холодно, а лёд-то обманчив оказался. Ступил на лёд, а он как затрещит! Я обеими ногами и ухнул в воду, полны башмаки воды набрал. Тьфу ты пропасть! Только этого мне недоставало! Бранился я, чертыхался, а домой без зайчишки вернуться не хочется. Чтобы не замёрзнуть, надо ходить. А если ходить, так зайцам и на меня и на капусту наплевать будет. Стал я на самую толстую ольху и жду. Стою полчаса, час, два часа будто прикованный, а зайцами и не пахнет. И мышь не прошмыгнула, в снегу не завозилась. Наконец появился какой-то заяц, первую попавшуюся ему на пути кочерыжку принялся грызть, да от меня далеко уж очень. Высунулся я из-за дерева, а заяц стрекача дал, только его я и видел. А больше ни единого зайчишки нет как нет. Что такое? Уж не высылали ли зайцы вперёд разведчика, а он меня заметил и остальных предупредил. Так и до самого утра проторчать тут можно! Нет, не выйдет! Зайцы – звери глупые, их сто раз спугни, а они, если голодны, всё равно к капусте вернутся. Тут, видно, неладно что-то. Погожу, думаю, ещё минутку и, если не появится никто, пойду домой да под перину забьюсь, а завтра на воро́н поохочусь или на куропаток. Ещё полчаса минуло – и хотя бы тебе один заяц! Выругался я и решил – домой надо идти! Только хотел шаг сделать – что за чёрт! – нога-то к земле пристала и ни с места. Что за чудо такое, думаю? Попробовал другую ногу переставить, и её тоже от земли никак не оторвать. Я так и обомлел. Заколдован я, что ли, на самом деле? Чего-чего только не наслушался я об околдованных людях, но никогда мне в это по-настоящему не верилось. Так в чём же дело? Как всё это надо понимать? Непременно я заколдован, как тот парень из Штефановой…
– В Штефановой околдованный человек был? – перебил я дядюшку Рафаэля.

Оставил ботинки как есть и сломя голову домой помчался.
– Если бы только в Штефановой! И в Га́льмеши, и в Бо́ровой. Хуже всего было с этим парнем в Штефановой. Ведь он ни высморкаться, ни рукой двинуть не мог. А я хоть сразу вытащил тряпочку, которая мне вместо носового платка служила. Ну вот! Хоть в этом-то мне повезло! Высморкаться и руками шевелить могу, хоть и держит меня на месте какая-то сила, не отпускает никак, и ботинки словно к земле гвоздями прибиты. И вдруг на грушковецкой колокольне полночь бьёт! Плохо моё дело! Надо поскорее с этого места убираться. Убираться! А как? Пробую нагнуться. В пояснице хрустнуло, а в общем, играючи, я нагнулся, и тут меня осенило: разуться я надумал. Расшнуровал ботинок – и ногу вон! То же и с другой ногой проделал. Оставил ботинки как есть и сломя голову домой помчался. Вбежал в дверь, когда и в Краловой бить часы начали. «Слава тебе, тетереву, – подумал я, – что грушковецкие часы ушли вперёд на целых пятнадцать минут».