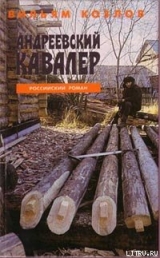
Текст книги "Андреевский кавалер"
Автор книги: Вильям Козлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 47 страниц)
Вильям Козлов
Андреевский кавалер
Часть первая
Куда дует ветер
Глава первая
1Макая кисть в жидко разведенный клейстер, Андрей Иванович старательно наклеивал на обшарпанные обои царские кредитки. Пришлепнув радужную ассигнацию на стену, он бережно разглаживал ее большими ладонями, прищурив небольшие темно-серые глаза, остро вглядывался в нее, удовлетворенно хмыкал и брал с кровати следующую кредитку. На сером, с продольными полосами шерстяном одеяле их лежало много. Были тут синенькие, красненькие, зеленые, оранжевые бумажки с царями и царицами при коронах, держащими в руках скипетры, – эти, как правило, крупного достоинства, на пятирублевках, трешках, рублях – водянистые казначейские знаки и крупные цифры.
– Андрей, щи на столе, – заглянула в комнату черноволосая, белолицая Ефимья Андреевна.
На лице ее никакого удивления. Жену Андрея Ивановича трудно чем-либо удивить, такой уж спокойной и невозмутимой она родилась. Редко кто от нее услышит резкое слово. Про таких в народе говорят: нашел – молчит, потерял – молчит. Языком попусту молоть Ефимья Андреевна не любила. К мужу относилась ровно, с уважением, а вот любит ли Ефимья его, Андрей Иванович, не знал. Сосватали их родители, до свадьбы и не встречались друг с другом: Андрей жил в Леонтьеве, а Ефимья – в Гридине, это в пятнадцати верстах.
– Щи-то небось с солонинкой? – не повернув головы, пробурчал в бороду Андрей Иванович. Поесть он любил, да и от хорошей выпивки не отказывался, хотя пьяным редко напивался: хмелю свалить его было не так-то просто.
– Кажись, мороз отпустил, – сказала жена. – Ягнят надоть вынести в хлев к овцам.
– Вона на что сгодилось наше бумажное богатство, – с горечью кивнул на залепленную деньгами стену Андрей Иванович. – Тыщи… И все пошло прахом! Коту под хвост, грёб твою шлёп!
– Нонешние-то деньги поменьше, ими стены не оклеишь, – невозмутимо заметила Ефимья Андреевна и так же бесшумно, как и вошла, вышла из комнаты, пропахшей мучным клейстером.
– Наживали, наживали, спину в лесу гнули, лишнюю копейку поскорее клали в кубышку, а власть переменилась – и все там-тарарам! – не заметив, что жена ушла, говорил Андрей Иванович. – Кто же мог знать, что дом Романовых, простоявший триста лет, вдруг в одночасье рассыплется на мелкие гнилушки? Разные господа – помещики да фабриканты – куда поболее моего потеряли… Коли их деньги сверху сбросить, почитай, весь город Питер засыпали бы до крыш…
Увидев, что жены нет, почесал большой прямой нос, обнажил в улыбке крупные белые зубы: «Чисто мышь шуршит по дому!..»
Он приклеил еще пару «катеринок», мутная капля клейстера упала на штаны, но он не заметил. Повернув массивную лохматую голову в сторону двери, принюхался: из кухни плыл аппетитный запах наваристых серых щей из крошева. По привычке вытащил из брючного кармана за цепочку большие серебряные часы, скользнул рассеянным взглядом по черным римским цифрам: половина второго.
За большим дубовым столом уже чинно сидели три дочери, Ефимья Андреевна двигала ухватом чугуны в русской печи. Она всегда садилась за стол последней. Андрей Иванович из-под густых бровей суровым взглядом окинул свое семейство, нахмурился. Девчонки, как по команде, уткнулись глазами в тарелки.
– Где Дмитрий шляется, грёб его шлёп? – не обращаясь ни к кому, проговорил он, шумно усаживаясь во главе стола.
Дмитрий – старший сын. Ему пошел девятнадцатый год, и он мог себе позволить опаздывать – как-никак работал секретарем поселкового Совета и возглавлял комсомольскую ячейку. Было время, он боялся отца, а теперь сам взрослый, ростом вымахал почти с Андрея Ивановича, а лицом в мать, такой же темноглазый и белолицый.
Ефимья Андреевна поставила перед мужем фаянсовую миску, налитую до краев. Увидев в зеленоватой массе крошева красноватый кусок мяса, Андрей Иванович подобрел и уже не так сурово посмотрел на дочерей.
– С богом, – глянув на икону божьей матери с хрустальной лампадкой, сказал он и обмакнул большую деревянную ложку в миску.
Тотчас дробно застучали ложками дочери. До того как отец не начнет, никто из них не посмеет прикоснуться к тарелке – можно жирной отцовской ложкой и по лбу схлопотать.
– Какое-то начальство из Климова приехало, – сказала Ефимья Андреевна. – Ну и Дмитрий с ними.
– Послал бы их к едреной матери! – проворчал Андреи Иванович.
– Начальство-то? – сказала Ефимья Андреевна. Дочери переглянулись и прыснули.
– Я вот похихикаю за столом! – грозно зыркнул на них отец.
Он взял из берестяного лукошка головку чеснока и, не чистя, откусил. Десятилетняя Алена опустила голову к самой тарелке, сдерживая смех. Она, самая смешливая в семье Абросимовых, по младости лет нет-нет да и нарушала установленный обычай – отцовская ложка тут же с костяным стуком опускалась на ее лоб. Старшие были поумнее, помалкивали. А Алене смешно смотреть на отца: от крепкого чеснока у него заслезился глаз, на бороде перышком белела шелушинка. Ложка в его огромной руке кажется крохотной, хотя на самом деле она чуть поменьше поварешки. Девочка тоже протягивает тонкую руку за чесноком, старательно натирает долькой черную корку, посыпает крупной серой солью.
На второе Ефимья Андреевна подала тушеную картошку с бараньими ребрами. И опять отцу наложила миску с верхом. На третье – топленое молоко в глиняных кружках. Алена поддевает коркой толстую желтую пленку и даже прижмуривает глаза от удовольствия.
Большая серая кошка, мурлыча, трется головой о ее ноги. Незаметно от взрослых девочка сует под стол кусок жирной баранины.
Слышно, как в закутке у русской печи топочут тоненькими ножками два ягненка. Глупые, недавно появившиеся на свет, они тычутся черными носами в загородку, мурлычут вроде кошки и теряют на солому черные горошины. Зимой обязательно кто-нибудь живет в закутке: поросята, теленок, ягненок, куры. Правда, недолго они задерживаются в избе – неделя-полторы, и их выставляют в хлев, что примыкает к сеням. Когда в закутке покачивался на негнущихся ногах-ходулях изумленный взъерошенный теленок, корова Машка жалобно мычала в хлеву и бухала копытом в дощатую перегородку. Сердобольная Алена приходила к ней, гладила по печальной морде и говорила, что теленок греется у печки. Корова кивала большой головой и пускала пузыри.
– Мам, можно я на горку? – пообедав, попросилась Алена.
– Отец, подшил бы девчонке валенцы? – сказала Ефимья Андреевма. – Вон пальцы из дырок торчат.
– Я туда шерстяной носок затолкаю, – затараторила Алена, испугавшись, что придется дома сидеть, пока отец будет валенки чинить.
Но у Андрея Ивановича было дело: он еще не закончил обклеивать стену ассигнациями. Свернув цигарку, подошел к печке, кочергой выкатил розовый уголек, прикурил от него и затопал в комнату. Варвара и Алена стали собираться на улицу.
Варваре в январе исполнилось семнадцать, а Тоне в марте будет четырнадцать. На старшую уже заглядывались местные парни. Рослая, темноглазая, с высокой грудью, Варя заигрывала с ними, разрешала с вечеринки провожать себя до дому, но когда лапали и лезли целоваться, сердито вырывалась и убегала. В клубе ее брат организовал самодеятельность, Варя каждый вечер ходила туда на репетиции. Она плясала, пела в хоре и читала со сцены стихи Пушкина и Маяковского.
Тоня больше других сестер походила на мать. В отличие от них охотно сидела дома, помогала по хозяйству. Ей доставляло удовольствие возиться со скотиной.
Всякий раз, когда хлопала тяжелая дверь и с улицы врывался в избу холодный пар, ягнята шарахались, мекали. Тоня, наклонив темноволосую голову, задумчиво смотрела на них. Так она могла простоять долго. Будто очнувшись, подходила к кухонному столу, брала рушник и начинала вытирать вымытые ложки, тарелки, смахивала крошки и кости в погнувшуюся сбоку миску Бурана.
Особенно нравилось девочке шить. В доме была швейная машина «Зингер», и Тоня уже шила сестрам юбки и кофточки, вот только кроить пока не научилась.
Закончив помогать матери, Тоня подошла к двери в комнату, заглянула в щель: отец, загородив широкой спиной окно, наклеивал на стену красивые бумажки, которые раньше были деньгами. Зачем он это делает? Лучше бы ей отдал. Тоня аккуратно бы положила их в толстую книжку с крестом – Библию, пусть бы там лежали, распрямлялись. Иногда бы вытаскивала их и рассматривала царей и цариц. Войти и попросить она не смела: отец у них строгий, хотя дочерей не порол, но Дмитрия раньше, случалось, драл вожжами. Отца все в доме побаивались. Стоило ему нахмурить черные брови и глянуть своими пронзительными темно-серыми глазами, как душа уходила в пятки.
Девочка вздохнула, отошла от двери и снова нагнулась к ягнятам. Потешные они, курчавые, тычутся теплыми носиками в ладонь, щекотят. Тоня по одному на руках отнесла их в хлев. Почуяв мать, малыши засуетились, стали искать в густой свалявшейся шерсти вымя.
2Андрей Иванович клеил царские кредитки и думал. И думы его были невеселые. Как так он, умный человек, опростоволосился? Вместо червонного золота, которое уже держал вот в этих самых руках, оказался с ворохом никому теперь не нужных бумаг?..
Всю свою жизнь Андрей Иванович Абросимов знал, что ему нужно делать. Отец его и дед родились и до самой смерти жили в глухой деревне Леонтьеве. Были крепостными, потом получили земельный надел и вели свое крестьянское хозяйство. Жили не богато и не бедно. Земля родила сносно, кругом были дремучие сосновые леса. Грибы росли прямо у дороги, в озерах водилась рыба. В голодные годы промышляли охотой, – лоси и кабаны не переводились в леонтьевских лесах. Наверное, так бы после женитьбы и жил себе в родной деревне Андрей Иванович, но прошел слух, что неподалеку пройдет железная дорога. Местный почтарь обучил в свое время Абросимова грамоте, и как-то в «Губернских ведомостях» вычитал Андрей Иванович про железную дорогу. Даже была нарисована карта, где обозначен путь. Эта пожелтевшая газета с картой до сих пор хранится вместе с другими важными документами в красном, обитом медными полосами сундучке Андрея Ивановича.
Старики не верили, что с помощью пара железное чудовище потащит за собой вагоны с людьми, плевались и говорили, что все это происки антихриста… Слава богу, лошадей в России хватает, зачем понадобились какие-то чугунки?..
Абросимов был человек решительный и недолго раздумывал, как ему поступить. Железная дорога сулила большие перемены в жизни близприлегавших деревень. Андрею Ивановичу не раз доводилось с отцом на лошадях ездить в Питер. Они возили на продажу клюкву. Сравнивая деревенскую жизнь с городской, он понимал, что возможностей разбогатеть в городе куда больше, чем в захудалой деревне. А где пройдет железная дорога, там, писали в газетах, вырастут промышленные поселки. Одно дело – лес вывозить на лошадях, другое – по железной дороге.
Вместе с братьями Андрей Иванович срубил первый дом на опушке бора. Посмеивались над ним деревенские: мол, тронулся умом Абросимов, в лесу решил поселиться среди дикого зверья. Потомственным крестьянам трудно было взять в толк, как можно жить без земли. Но Андрей Иванович все рассчитал точно: «железка» – так здесь называли железную дорогу – неуклонно прорубалась сквозь леса и болота к тому самому месту, где на опушке соснового бора одиноко стояла его новая ядреная изба, крытая свежей дранкой. Сунув хорошую взятку губернскому чиновнику, Абросимов приобрел почти задаром большой участок для вырубки. Лес был под рукой, силы Андрею Ивановичу не занимать, и, пока полуголодные рабочие «железки», выбиваясь из последних сил, прорубали в лесах широкую просеку, гатили болота, возводили высокую насыпь, Андрей Иванович с братьями и родственниками срубил еще три просторные избы, выкорчевал вокруг пни, сжег их, распахал высвобожденную землю под огороды. О большой пашне он не мечтал, а вот землю под картошку, рожь, овощи отвоевал у леса. В сосновом бору выросли как грибы четыре крепкие избы, и само собой получилось, что новое поселение стали называть Андреевкой.
Однажды, выйдя на крыльцо своего дома, Андрей Иванович услыхал глухой гул в лесу, разглядел над вершинами сосен рассеянный ветром дымок – к Андреевке приближалась «железка»…
Далеко смотрел Абросимов вперед, когда в этой дикой местности повалил первую огромную сосну: железная дорога перевернула всю жизнь и навсегда связала его с собой. В каких-то двухстах метрах от избы Андрея Ивановича заложили вокзал, еще ближе – кирпичную водонапорную башню, станционные постройки, багажный склад. К тому времени на огородах поспели овощи, картошки Абросимов заготовил еще с прошлого урожая, деятельно пошла торговля. За каких-то два-три года Абросимов полностью оправдал все свои затраты на постройку домов. Инженеры-путейцы поселились в его избах, получил при станции должность путевого обходчика и Андрей Иванович. С начальством он умел ладить, никакой работы не боялся, в общем, дела пошли на лад.
Не говорил землякам Абросимов: дескать, смеется тот, кто смеется последним. Что возьмешь с безграмотных мужиков? Не смеялся он над ними и тогда, когда то один, то другой леонтьевский житель перебирался из деревни в Андреевку. Строились тут и заезжие из других дальних деревень, навсегда расставаясь с исконным крестьянским трудом. Станции нужны были рабочие-путейцы. Однако и здесь корчевали пни, распахивали огороды, заводили скотину. Без хозяйства не проживешь.
Вот одно выгодное дело Андрей Иванович проморгал: не открыл лавку на станции. Опередил его проныра Супронович и вскорости распахнул для всех двери своего питейного заведения с буфетом и бильярдной. Открыл и лавку скобяных товаров. И потекли денежки в широкий карман Якова Супроновича. И откуда он взялся? Неприметный такой, тихий объявился в Андреевке, издали кланялся, раза два угостил знатно…
Нередко теперь и Андрей Иванович вечерком заглядывал к Супроновичу на второй этаж, где буфет и бильярдная. Ему льстило, что кабатчик, бросив все дела, спешил его встретить, усадить за стол, лично подать штоф и отменную закуску. Да и не только Супронович, все в поселке относились к Абросимову с уважением. Как-никак он тут всего зачинатель, да и нрав у него крутой – лучше жить с ним в мире и добром согласии. «Железка» ушла, прорубалась дальше на запад. Путейское начальство не стало ломать голову над названием новой станции.
Так, не думая, не гадая, увековечил свое имя Абросимов.
Все его родичи служили при станции – кто стрелочником, кто сцепщиком, сам он сменил немало путейских профессий, одно время был даже дежурным по станции, но больше всего ему по душе пришлась должность путевого обходчика. В брезентовом плаще, смазных сапогах, с зеленой сумкой через плечо и металлическим, на длинной рукоятке молотком в руках каждый божий день обходил он свой участок пути, содержал его в образцовом порядке. Нравилось ему неспешно брести по шпалам, слушать голоса птиц, с высоты свежей насыпи оглядывать туманные дали, постукивать молоточком по звонким рельсам – нет ли трещины? – и думать свои неторопливые думы.
А подумать было о чем. Неспокойно становилось в России, из Петрограда приходили вести о волнении рабочих, стачках, много толковали о проходимце Гришке Распутине, который, мол, вертит царем и царицей как хочет, назначает и снимает министров. Против царя и буржуев выступают большевики.
Андреевка притихла в ожидании перемен, о которых говорили заезжие люди, а жизнь текла своим чередом: проходили пассажирские, изредка без остановки грохотали товарные составы, чаще всего в теплушках везли солдат в серых шинелях и папахах, – война еще не закончилась. Абросимов всего полгода воевал с германцами, получил за храбрость Георгиевский крест, а после контузии его подчистую демобилизовали. Посмотрел он костлявой в пустые очи – с него достаточно. Одним ухом он до сих пор плохо слышал – вошло в привычку при разговоре прикладывать руку к уху.
С войны он вернулся одновременно с Тимофеем Ивановичем Тимашевым, которого в поселке и стар и млад звали Тимашем. Любитель выпить и поточить с односельчанами лясы, Тимаш, издали кланяясь, почему-то величал Абросимова «андреевским кавалером». С его легкой руки и другие при случае называли Андрея Ивановича «андреевским кавалером», хотя он заслужил Георгия. Впрочем, Абросимов не возражал: андреевский кавалер так андреевский… Все равно, кроме него, в Андреевке не было награжденных царем. Тимаш, хоть и два года кормил вшей в окопах, вернулся домой без пустяковой медали.
Вот так, совершая очередной обход своего участка, Андрей Иванович и принял решение в это тревожное время продать свои три дома. Сделка получилась выгодной, с покупателей получил золотом. Тут-то и началась морока. Поселок небольшой, всего три десятка дворов, от людей ничего не скроешь. Ну своих-то Андрей Иванович не опасался, но по «железке» наезжали всякие подозрительные личности, сутками напролет пьянствовали у Супроновича, играли в карты, бильярд, иногда проигрывались до последних порток – от таких-то можно было всякого лиха ожидать. Не раз по ночам Ефимья будила мужа: то, казалось ей, кто-то скребется в окно, то скотина в хлеву мечется или Буран рвется, брешет на цепи. Андрей Иванович в кальсонах с колом выскакивал в сени, щупал засовы, выходил во двор, успокаивал собаку. Стекло из рамы, точно, ночные гости пытались вынуть, даже замазку выковыряли в одном месте.
Абросимов ни черта, ни бога не боялся. Высокий, могучего сложения, он обладал неимоверной силищей. Да и облика Андрей Иванович был сурового: глаза острые, пронизывающие, черная борода лопатой, а усы – с рыжинкой. Скоро пятьдесят ему, а седины в густых черных волосах и бороде еще мало.
Когда строился, бывало, запросто взваливал на плечо бревно, которое и троим не под силу. Как-то в пьяной драке схватился с пятерыми мужиками – троих пришлось на подводе домой везти. С того случая в поселке даже самые задиристые опасались с ним связываться.
Все в поселке обходили стороной быка по кличке Камлат, один Абросимов не боялся, спокойно шел навстречу, смотрел пристально быку в глаза, и тот, будто признавая его силу, нагибал к земле тяжелую голову с бешеными глазами и на всю округу громко ревел, но ни разу не бросился на смельчака.
Не страшился и воров Андрей Иванович, но видел: жена совсем извелась, не спит по ночам, все прислушивается. Лихих людей в ту пору было немало – за деньги любому готовы горло перерезать, не пощадят и детей. Ничего не говорила Ефимья, только перед сном дольше обычного молилась и клала земные поклоны.
Пожалел жену Андрей Иванович, достал из тайника мешочек полотняный с золотыми пятирублевками и, не таясь перед соседями, поехал в уездный город Климов за двадцать верст, где и положил в банк, а ассигнации оставил… Вот ими Абросимов нынче и оклеивал стены своей продолговатой комнаты с одним окном. Он даже испытывал некое удовлетворение: пусть эти стены всегда напоминают, что некогда он свалял в своей жизни большого дурака! Золото во все времена и при любой власти будет в цене. Не чета этим дурацким бумажкам, которые не годятся даже на самое последнее дело… Семь лет после революции лежали они, завернутые в «Губернские ведомости», под застрехой на чердаке. Бумажная рухлядь никуда не принималась, а золотые монеты можно было сдать в торгсин, да и так они были в ходу, за них охотно платили новыми, советскими деньгами…
Если первое время места себе не находил от потери потом и трудом заработанных денег, то постепенно успокоился: жизнь продолжалась, Андреевка стояла на своем месте, поезда ходили по рельсам, должность путевого обходчика сохранилась за ним. Новый мир, который успешно строили на обломках прошлого, не казался ему таким уж безнадежным, как некоторым знакомым богатеям. Правда, их в уезде мало осталось. Абросимов до богатея при царе не дорос, хотя и бедняком никогда не был. Поразмыслив, он решил, что и при Советской власти можно неплохо жить. Силы в руках хоть отбавляй, смекалки тоже у других не занимать. А трудности, они всегда были и будут, главное – уметь к ним вовремя подготовиться. Да и мало что изменилось после революции в Андреевке. Правда, исчез из уездного города Климова знакомый чиновник – канцелярская душа, которому можно было в загребущую лапу сунуть, и он любую бумагу составит и подмахнет у начальства. Теперь в каменном особняке разместился Совет рабочих и крестьянских депутатов. Сунулся было туда Андрей Иванович: мол, так и так, жестоко пострадал от старого режима, сдал в банк золото. Показывал начальству банковские ценные бумаги, но его только на смех подняли. Сказали, что старый режим надул его, банк то был частнокапиталистический, и, когда совершилась революция, владельцы сбежали из города, уничтожив документы и захватив с собой золото…
Много за эти годы проехало разных людей через Андреевку. По железной дороге бежали из Петрограда члены Временного правительства во главе с самим Керенским, продвигались в пассажирских вагонах корниловцы на штурм столицы, а уж откатывались назад пешью… Ехали купцы, банкиры, фабриканты. Иногда бандиты разбирали пути и грабили толстосумов.
Андрей Иванович вместе с бригадой выезжал на качалках на место происшествия и ремонтировал путь. Убитых закапывали неподалеку от насыпи. И даже крестов не ставили, потому как не знали их имени-отчества. Иные валялись под откосом в чем мать родила. Страшное было то время, но Советская власть мало-помалу стала наводить порядок: снова пошли поезда по расписанию, чекисты обложили бандитов в местных лесах и помаленьку всех вывели. Приехал из Климова новый начальник станции, начал было делать какие-то перестановки, но потом все оставил как было. Не так уж и много железнодорожников в Андреевке…
Давно уже Андрей Иванович приклеил последнюю ассигнацию – две стены почти полностью обклеил. В окно виден ему соседский двор, окна избы заиндевели. У березки каждая веточка искрится на морозе, сизоватый дым из трубы путается в верхних прутьях. Белые сугробы подступили к самым окнам. Как там сосед Степан Широков? Небось все кашляет… Хватанул в мировую воину в окопе германских газов и с тех пор легкими мается. После гражданской женился на Марии Широковой, поговаривали, что она бездетная, а совсем недавно один за другим родились у них двое – мальчик и девочка. Когда-то Андрей Иванович на пару с соседом хаживал на сохатого и на медведя, неутомимый был Степан охотник. Да и сейчас по весне ходит с гончей за займами, постреливает тетеревов да рябчиков. Но нет теперь былой дружбы между ними. Широков подолгу лежал в уездной больнице, ну Абросимов и не устоял перед черноглазой соседкой Маней… То ли она поведала о своем грехе мужу, то ли сам догадался, только стал тот сторониться. А Маня-то сама на шею вешалась – какой мужик устоит?
– Андрей, – вывел его из задумчивости негромкий голос жены, – молишься ты тут, что ли, на свои картинки? Достал бы из погреба картошки да бураков для скотины.
Андрей Иванович исподволь окинул взглядом жену. Маленькая, ладная, едва достает ему до плеча, длинные черные волосы закручены кренделем на затылке, голос негромкий, спокойный. Главная хозяйка, а ее и не слышно в доме. Знает ли она про его грех с Маней? Да и только ли с Маней?.. Еще в армии на бравого богатыря заглядывались молодые бабенки, когда полк располагался в городке или поселке на постой. Как начнет клокотать в его жилах горячая кровь, иную в дрожь бросало…
– Говоришь, полегчал мороз? – сказал он, отводя глаза от жены.
Мало кто мог выдержать взгляд Андрея Ивановича, а вот он всегда первым отводил глаза от Ефимьи. Наверное, из всех людей только она одна доподлинно знала, что на душе у мужа. Знала и молчала. И он чувствовал силу своей жены. В карих глазах ее было нечто такое, что заставляло Андрея Ивановича сдерживаться даже в припадке гнева. Он редко поднимал голос на жену и уж никогда не обзывал ее нехорошими словами. Правда, и не за что было. Хозяйкой она была рачительной, в трудные минуты Андрей Иванович только к ней обращался за советом, больше ни к кому. Он гордился своим умом, но иногда задумывался: не умнее ли его молчаливая Ефимья? Не она ли на самом деле всему голова?
– Жалко, что картинок у тебя маловато, – невозмутимо заметила жена. – На две стены только и хватило.
И в темных, с вишневым блеском глазах ничего не прочтешь – уж не смеется ли она над ним?
– При этой власти что-то деньги не липнут к рукам, – проворчал он. – Вылетают как в трубу, а ведь скоро Варвару замуж выдавать. И приданого-то толком не справим.
– Варвара дороже любого приданого, – сказала Ефимья Андреевна. – Тот, кому она достанется, пусть бога славит, за ней вовек не пропадет.
– Если в все женихи так думали… – вздохнул он.
Андрею Ивановичу понравились слова жены. Он любил старшую дочь, но и прижимист был. Про себя подумал, что Советская власть мудро поступила, отменив старинные обряды с венчанием и приданым. У него вон три дочери и один сын! Отвали за каждую приданое – сам на бобах останешься.
– Димитрий приходил? – ворчливо спросил он.
– Стала бы я тогда тебя просить лезть в подпол?
– Слыхал я, он со своими дружками-комсомолятами собирается Супроновича окоротить.
– Я в евонные дела не встреваю.
– Не стоило бы ему связываться с Яковом Ильичом, – задумчиво проговорил Андрей Иванович. – И сыны у него как на подбор, один к одному, да и другие защитники найдутся.
– Слава богу, Дмитрий в тебя уродился, не слабенький. – Живые, с блеском глаза Ефимьи Андреевны стали мягче. – Не даст себя в обиду, да и приятелей у него поболе, чем у Супроновичей.
– Лучше бы ты, мать, трех сыновей родила, – вдруг с затаенной горечью вырвалось у Андрея Ивановича. – От них больше проку.
– Мои дочки любого парня стоят, – сурово заметила Ефимья Андреевна. – Много ли от вас, мужиков, подмоги вижу? А девчонки все хозяйство ведут. Вон Тонька от горшка два вершка, а уж на машинке строчит…
– Дак в мать, – усмехнулся в бороду Андрей Иванович. – Кто всему дому голова?..
– Чем тебе Дмитрий-то не угодил? – проницательно глянула на него жена.
– Говоришь, в меня он… Может, и так…
– Договаривай! – С виду он крепкий, мать, – нехотя проговорил Андрей Иванович. – А случись какая беда – боюсь, дрогнет он, согнется.
– Силы и у быка хватает, а у него голова умная, – заметила Ефимья Андреевна.
– Значит, я дурак? – свирепо глянул на нее муж.
– Чё Степана-то на дворе не видать? – сразу умерила мужнин гнев Ефимья Андреевна, – Небось опять хворает? Проведал бы. Да и суседка не заходит…
– Он от меня морду воротит, а я к нему в дом? – остыв, хмыкнул Абросимов.
– Водой мельница стоит, да от воды же и погибает, – усмехнувшись, мудрено ответила жена.
«Знает про Маньку! – ахнул про себя Андрей Иванович. – Али просто туману напускает?»
Ефимья Андреевна знала уйму старинных поговорок и присказок, и не всегда Андрей Иванович сразу докапывался до смысла сказанного. Но и просто отмахнуться от ее слов не мог: Ефимья попусту не скажет.
– Скажи Димитрию аль Варьке, пущай в баню воды натаскают, – сказал Андрей Иванович. – Я потом затоплю. Может, вдвоем, мать, попаримся?
– Ишь, взыграл конь ретивой! – засмеялась Ефимья Андреевна. – У тебя взрослые дочки – что они подумают?
Ефимья Андреевна не любила мужниных вольностей.








