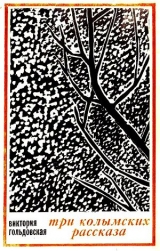
Текст книги "Три колымских рассказа"
Автор книги: Виктория Гольдовская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)

Виктория Гольдовская
Три колымских рассказа
Памяти Георгия Александровича Большакова
Здесь под северным солнцем
Не холодно мне,
Нет мне места уютнее
В мире.
Ягод нет
Голубицы жемчужной милей,
Нет цветов горделивей,
Чем ирис.

Три рассказа о Колыме… О Колыме сороковых годов – в то время такой непонятно-далекой, овеянной столькими рассказами и росказнями, что не всякий сразу верил, что она и впрямь существует.
Но никакой особой Колымы не было. Было особое время. Трудное время, когда страна воевала, поднималась из руин, залечивала раны. Когда стране очень нужны были хлеб и золото.
Золото добывали на Колыме.
Я не подчеркиваю обыденность тех времен. Напротив, я хочу сказать, что простые, казалось бы, события, о которых рассказано в этой книге, исполнены подчас незаметного героизма, пронизаны пафосом труда, чувством, преданности своему народу и родине.
Колыма сороковых годов. Внешние приметы времени явственно проступают в рассказах Виктории Гольдовской – тут и глубинные прииски, куда можно добраться только по зимнику, и конбаза с одной единственной на весь прииск коровой, которую завели, чтобы дать детям хоть немного молока, и фанерный автобус с железной печкой, и острые нехватки в технике, в снабжении. Но пишет она не только об этом. В поле зрения писательницы – человеческие взаимоотношения. Любовь. Верность. Дружба. Чувство долга.
Небольшой поселок в самом сердце Колымы. Чем живут там люди? Они добывают металл, строят дома, прокладывают дороги. Все это вроде бы тихо и буднично; не слышно громких слов и трескучих фраз. Но вот приходит беда; паводок обрушивается на долину, и люди также просто и незаметно совершают подвиг.
И если рудник не выполняет план, в забой идут всем поселком. И если заболел ребенок – это тоже общая беда, на помощь приходит каждый…
Почти четверть века прошло с тех времен, о которых пишет Виктория Гольдовская, а герои ее рассказов и сегодня наши с вами современники, потому что не внешние приметы определяют суть времени. Пафос сороковых годов представляется мне в становлении той неистребимой и постоянной-любви к своему краю, которой и сейчас живут северяне.
Трогательная в своей первой девичьей привязанности Жихарка и сегодня симпатична нам своей глубокой и чистой верой в добро и дружбу; неистовый в работе и любви Роман, горячая, чуть своенравная, беззаветно преданная ему Любаша, умеющая быть и сильной, и вспыльчивой, и беспомощной, – это ведь тоже наши с вами современники, живые люди и добрые друзья.
Автор тонко чувствует природу Севера, умеет по-своему, скупо, но точно сказать о ее силе и красоте.
«Пуд соли», – так называется один из рассказов В. Гольдовской. Человек с риском для жизни прошел много километров в пургу, чтобы принести своим товарищам соль. Потому что без соли никак нельзя: соль – основа основ.
Много надо съесть соли вместе с людьми, чтобы иметь право писать о них. Гольдовская пишет о Колыме не по наслышке, не с чужих слов.
Горный инженер по образованию, она долгие годы работала на обогатительной фабрике, на оловодобывающем руднике, знает, как моют золото и извлекают оловянный камень – касситерит, знает, что добывают их для страны при любой, даже самой высокой технике, прежде всего люди.
Знает она и то, что без соли, в крайнем-то случае продержаться можно, а вот без дружбы, без любви к людям – нельзя…
Юрий Васильев.
Зеленый паводок

Артемьев включил радио.
«…У нас на Севере цветы расцветают дважды в году. Первый раз – весной, когда небо очищается от последних снеговых туч. Тогда быстрые и легкие облака, подобно небывалым букетам, окрашиваются лепестками шиповника, лиловым кипреем, лимонным рододендроном.
Второй раз цветы раскрываются в тайге, в июньских травах.
Сейчас – пора первого цветения.
Под стать ярким облакам и гладь бухты. Она сбросила тяжелый ледовой панцирь и, живая, синяя, нежится под солнцем. Только у дальних берегов, будто мелом очерченная, белеет полоска припая. Там, где берет начало главная магистраль города, взметнулась телевизионная вышка, перечеркнутая линией башенного крана…»
– Не слишком ли красиво, черт возьми! – Артемьев выключил динамик. И все же поймал себя на том, что ему хочется немедленно выйти, увидеть все своими глазами. Он был в этом городе пятнадцать лет назад, но такой красоты вроде не замечал.
Пятнадцать лет…
За такой срок многое могло измениться.
Он вышел на залитую майским солнцем площадь, настроенный заранее – ничему не удивляться. И не смог. Действительно, здорово! Здесь, у самой реки, где сейчас высится солидное каменное здание гостиницы, стоял раньше двухэтажный приземистый дом фабрики-кухни. Проспект, который зиял тогда пустырями, застроился до самой телевизионной вышки. Лиственницы вдоль тротуаров. Они еще голые, но в почерневших, влажных ветках чувствуется зарождение жизни.
А вот здание телеграфа стояло на площади еще тогда. Говорили – первый каменный дом в городе. В такое же светлое утро он, Николка Артемьев, отсюда подавал телеграмму: «Мама здесь ничего страшного окончил курсы экскаваторщиков посылают машинистом горный участок странным названием Отчаянный».
Николай вспомнил, что его заставили переписать текст. В словах «странным названием» девушке за стойкой почудилось что-то недозволенное.
Как давно это было! И все-таки, как здорово, что его послали в командировку сюда, на Колыму, в край его юности!
Он шел вверх по горбатому проспекту, любовался витринами универмага, зимним садом, зеленеющим за окнами Дворца культуры.
Башенные часы на угловом доме показывали одиннадцать. Стрелки видны были еле-еле. В это время дня с моря ползет туман. Город вдруг потонул в призрачной дымке. Была она легкой, голубоватой, ее пронизывал золотой свет солнца. Опаловая – иначе не скажешь. Вот и обвиняй диктора, что говорил чересчур красиво! А ведь так красиво, так необычно все вокруг, что теряется чувство реальности. Кажется, что все, что происходит с ним сегодня, что будет завтра и дальше, уже было однажды…
Да… Было…
Артемьев вернулся в свою гостиницу. Новая, главная гостиница «Магадан». В ее вестибюле всегда многолюдно. Кто-то солидно поднимался по широкой лестнице в «люкс». Другие шли в многоместные. Сверху спускались в ресторан. То и дело хлопала входная дверь.
Несколько приезжих сидели на чемоданах близ окошка администратора, безнадежно посматривали на объявление: «Мест нет».
Администратор, старше с худым лицом, взирал на ожидающих равнодушно: один уезжает, другой ждет номера. Как же иначе? Со всей области едут. И из центра тоже.
– Скажите, – негромко спросил Артемьев, подойдя вплотную к окошку, – скажите, товарищ администратор, нет ли сейчас в гостинице кого-нибудь с участка «Отчаянный»?
– «Отчаянный»? – Старик удивленно вскинул брови. – Такого и участка-то у нас нет.
– Но я… не так давно жил там…
– Наверно, лет пятнадцать назад? Я помню, его давным-давно переименовали. Он называется…
– Это неважно! Кто-нибудь оттуда в гостинице есть?
– Да. Вам повезло. В двадцать четвертый пройдите. Заочники, они сегодня возвращаются на прииск.
Через два часа Николай вместе с заочниками (замечательные оказались ребята!) садился в автобус. До поселка, куда Артемьев направлялся по делам, сутки пути. Устроившись у окна, Николай погрузился в воспоминания. Он жадно смотрел на дорогу и ловил себя на мысли, что все пытается отделить «было» от «не было».
Весеннее утро, туман, пыльная трасса – это все было. И сопки, вся эта необъятная тайга, перевалы, маленькие поселки у дороги тоже были. А вот автобуса не было. Такого удобного, с креслами в чехлах. Тогда автобусом называли грузовик с самодельной фанерной будкой, с печуркой посредине. А эта сопка? Как он мог когда-то не увидеть, не запомнить ее? Она голая, черная и вся сверху донизу оплетена толстыми, сухими корнями, как бутыль старого вина. Необыкновенная гора! За ней теперь вырос новый поселок.
Да, из фанерного ящика с маленьким оконцем многого не раз глядел он тогда!
Без конца меняются очертания сопок. То они далекие, пологие, поросшие редким лесом, то их крутые бока вплотную приближаются к дороге. Мелькают за окном речки и малые ключики, стелются, будто подкрашенные голубым и желтым, наледи, в распадках краснеют прутья ивняка. Поселок на пути. Остановка. Трассовская столовая. Та же самая. Ничуть не изменилась.
К Николаю подсаживается один из ребят-заочников. Видно, чуть выпил на радостях. Разговорчивым стал. В гости зовет. Говорит о новой технике, о гидроэлеваторах и о драге, которую у них на участке непременно пустят к осени. Неужели Николай проедет мимо, не завернет хоть на день на «Отчаянный»? Остался же у него там кто-нибудь из знакомых?
…Знакомых? Николаю вдруг показалось, что рядом не студент-заочник, а Роман Симонов. Ведь именно здесь, в этой столовой встретились они когда-то. Николай улыбнулся, как улыбаются чему-то теплому, давнему. В самом деле, не завернуть ли? Ведь интересно, как они там живут сейчас, как добывают золото. Может же командированный потратить полдня и побывать там, где он был когда-то, встретиться со своей юностью?
Артемьев быстро пошел к автобусу за чемоданом. Чтобы попасть на «Отчаянный», нужно было пересесть в другую машину. Ее приходилось ждать.
…Лисий Нос сидел тогда вон за тем угловым столиком. Круглолицый, ладно сбитый, подвижный, он, разговаривая, все теребил и теребил свой лохматый треух. Потом весело попрощался с буфетчицей, вскочил в фанерный автобус, где уже все места были заняты, примостился в углу на запасном колесе. Мешок свой бросил возле печки. Залязгали какие-то железки.
– Во, лисий нос, слышишь, гремят? – запросто обратился он к Артемьеву, как к старому знакомому. – Разжился я кое-какими деталями. Не зря на завод мотался. Теперь живем! А ты впервой в тайгу? Закуривай, у меня мировой самосад.
Закурили.
– Я здесь уже давно. Сначала с разведчиками-геологами ходил, а теперь по основной специальности. Танкист я. Что удивляешься? Конечно, на «Отчаянном» не воюют. Но бульдозер – он для меня как танк. А ты небось с курсов?
– Да. Машинистом на экскаватор. А что это за название такое – «Отчаянный»?
– Пожалуй, расскажу, тебе, раз к нам едешь. – Бульдозерист затянулся самокруткой. – Так вот, когда мы с геологами пришли в нашу долину, увидали ручеек. Узкий такой, блестит, как крыло стрекозиное. Мелкий совсем. Такому б и имени давать не стоило. Но по левому берегу золотило. Только начали мы работу, где-то в горах загремело. Дождь хлынул. И, скажи, разлилось наше «крылышко» метров на пятьдесят. Несет на мутной воде бревна, кусты, волочит по дну камни-булыжины с голову! Один наш геолог и говорит: «Во, ребята, отчаянный!» Так и осталось за ключиком название. А у нас правило: как окрестили ручей, так и горный участок называется. А что, лисий нос, разве плохо это – «Отчаянный»?
Он улыбнулся. Яснее обозначилась ямка на подбородке.
«Раздвоенный подбородок… Значит, есть характер», – подумал Николай, А вслух спросил:
– И давно участок золото дает?
– Металл, – значительно произнес бульдозерист, – мы нашли через год после Победы. Вот и считай. Четвертый сезон промышляем. А ты еще молодой. Видно, воевать не успел?
Николай почему-то покраснел.
– Наш год не призывали.
– А ты не красней! В войну и вы, ребята, горя хватили, хотя пороха и не нюхали. Я это к чему разговор завел. Трудно мне было после демобилизации дело по душе найти. И мирной жизни хочется, и с танком расставаться жалко. Мне и присоветовали – сюда, на Колыму. Трактористом. Приплыл я сюда – девять дней нас в Охотском море болтало – приплыл, а какие здесь трактора? В кадрах сказали: потерпи. Походи пока с геологами. Ну, я с ними и ходил в партии один сезон. А когда в навигацию бульдозеры прислали, я по-мировому устроился. Семью сюда вызвал. Ты вот что… Тебя как звать? Николай? Ты, Коля, в гости обязательно приходи. Нас найти легко. Спросишь, где Ромка-Лисий Нос живет.
– Почему Лисий Нос?
– Присказка у меня. Сам слышал, к каждому слову прибавляю. Так и прозвали. А прозвище – это такое дело – имя забыть могут, а кличку все знают.
– А вы на какой улице живете?
Лисий Нос громко захохотал.
– Нет еще на «Отчаянном» улиц. Вон, смотри!
Машина шла по дороге, проложенной на склоне сопки.
Ниже кольцом расположились домики. Косогор был крутой, и казалось, что нижние домики лепятся крышами к крылечкам верхних.
– Ишь, как в ауле!
– У нас так и говорят: «сакли».
Автобус миновал прижим. Николай облегченно вздохнул, но сказал как ни в чем не бывало:
– А за ручьем у вас низина…
– Это уж по науке! Реки всегда имеют один берег крутой, другой – пологий. Кажется, правый крутой. Мне коллектор наш объяснял, да я забыл. У меня, понимаешь, так голова устроена, что, кроме моей тракторной техники, ничего в ней по держится. Ну, приехали! Спасибо за компанию! Ты прямо к самому ручью иди. Там общежитие экскаваторщиков. У мостика. Мне надо к гаражу. А живу я вон на той горке. В «шоколаднике».
Он кивнул Николаю и легко подхватил мешок с железяками. Что такое «шоколадник»? Спрашивать было неудобно.
Николай Артемьев стал спускаться к ручью. За ручьем зеленело болото. Вдали виднелся длинный сарай. Больше никакого жилья там не было. Сам ручей действительно узкий – любой мальчишка перескочит – журчал меж камней по светлому песку, И только широкая отмель, на которой среди валунов застряли белые ободранные пни, напоминала, что перед Николаем – Отчаянный.
Экскаваторщики обрадовались новому машинисту. Людей в бригаде не хватало. Назавтра Артемьев уже принял смену.
Солнце поднималось за Восточной сопкой, розовели далекие горы, а на западе долина еще тонула в сумерках.
Экскаваторщики из ночной смены, сбросив на гальку промасленные спецовки, полоскались у ручья. Из-за камня вынырнул бурундучок и деловито запрыгал в траве. Никто не обратил на него внимании, и только Николай, которому все в тайге было в новинку, крикнул радостно: «Братцы, полосатик!» Оглянувшись, он заметил, что все остальные стоят, повернув головы в одну сторону, и смотрят на тропинку, что ведет от поселка к мосту. По тропинке шла женщина с большой и пушистой веткой лиственницы в руках.
– На работу идет Любушка, – вздохнул кочегар Мишаня, поднимаясь от ручья.
– Да, женщина всех мер… – задумчиво протянул бригадир Серега и приосанился, откинул со лба густые волосы.
– Ох, и хороша, прекрасная маркиза, – покачал головой второй кочегар, прозванный за малый рост и тонкие усики Винтиком.
– Зачем она сюда? – невпопад спросил Николай, не понимая, почему никто не взглянул на любопытного зверька, а на женщину все засмотрелись.
– Доярка наша, – объяснили Николаю. – На конбазу пошла. Вон видишь – новый сарай.
«Почему на конбазе доярка? Кумыс они, что ли, здесь приготовляют?» – подумал Николай, но вслух задать вопрос не решился.
За женщиной неотступно шли двое ребят в брезентовых куртках.
Экскаваторщики шумно приветствовали доярку.
– С добрым утром, Любушка, – заорал Мишаня и выбросил вперед голую ручищу.
– Здравствуйте, – весело откликнулась женщина. Николай никогда не слыхал такого красивого звучного голоса. Будто поет. И косы такой пышной, золотистой сроду не видел…
– А ветку ты не зря оборвала. Видно, от этих комаров отмахиваться?
– От них и дубиной не отмахнешься!
– Да, сильны, бродяги!
Парни в брезентовых куртках не отставали ни на шаг.
– Любовь-Ванна! Цигарка у меня погасла. Дозвольте от щечки прикурить?
– Любочка, у вас жемчужные пуговки на кофточке и зубки, как жемчуга!
Люба ускорила шаги. Куртки – тоже.
– Ты не смотри, что мы небритые да закопченные. Нас отмыть, так мы – ого! – какие соколики!
Видно, здесь терпение у Любы лопнуло. Она остановилась и так взглянула, что парни попятились.
– Что прилипли, как смола? Делать с утра нечего?
Но те снова стали зубоскалить.
– Хотим проводить, чтоб не заблудилась. А там, чем черт не шутит? Вдруг понравимся?
– Да что у меня, мужа нет?
– А нам муж не помеха!
– Вот узнает, что проходу ей не даете, так мало вам не будет, – вступился за Любу бригадир экскаваторщиков. – В самом деле, что привязались?..
– Да, Любин муж быстро отучит! Вон как Леньку-прораба…
– Давайте идите, идите ка своей дорогой, – внушительно сказал Мишаня, направляясь к брезентовым курткам.
Парни нехотя повернули назад.
Когда Люба скрылась за мостиком, благодарно помахав экскаваторщикам веткой, Винтик, взглянув на Николая, проговорил с усмешкой:
– Ты, что же, Николка, мыло-то в ручей бросил? Подбери, пригодится! – И он подмигнул товарищам.
А Николай все стоял, неотрывно глядя за мостик вслед Любе.
Когда все улеглись в общежитии на шатких топчанах, Артемьев понял: не уснуть ему сегодня! В комнате темно, пахнет табачным дымом. Цветов бы нарвать, веток хвойных принести. Вон на сопках зелени сколько! Сходить, что ли?
Когда он у двери завязывал накомарник, из угла, где лежал Мишаня, раздался смешок.
– За мост собрался?
– На сопку. Багульнику хочу набрать.
– Без пользы дело.
– Какое дело?
– У Винтика спроси. Он объяснит, что к чему. Он у нас романы читает!
– Насчет романов – случается! А букеты твои, это точно, цели не достигнут. На Колыме цветы без запаха, а женщины без сердца. Слыхал, наверно?
По правде сказать, вопрос женских сердец пока Николая мало интересовал. Он и сам не мог понять, почему его вдруг куда-то потянуло.
– Пусть идет, раз ему не спится.
Николай тихонько притворил дверь.
Полдень был легкий, прозрачный. За ручьем, в распадке, – море лиловых цветов. В колючих кустах перекликались кедровки. Комары над лугом висели черным столбом. Пучок ирисов, колокольчиков, иван-чая в руках у Артемьева становился все больше. Незаметно для себя он подошел к длинному желтому сараю. Упряжь, несколько саней и водовозка с поднятыми оглоблями… Ясно, это и есть конбаза. Недалеко от сарая стояла землянка. Вход, как в погреб, окно вровень с землей.
На чурбачке, у дверей землянки, сидел маленький, прямо-таки игрушечный человечек в сатиновой косоворотке с оловянными пуговицами. Морщинистую щеку его рассекал шрам. Человек вырезал пыжи из старого валенка. Рядом на траве желтела горка патронов. Охотник, наверно.
Приход молодого человека хозяина не удивил.
– Чаю хочешь? – спросил он таким тоном, будто сто лет знал Николая. – Наливай. Чайник на плите, под навесом. У Ефима Пинчука, брат, просто. Цветов, значит, принес?
– Гулял. Вот и собрал. А таскать надоело. Можно у вас оставить?
– Ох, куда ж мне от вас, цветочники, деваться! – вдруг застонал старик и сморщился, как от зубной боли. – Ну давай. Я их в цибарку поставлю. В ведро, по-вашему. Я-то сам из Белоруссии.
– А давно оттуда?
– Как тебе сказать? Прибыл в тот год, как Нобиле спасали. Да ты этого не можешь помнить. Выходит, на третий десяток пошло… А сам с курсов? Новенький? Я слыхал.
Пинчук зашел в землянку и возвратился с огромной банкой из-под томата.
– Прилаживай свой веник. Да воды плесни, не забудь. Я вот смотрю – парень ты красивый: прямой, как верба, волосы овсяные. По тебе небось дома десять девок сохло. В твои-то годы только на гармошке играть да по вечеркам бегать. А здесь не придется. Чего краснеешь? Дело молодое. Только на сарай ты не косись. Нету ее. Цыганку угнала пастись. Коровушку.
– У вас ведь конбаза. Откуда же корова?
– А что для нее одной скотник сооружать? У нас десять лошадок-якуток. За ними я хожу. А корова одна…
– Зачем же ее одну держать?
– Мама родная! Был бы у тебя пацан, ты б дурацких вопросов не задавал! Колыма ведь, У нас в поселке девять баб и у всех, кроме Любавы, малые дети. Чем кормить прикажешь? Всякая овощь сюда доставляется сухая. А вон у Ирины-телефонистки ребеночек искусственный… Только молоко и спасает. И всем другим ребятишкам хватает понемногу. Доярка у нас Люба куда какая отменная…
Николай отставил кружку с чаем.
– Ты пей, не стесняйся! Одним чаевником больше, одним меньше… Тут вечно бродят… гости. Одному водички попить, другому расскажи, как на медведя ходил. А ты вот – за цветами. Пока сам за дояра был, никакого лешака сюда не тянуло. А теперь весь участок табуном так и ходит, так и шастает!
– Так ведь я действительно за цветами, я таких никогда не видел…
– Кто б стал спорить? – Пинчук прикрыл шрам на лице. – Другие тоже не без причин. Но дело-то в чем? Красота манит. Таежник человек тонкий. Он может за десять, за сто верст прийти. Зачем спрашивается? На поклон. К красоте.
– Да, вы правы…
– А как же! Взять хоть Иру-телефонистку, У нее, бедняжки, не глазки, а пуговки. На них за сто километров любоваться не придут. А Любава… Любава – она нигде не затеряется. Ко-ро-ле-ва!
Николай невольно закивал головой.
– Вот только мужику ее каково? Три ордена Славы завоевал, полный георгиевский кавалер по-старому, – старик многозначительно поднял сухонький палец. – Отваги, стало быть, не занимать. А в этом деле что он может? Все смехом да шутками, некоторых даже в гости зовет, а в душе у этого Лисьего Носа…
Артемьев так и подскочил.
– Она за Романом?
– А то за кем же еще?
Пинчук пристально взглянул на Николая и вдруг ни с того ни с сего закричал:
– Ты что привязался ко мне? Расспрашиваешь все! Тебе десять раз сказано: проваливай! Нет! Расселся, как зять на именинах. Как… прораб, все равно…
Парень хотел было ответить, что никакого «проваливай» он не слышал, по вместо этого опять невольно задал вопрос:
– А о каком это прорабе речь? Второй раз слышу…
– Каком-каком! Может, и узнаешь, придет время! – И старик стал ожесточенно точить нож. – Пыжей второй день нарезать не могу! Не дают гостечки незваные!
К счастью для гостя, в это время к конбазе подъехала подвода. Пинчук издали заметил непорядки и, не снижая тона, стал кричать на чернявого возчика:
– Ты что, не видишь, что у нее холка сбита? Ждешь, пока она тебе скажет?
Артемьев поднялся, пошел к поселку. День стоял знойный, безветренный. За дальними кустами раздался звучный женский голос:
– Цыганка, Цыганочка! До дому пошли!
Он остановился, прислушался. Потом донеслась песня. Люба… Пела она про синий платочек.
В общежитии его встретили вопросом:
– Где же твой букет, машинист? Потерял на Пинчуковой даче?
Николай промолчал. А через день его снова неодолимо потянуло на эту самую «Пинчукову дачу».
Возле землянки сидела Любушка, чинила старику рубашку.
– Вот, стараюсь, – сказала она вместо приветствия. – За начальством своим ухаживаю. А мне про тебя Роман рассказывал. – Она подняла глаза от шитья. Глаза были веселые, блестящие. Шила она быстро и ловко. Приход Николая нисколько не смутил ее. Но беседа не клеилась, и Николай был рад появлению Пинчука.
– Здравствуй! Опять веник притащил? – спросил старик, сбрасывая у печки вязанку дров. Люба подошла к печке, стала разжигать огонь.
– Заштопала я вашу одежу, дядя Ефим. Сейчас кисейку для молока выстираю и пойду. Блины у меня еще с утра заведены, так что милости просим! – сказала неизвестно кому и побежала в сарай. Вскоре она выскочила оттуда, выплеснула из тазика воду и легко зашагала к поселку.
Старик следил за гостем: тоже небось соберется? Но Николай сидел спокойно.
– Что, гостек, опять ко мне побалакать пришел?
– Вы же мне рассказать обещали…
– Про что? Не помню…
– О прорабе каком-то недоговорили.
– А-а! Эт-то можно. Дай только вспомнить, как он, черт белесый, пел.
И Пинчук завел дребезжащим голосом:
Песней бархатной, цыганской
Ты мне душу освежи,
Лентой шелковой, шотландской
Мне гитару повяжи…
Так вот, послушай. Есть у нас вон в том распадочке разведочный участок. И служит там Ленька-прораб. Белобрысый. Фасонистый. Как-то, значит, с вечера проведал этот Ленька, что Люба на конбазе ночует, потому что животная приболела. Лечить было надо. Я дал Любушке траву якутскую. Мне эту траву под Хандыгой охотник собрал, когда я был медведем помятый. Напарила она травы. «Буду, – говорит, – ночью Цыганочку поить». Пошла в сарай, шубчик свой расстелила около стойла. Мне еще крикнула: «Какой шут придумал пол из жердей делать? Усе бока пролежу!» Я в ответ: «В тайге иначе не делают. Потерпи!» И занялся делами. Хомут чинил, в аккурат. И слышу, эт-то, в дверь конбазы стучат. Нарисовался белобрысый Ленька-прораб. Видок у него… Бачки косяком подстрижены, в пиджаке по пуду ваты на каждом плече. Достает он из-под полы гитару, расправляет бант клетчатый и песню запевает…
Любава, ясное дело, молчит. Молчу и я. Потому что безобразий никаких, а в гитару играть не запрещается. Потом он другую песню запел. Про несчастливую любовь. Громче и громче. Ну, думаю, рви струны свои хоть на тыщу кусков – бесполезно.
Верно и до него дошло, что пустой его номер. Положил он балалайку на лавочку, а сам под дверь: «Любовь-Ванна! Зря вы молчите. Я сердцем чувствую ваше присутствие! Не будьте жестокой. Отворите хоть на минутку, чтобы я мог вручить вам…» Стой, как он говорил? Ага: «…вручить вам «брезенты»: шелк на кофточку и горжет из голубого песца…»
И вдруг как ударит кожаным своим ботиночком в двери: «Открой, Любка, чего ломаешься? Тут тебе не Испания, а Колыма! Руки-ноги я отморозил с этим треньканьем!» А она ему: «Шары ты отморозил и совесть потерял! Вот я тебе открою!»
Видно, мочи у нее не стало терпеть его нахальство. Да и в случае чего знает, что я же рядом, в землянке.
Ну, а он, как услышал ее голос, так совсем на двери повис: «Любовь-Ванна! Давайте обсудим ваше положение. Разве вам пара этот тракторист чумазый? Кто он против вас?»
Тут она и выскочила из сарая. Злющая, растрепанная, тряпка в руках: «Что ты сказал? Повтори!»
Я уж хотел вступиться, да гляжу, кто-то идет от поселка.
Тут Пинчук перешел на шепот:
– До сих пор не знаю, случайно ли он или «поддули». Подозреваю одного человека… Только ошибся тот человек, если считал, что у Симоновых шум будет.
Любава тоже издали мужа заметила и спокойно так Леньке говорит: «Вон Симонов идет. Ему и скажешь – пара он мне или нет».
Правду сказать, прораб от этих слов не струсил. Подскакивать стал, как петух: «И скажу! И спрошу! Чего он тебя охраняет? Вроде дневального при тебе?» Схватил свою музыку, рванул так, что струны загудели дурным басом:
Плевать, что у красотки
Дневальный у крыльца!
Никто не загородит
Дороги молодца!
А Роман подошел и слушает.
То ли зорька отсвечивала, то ли Лисий Нос и взаправду стал, как брусника красный. Потом сошлись они грудка к грудке и, если и сказали какие слова друг другу, то я не слыхал, врать не стану. Только смотрю – прораб ушел не спеша. Гитару потом радист чинил. А бант шотландский у меня до сих пор хранится.
Пинчук с неожиданным проворством спустился в землянку и вынес помятую ленту. Николай потрогал шуршащий, холодный шелк, а старик продолжал:
– Подошел я к Лисьему Носу. Вижу, человек не в себе. Говорю ему так спокойненько, будто мы давно балакаем: «Вот, брат танкист, с такой красивой бабой и в тайге передовая позиция…»
Тут Пинчук принялся ожесточенно сучить дратву, давая попять Николаю, что рассказ окончен и ему пора уходить.
На «Отчаянном» топили баню. Артемьев как раз был выходным. И хотя отдохнуть не помешало бы: накануне работали они тяжело, их экскаватор стоял на глинистом грунте, – Николай взялся наломать для всех веников. Благо, в карликовой березе недостатка не было. Лист, конечно, у нее мелкий, но хлещет веник даже сильнее. И дух березовый крепче… Уже возвращаясь, он услышал позади себя смех:
– Частенько ты в кустах бродяжишь, то цветы, то березняк таскаешь!
Николаю показалось, что обдали его ведром кипятку. На берегу ручья, на бревне, сидела Любушка, вытянув стройные босые ноги, и заплетала косу.
– Присаживайся. Отдохни. Смотри, какая галька горячая. Хорошо как!
Николай пробормотал каким-то не своим голосом:
– Да, как на пляже в Крыму…
– А я на пляжах не бывала!
Ноги у нее маленькие, ступня узкая. Люба, почувствовав ого взгляд, потянулась за сапогами.
– Комары…
– Ты обувайся, я пойду.
Он поднял веники и медленно пошел по тропе. Любушка вскоре оказалась рядом.
– Домой схожу, еще обед сготовить надо. Роман на работе крепко уматывается. Да и неполадки у них. Запчастей нет. А начальство не беспокоится. Потом вернуться надо, подоить Цыганку.
– А почему ее Цыганкой прозвали, она ж… рыжая? – Николай взглянул на Любины волосы, которые горели на солнце рыжим огнем, и смутился.
– А ее не за масть прозвали, а за то, что побиралась, как цыганка, – не заметив его смущения, ответила Люба.
– Как побиралась? Не пойму.
– Ой, долго рассказывать! Но пока дойдем до поселка расскажу, пожалуй. Как-то зимой, когда Ефим Трофимович сам был за дояра, сена у них не стало. Не то чтоб совсем не стало, а дорогу к зародам в пургу замело. Тогда Ефим Трофимович и повел корову по поселку… побираться.
– Придумал же старик!
– Подводит, значит, ее к дому, где есть ребенок, и заставляет еды просить. Дескать, вы мне хлеба, а я вашим детишкам молока. Помню, в тот день я пироги пекла. Запах ли она учуяла или что ей взбрело, только подошла вдруг к окну и стекло как высадит! Сама испугалась и нас перепугала! Шарахнулась к Ирининому дому. Дверь в тамбур была открытая. Пацана у них еще не было. Ждали только. Корова, значит, из тамбура и теплую дверь настежь распахнула… Ирочка, говорят, как завизжит с перепугу…
Люба помолчала и добавила жалостливо:
– Потому у нее и ребенок искусственник. Слабенький…
– А у вас, Люба, дети есть? – спросил Николай, сам дивясь своей смелости.
– Не. Мой помер. Может, я и сама виноватая, – Люба вдруг приостановилась. – Как Роман на войну пошел, я о нем сильно убивалась. Он же не как все… Из таких мало кто вернулся… Молоко у меня, верно, на слезы изошло.
Она помолчала. Но через минуту заговорила вновь:
– Потом мне рассказали, как Ирина с ребеночком мучается, так я изревелась вся. Говорю своему: «Как хочешь, а я на конбазу дояркой пойду. Старик за коровой ухаживает, по поселку ее водит, как в цирке… А я дома сложа руки сижу». Сначала не пускал, боялся, что обидят меня. Всякие люди есть… Но, слава богу, не обижают! Только вот следом часто ходят, другой раз не отвяжешься. – И, искоса посмотрев на Николая, продолжала: – А корову до того Рыжухой звали. Только выходит – и доярка рыжая и она! Что делать? И стала она у нас Цыганкой.
Они незаметно подошли к поселку.
– Ну вот мы и дома!
Лисий Нос и механик участка Лавлинский стояли возле конторы. Ромка набычился, наклонил голову и что-то горячо доказывал. В промасленной гимнастерке, с засученными рукавами, с широкой, округлой грудью он казался бойцом на кулачном бою. Иван Федорович Лавлинский, худой, чуть не на голову выше Симонова, нервно теребил застежки-молнии своего комбинезона. Серая щетина делала лицо этого пожилого человека еще более старым и усталым.
– Что ты мне доказываешь, Роман Романыч? Сам знаю, что наши бульдозеры – не гвардейские тапки.







