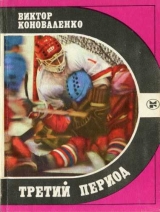
Текст книги "Третий период"
Автор книги: Виктор Коноваленко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Пошел и все выложил Костареву. Он мне сразу ничего не ответил. А утром, когда вся команда построилась перед зарядкой, вдруг и говорит:
– Езжай домой, если так тебе нужно, но в команду можешь больше не возвращаться!
Вот это поворот!
Не в моем характере объяснять, что меня неправильно поняли, доказывать очевидное. Не понимает человек – значит, не хочет понять. Спорить не стал. Собрал вещи – и в Горький укатил. Команда – в Финляндию, а я – в Горький.
Зашел в спортклуб, объяснил, в чем дело. И заявление об уходе написал. Тут меня в партком автозавода вызвали. Я и там все рассказал. Мне порекомендовали пока, до приезда команды, с заявлением обождать, готовиться к чемпионату.
Я и сам понимал, что так уходить нельзя. Не Костарев же один в горьковском хоккее. Старался не растерять форму, занимался ежедневно.
Не знаю уж, какой был разговор в парткоме с торпедовским тренером по приезде из Финляндии. Но факт, что в первом матче чемпионата с ленинградскими армейцами я вновь занял место в воротах «Торпедо». Мог отказаться – все-таки почти неделю тренировался в одиночку. Да ребят подводить не хотелось. Так, на опыте, и отыграл всю встречу. Мы победили – 4:2.
После матча подходит Костарев:
– Удивляюсь, как ты смог без тренировки так здорово отыграть? – Тон примирительный.
Я ничего на это не ответил. Не прошла еще обида, что не захотел он войти в мое положение тогда, в Москве.
Очень скоро в команде снова произошла смена тренеров.
Плохо, когда, приглашая нового руководителя в коллектив, не советуются с его членами. Нет, я не призываю выбирать тренера голосованием. Но выслушать мнение ветеранов не помешало бы. Для этой задачи и пригодился бы тот самый совет ветеранов, о котором я уже говорил. Наверняка торпедовские старожилы сказали бы свое категоричное «нет» новому назначению Прилепского.
Но нас не спросили.
Для команды это закончилось тем, что она продолжала благополучно плавать посредине турнирной таблицы – «золотая середина»! – а для меня тем, что я распрощался с хоккеем.
Мог бы еще поиграть. И хотел, честно говоря. Тем более что как раз в то время шли переговоры о проведении матчей с североамериканскими профессионалами. А мне давно хотелось встретиться с ними на льду. Но играть в «Торпедо», которым руководил Прилепский, я не мог. Переходить в другой клуб не имело смысла.
Расскажу все по порядку.
Меня не включили тогда в состав олимпийской сборной, и я не поехал в Саппоро. Не последнюю роль в этом сыграл Прилепский. И хотя, с одной стороны, он говорил, что я по-прежнему нужен команде, что «не сказал еще своего последнего слова», с другой – обвинял только меня во всех неудачах «Торпедо».
И на площадке, и вне ее я ценил превыше всего честность. Поэтому и ушел.
...Когда прихожу сейчас на хоккей, всегда занимаю привычное место за воротами. Здесь я ближе к игре, я – как бы в ней, а не смотрю с трибуны. И вот однажды стою за торпедовскими воротами. Соперники разыграли быструю комбинацию, и нападающий с такой силой бросил, что шайба, коснувшись сетки, отскочила далеко от ворот. Хоккеисты вскинули руки, поздравили товарища. Но красная лампочка за воротами «Торпедо» не загорелась – судья проглядел момент взятия ворот. Начались долгие разборы: был гол – не был. Торпедовцы, естественно, утверждали, что им не забивали, а соперники настаивали на обратном.
Во всей этой ситуации я больше всего удивлялся поведению Гены Шутова, вратаря «Торпедо». Он с пеной у рта доказывал, что шайбы не было. Я не ввязывался – молчал. Но когда подъехал судья и спросил меня, я не задумываясь ответил:
– Был гол.
Гол-то действительно был, и я не мог сказать неправду.
А вот Прилепский, когда приходилось выбирать между честью мундира и честностью, выбирал первое. И тут мы с ним кардинально расходились. До поры до времени я терпел, не высказывался против него – не хотел принижать тренера в глазах торпедовских игроков. Тем более что в команде было много молодежи, для которых каждое слово наставника должно быть законом. Я переживал все молча.
Но однажды сорвался. Это случилось после очередного календарного матча с воскресенским «Химиком». Мы вели по ходу игры – 3:0, но все же проиграли – 3:4. Безусловно, и моя вина была в этом. Расстроенный, выхожу после душа из раздевалки и слышу, как Прилепский – голос у него громкий, глухой – объясняет кому-то, что я специально пропустил четыре шайбы.
Это была последняя капля. После этого тренироваться под его руководством я не мог. И тут же написал заявление об уходе из команды.
Предложения о переходе в тот или иной клуб стали поступать незамедлительно. Самое лестное – от Николая Семеновича Эпштейна.
Я очень уважал его как тренера и как человека. И хотя нам пришлось работать вместе не слишком много, я всегда ценил в нем высокую культуру и удивительное умение находить общий язык с любым подопечным. Да и в чисто хоккейных делах он был корифей. Вызывало уважение и его постоянство – больше двенадцати лет он бессменно руководил воскресенским «Химиком», открыл нашему хоккею прекрасных мастеров. А ведь возможности для этого у него не ахти какие: Воскресенск – город небольшой, здесь особо не развернешься в поисках пополнения в команду мастеров. Но Эпштейн искал и находил замену ведущим хоккеистам, которых забирали то и дело в лучшие московские клубы. И «Химик» жил и живет, продолжая и приумножая традиции уже ушедшего на пенсию замечательного наставника.
Николай Семенович долго со мной беседовал тогда, советовал остаться в хоккее, поиграть еще пару годков. Он и раньше при каждой нашей встрече любил повторять, что, играй я в его команде, она постоянно была бы в тройке призеров. Но даже в создавшейся ситуации я не мог уехать из Горького. Уж если я раньше не уехал...
Предложения перейти в один из московских клубов поступали мне постоянно, все годы. И однажды было и решился уйти в «Спартак». Его возглавил в тот год Всеволод Михайлович Бобров. Мой кумир, да и кумир всех, наверное, хоккеистов моего поколения.
Меня познакомил с ним еще в 1957 году Дмитрий Николаевич Богинов. Первая встреча с великим хоккеистом врезалась мне в память на всю жизнь.
А дело было так. На тренировке в Горьком я получил травму мениска, и мы с тренером поехали в Москву, к знаменитому травматологу Зое Сергеевне Мироновой.
Я поселился в гостинице, а Богинов – по старой дружбе у Боброва. С утра Дмитрий Николаевич заскочил за мной, и мы направились в Сокольники, за Бобровым – он должен был меня Мироновой показать. Вместе с нами был врач Олег Белаковский, с которым нам предстояло долгое знакомство – сколько он потом моих травм лечил, не счесть.
В Сокольниках я немного посмотрел, как Бобров тренировал футболистов – он бил по воротам будто из пушки!
Я, восхищенный, стоял раскрыв рот. Потом, окончив занятие, Всеволод Михайлович подошел, потрепал меня по плечу: ничего, мол, сейчас разберемся с твоей травмой. И мы поехали в Лужники, к Мироновой.
Зоя Сергеевна, спасительница спортсменов, тоже заслуживает хороших слов, но о ней много писали – вряд ли я добавлю что-либо новое. Операцию она мне не порекомендовала, назначила множество процедур, водный массаж, тренаж – помню, я по десять тысяч сжиманий и разжиманий мышцы делал! Ладно, мениск мениском, но я тогда был больше всего занят Бобровым: великий спортсмен сам везет какого-то мальчишку к врачу! А оттуда – прямиком к себе домой, в гости! Я понимал, конечно, что все это не ради меня специально делается, а ради своего старого друга – моего тренера, и я бы нисколько не обиделся, если бы они меня по дороге высадили. Но ведь привез же! Я самому себе не верил. Не ожидал встретить такой простоты и сердечности в своем кумире.
Дом Всеволода Михайловича, обилие в нем спортивных трофеев, самых экзотических, окончательно доконали меня – я даже есть не мог, только сидел за столом и повторял про себя: Бобров, сам Бобров сидит передо мной... Ну и ну...
Когда я приехал в Горький и рассказал ребятам об ужине с Бобровым, мне, естественно, не поверили. Пришлось Богинову подтверждать, что да, так оно и было. Кстати, я только теперь подумал, что эту встречу Богинов, пожалуй, устроил не случайно. Это были «штучки» из его «педагогического арсенала»...
Не менее интересной была и вторая наша встреча – уже на льду, в матче «Торпедо» с ветеранами Москвы в 1958 году.
Я неважно себя чувствовал – накануне, в матче с «Крыльями», простудился, видно, и меня схватил радикулит.
Но Богинов все равно меня поставил. Тоже, думаю, специально, чтобы испытал я на себе силу бобровских бросков! Бобров что хотел, то и делал со мной и в той игре, «раздел» меня, как говорится, – три или четыре шайбы забросил. Но после матча, видя, как я расстроился, подошел ко мне и говорит:
– Не переживай. Будешь вратарем! Все будет у тебя хорошо.
Вот это его умение ободрить человека – очень ценное для тренера качество.
Потом мы с ним не виделись несколько лет, наверное, до чемпионата мира в Любляне. Тогда он похвалил меня за матч со шведами, который мы сыграли вничью – 3:3. После этой его поддержки у меня здорово поднялось настроение – авторитет Боброва был для меня непререкаем.
И вот Всеволод Михайлович становится тренером. И приглашает меня в команду Об этом можно было только мечтать. В общем, написал я заявление на переход в «Спартак». Заявление заявлением, но сомнения не покидали меня ни на минуту. С одной стороны – Бобров. Не «Спартак» и не Москва. Именно Бобров. А с другой – все родное и близкое, к чему прирос корнями: семья, клуб, автозавод, город. Но опять же это невезение с тренерами...
Словом, я решился. Когда мы были в Москве, в Сокольниках, собирался подтвердить свое согласие на переход в присутствии представителей Всесоюзного совета ДСО профсоюзов. Начал было второе заявление писать – так, мне сказали, надо. И здесь, на моих глазах, профсоюзное начальство не по-джентльменски обошлось с нашим уважаемым Мамулайшвили. Николай Нестерович поинтересовался, что это я пишу, – почувствовал, видно, неладное. А его грубо оттолкнули: «Не лезь в чужие дела!» Чтобы при мне так обращались с Нестерычем? Это все равно что отца родного обидели бы, а я промолчал. У меня будто пелена с глаз сошла. Тут же, не раздумывая, я порвал заявление и отказался от перехода.
Конечно, Бобров тут был ни при чем.
Я и потом много размышлял о том, почему мне так хотелось поработать именно с Бобровым. Сожалел, что не пришлось. И понял одно: Бобров, пожалуй, как никто другой из тренеров и спортсменов, был симпатичен мне как человек.
Самая главная черта Всеволода Михайловича – справедливость. Он никогда не оскорбил, не унизил человека резким или неосторожным словом. Он настоящий товарищ: ни в трудной ситуации, ни тем более в беде никогда не оставлял человека. Ни одного слова зря ни про кого не сказал. Терпеливый до беспредельности, спокойный, уравновешенный. Все это лучшие качества для тренера. Зингер мне рассказывал, что, будучи тренером, Бобров все умел не хуже молодых игроков. Вратарей разделывал «от и до». Из пяти буллитов четыре забрасывал ему, Зингеру. Я Виктору верю без оговорок. Действительно, Боброву и как тренеру цены не было.
И еще – он совершенно не зазнавался. Наверное, потому, что никогда не думал о славе, был человеком очень скромным и вместе с тем широкой натуры, как истинно русский.
Я не люблю жалеть о том, чего не было. Единственное, о чем я жалею, что поздно Бобров пришел тренером в сборную. Приди он на год раньше – я бы не ушел из хоккея. Мы бы нашли общий язык, в этом я не сомневаюсь. Обидно, что судьбы наши не перекрестились.
В 1972-м, как раз с приходом в сборную Боброва, я прощался с хоккеем.
Проводы были трогательными. Переполненный Дворец Спорта в Горьком, море цветов, улыбки старых и добрых товарищей по сборной – Фирсова, Кузькина, Рагулина... Ничего, мол, Витек, всех нас ждет то же самое – не сегодня, так завтра.
Много было приветственных адресов, почетных грамот, памятных подарков... Пришла телеграмма от ЦК ВЛКСМ и его решение о награждении знаком комсомола «Спортивная доблесть». Меня она особенно порадовала. И вот почему. Почти все мои друзья по сборной уже были удостоены этой награды со столь прекрасным названием. Не ради славы, не ради орденов и медалей боролись мы за чемпионские звания на ледовых аренах мира. Мы отстаивали честь своей Родины. И все-таки... Две государственные награды есть – ордена Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». А награды родного комсомола не было...
«Уважаемый Виктор Сергеевич, ЦК ВЛКСМ сердечно благодарит вас, замечательного спортсмена, за большой вклад в победы советского хоккея на чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх. Верим, что, уйдя из большого спорта, вы приложите свои знания и энергию для воспитания достойной смены ледовых рыцарей. Горячо поздравляем с высокой наградой – знаком ЦК ВЛКСМ "Спортивная доблесть". Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов в труде».
...Все шло своим чередом: речи, приветствия. И вдруг неожиданно в зале раздался такой знакомый голос Анатолия Владимировича Тарасова. Он говорил, как всегда, несколько певуче, неторопливо:
– Всем нам сегодня грустно. Очень грустно. Мы провожаем сегодня на тренерскую работу Виктора Сергеевича Коноваленко. Добрейшей души человека. Верного товарища. И великого вратаря!..
Слушал я эти лестные слова своего тренера и вспоминал...
Да, дорогой Анатолий Владимирович, много вы мне дали, чтобы стал я, по вашему же выражению, «великим вратарем». А ведь первой нашей встречи вы не помните. Мне же она врезалась в память.
...В 1957 году Богинов привел меня как-то на тренировку команды ЦСКА. Попросил Тарасова, чтобы пустили меня посмотреть и дали в воротах постоять. Это очень полезно для молодых хоккеистов – потренироваться вместе с мастерами высшего класса. Производит впечатление! Такого рода общение новичка с мастерами всегда было одной из форм учения, и не только в хоккее. Но, мне кажется, мы редко используем этот опыт.
И вот лично сам Тарасов стал мне бросать шайбы. Я, конечно, волновался. Был, помню, такой момент: он сильно замахнулся, а я «нырнул» – вроде как испугался. Тогда еще такие вот инстинктивные движения самосохранения я не изжил, сами собой получались эти «нырки» от шайбы. И Тарасов говорит:
– Никогда из тебя вратаря не получится – шайбы боишься.
А я тогда только-только начал чувствовать какую-то уверенность. Конечно, очень расстроился и думал: «Только бы Богинов ему не поверил!»
Много лет спустя на одном из чемпионатов мира я припомнил Тарасову этот его первый урок. А он и говорит:
– Не могло быть такого.
– Как не могло? – говорю. – Было. Точно помню.
А через три года после этого меня впервые пригласили сборную. Тогда по итогам предыдущего сезона я попал число 33 лучших хоккеистов страны вместе с Солодовым и Сахаровским.
В ноябре 1960 года «Торпедо» выехало на четыре встречи в Новосибирск и Новокузнецк. И вдруг телеграмма – Коноваленко срочно вызывают в Москву на матчи с канадцами. Ну, я и полетел. Добирался долго – погода нелетная была. И на первый матч не успел. Приехал уже после него. А в первой игре за сборную против «Чатам мэрунс» стоял Николай Пучков. Мы проиграли – 3:5.
Первым, кого встретил, был Тарасов. И первое, что услышал от него:
– А что если завтра мы поставим тебя на матч против канадцев? Или, может, отдохнуть хочешь, устал с дороги?
Устать-то я, конечно, устал – не столько от перелета, сколько от долгого ожидания «у моря погоды» в аэропорту. Но разве я мог в этом признаться, когда такая возможность предоставляется – испытать себя против канадцев! Ну и ответил соответствующе:
– Если поставите, буду играть... А чего не сыграть?..
– Ну ладно. Поговорим еще об этом. А пока иди, отдыхай.
Я пошел к себе в номер.
«Меня поразил тон ответа, какое-то необыкновенное спокойствие Коноваленко. Это в общем-то было странно, в то время мы с глубоким опасением относились к канадцам, ибо побеждали тогда лишь в редких случаях, во всяком случае не столь регулярно, как сейчас. Я никак не мог уразуметь, почему Коноваленко так спокоен – то ли это спокойствие напускное, то ли ему кто-то сказал о твердом решении тренеров поставить его на предстоящий матч. Чтобы проверить свои впечатления, я через 15-20 минут направился в комнату, где разместился Виктор.
Он уже... спал.
И тогда я понял, что у нас наконец появился вратарь, которого мы долго ждали, – вратарь с крепкими нервами, бесстрашный. Позже мы все убедились, что Виктор обладает высокими двигательными навыками, что он терпелив, ему как будто никогда не больно, он не унывает из-за ошибок.
Это бесценные качества для вратаря. Хоккейная профессия Виктора Коноваленко исключительно сложна и требует высокого мужества».
Анатолий Тарасов. «Совершеннолетие»
На следующий день я впервые защищал ворота сборной СССР. Это было серьезное боевое крещение. Если бы меня сразу после той игры спросили, что происходило на льду, я бы не смог ответить. А уж сейчас и подавно ничего не помню. Я тогда стоял словно во сне. Счет той игры, конечно, запомнил – 11:2 в нашу пользу!
С разницей в несколько дней я провел еще две встречи против «Чатам мэрунс»: в составе молодежной сборной СССР – 3:1 и за столичный «Спартак» – 3:3.
Мне понравились канадцы, и играть против них понравилось; бросают они часто, а я любил, когда мне много бросают.
«И наконец о вратарях. Их мастерство также прогрессирует. Правда, и раньше они обладали хорошей реакцией, необходимой самоотверженностью, неплохо владели клюшкой. Но вот таким приемом, как ловля шайбы, они почти не пользовались. Теперь же и Пучков, и его молодой коллега Коноваленко научились неплохо ловить шайбу.
Джек Роксбург, президент Канадской
любительской хоккейной ассоциации».
«Советский спорт», 1960, 1 декабря
После тех игр в раздевалку ко мне пришел председатель Всесоюзного спорткомитета Романов и поблагодарил за хорошую игру.
Тогда, вероятно, я и услышал первые добрые слова о своей игре от Анатолия Владимировича. Вообще лестную оценку из его уст было всегда приятно слышать. Только не так часто он ее давал. Не потому, наверное, что я не заслуживал. Просто Тарасов не растрачивал похвал впустую. Отыграл хорошо – так и надо, а как еще могло быть? Только так и не иначе должен стоять вратарь сборной СССР.
Уроки Тарасова...
Их было много. И чисто вратарских. И жизненных тоже. Не всегда он был справедлив. Но кто в жизни не ошибается! Главное, чтобы мог человек ошибки свои признавать и исправлять. А Тарасов это делать умел. В отношении меня во всяком случае.
Первый и самый, наверное, серьезный разговор состоялся у нас в Финляндии в 1965 году. Чемпионат мира проходил тогда в Тампере. По пути в этот город мы играли товарищеский матч с клубом «Саймен паллот» в городе Лаппеенранта под Хельсинки. На открытой площадке проходила встреча. Силы были неравны, и работы у меня никакой не было – 15:2. Я здорово замерз, и как обычно в таких случаях – радикулит.
Никому не говорил, но боль чувствовал постоянно. И в первой встрече чемпионата с командой Финляндии действовал не лучшим образом. Сам это понимал прекрасно. Хотя мы и победили соперников в тот день – 8:4, но пару голов на своей совести я имел, признаюсь. Да еще один Давыдов мне забил.
Кроме меня, неудачно действовал в той игре Костя Локтев. На следующий день нас обоих вызвали «на ковер». Первым на тренерскую экзекуцию пошел Костя; я жду за дверью в коридоре. Выходит Локтев – сам не свой, лица на нем нет. Спрашиваю: в чем дело? Он только отмахнулся:
– Иди. Тебя зовут.
Захожу. Тарасов сидит с Чернышевым. Аркадий Иванович молчит, как воды в рот набрал. А Тарасов начал с места карьер меня отчитывать. Долго говорил. И такие все слова обидные и, главное, незаслуженные. Я поначалу терпел, не реагировал. А потом, чувствую, комок к горлу подступает. В конце концов я не выдержал и взвился:
– Когда отец у меня умер, я не плакал. А вы меня тут ни за что ни про что до истерики доводите!..
Хорошо, что вмешался Чернышев:
– Все! Отправляйся к себе в номер и успокойся! – скомандовал Аркадий Иванович.
– Играть больше не буду. У меня радикулит, я больной. Отправляйте меня домой, – напоследок бросил я и пошел к себе.
Очень скоро меня навестил Чернышев. Я уже поостыл немного, пришел в себя. Рассказал про свои болячки. Он меня понял.
А потом Тарасов пришел с массажистом нашим – Георгием Лавровичем Авсеенко. Повели в баню, отпарили как следует. Боль прошла. И обида тоже. В общем, разошлись полюбовно.
После этого случая Тарасов старался особо меня не ругать. Даже в 1968 году на Олимпийских играх в Гренобле после матча с чехословацкой сборной, в котором я отстоял неудачно.
Уроки Тарасова...
Я их старался усваивать, потому что они были очень содержательными. Тренировки – одно удовольствие: технически сложные, они отличались и высоким темпом, и четким ритмом. Тяжелые? Безусловно. Но и очень интересные. По три-четыре килограмма терял я после некоторых из них. А пользу получал – ни с чем не сравнишь.
Думаю, что мы с ним хорошо понимали друг друга.
Стоило мне во время матча бросить взгляд на скамейку и увидеть жест Тарасова, сразу догадывался, что он мне хотел сказать. По выражению лица тренера я мог разобраться, откуда ветер дует.
Тарасова прекрасно дополнял и, я бы сказал, сглаживал Чернышев. Вообще это был удивительный тренерский альянс – Тарасов и Чернышев. Резкий, вспыльчивый, горячий – один, и мягкий, уравновешенный, рассудительный – другой. Порознь я их сейчас и не представляю. Бывало, загоняет нас вконец на тренировке Тарасов. А следующей Чернышев руководит. И мы знали – теперь будет некоторое послабление. Разрядка-то нужна была.
Но и Аркадий Иванович умел быть и жестким, и требовательным. Все это я испытал на себе уже на первом своем мировом чемпионате в Швейцарии, где Чернышев был старшим тренером. И в то же время, даже чуть повысив голос, он моментально пытался сгладить эту жесткость. Будто пугался, что переборщил в строгости, что его неправильно поймут.
Я сам как-то, каюсь, сгоряча нагрубил Аркадию Ивановичу, когда он указывал на мою несдержанность: во время игры ударил соперника и был наказан двухминутным штрафом. Поняв свою неправоту, после игры пошел к Чернышеву извиниться. Было это в Колорадо-Спрингс, уже знакомом мне американском курорте. Мы участвовали в традиционном новогоднем мемориале Брауна, который собирал сильнейшие любительские сборные мира.
Захожу я в комнату к Чернышеву – он лежит, читает книгу. Я ударился в объяснения, что случайно, мол, сорвался, что не хотел... А он не может понять, о чем я говорю. Оказывается, Аркадии Иванович все давно забыл.
– Иди, разбирайся с Тарасовым, если хочешь, – сказал он.
Оказывается, и здесь у них было «разделение труда». Чернышев вроде беспристрастного судьи или адвоката, а Тарасов – тот «прокурор». Или, может, так: всем известна грамматическая игра – «казнить нельзя помиловать», где от знака препинания кардинально меняется смысл. Так вот, получалось, что Чернышев как бы писал эти три слова, а Тарасов проставлял запятую...
Так однажды произошло и со мной. Но прежде чем рассказать, что же произошло, необходимо объяснить мое «исключительное» положение в команде. Я уже писал о том, что в сборной СССР долгие годы я был единственный немосквич. И вот возвращается ли команда из какой-нибудь поездки или вдруг тренеры решают на денек распустить всех по домам со сборов – они, как правило, тоже в Москве или под Москвой, в Архангельском, проходили – и я оказываюсь неприкаянным. Все ребята к своим семьям поскорее спешат: времени-то отпущено в обрез. А мне куда деваться? Это никого не заботило.
Даже гостиницу мне, если мы из-за границы возвращались, чаще всего заказывать забывали. Чья уж в этом вина – не берусь судить. У тренеров и без того забот полон рот. А администратора в сборной команде тех лет и не было. Это потом уже появился Анатолий Владимирович Сеглин. Самому же мне постоянно напоминать тренеру было неудобно. Вот и получалось, что никого не волновало: есть ли у Коноваленко крыша над головой, нет ли ее? Устраивался где придется. Бывало, и на вокзале ночевал... Не в оправдание случившегося я все это говорю. А для того, чтобы яснее было дальнейшее.
Сборная готовилась к отъезду на чемпионат мира в Стокгольм. 1969 год. До начала турнира оставались считанные дни. И вдруг нам объявляют, что накануне 8 Марта всех отпускают домой. Обрадовались ребята – смогут поздравить с праздником своих близких – жен, матерей. Нечасто такое бывает. Ну а мне не до радости: долго гадал, что же делать. Оставаться в одиночестве в Архангельском? Ехать в Москву? Или, может, махнуть все-таки в Горький? Велик был соблазн увидеть своих, обнять Ольгу Викторовну, (это я так дочь с пеленок называл) и Валентину, побыть с ними хоть немного.
Пусть простят мне читатели, что отвлекаюсь от основной линии рассказа. Но ведь жена спортсмена – это даже не правая рука, как иногда говорят о женах, а гораздо больше. Это его тыл, опора. На ней, верной подруге, держится родной дом, куда приезжаешь передохнуть. К сожалению, мы поздно начинаем понимать и ценить самоотверженность наших жен. Конечно, не все выдерживают этот жизненный марафон. Впрочем, это уже относится не только к спортсменам...
...Познакомился я с Валентиной еще когда работал в инструментально-штамповом. Тогда я уже играл в первой клубной команде завода. Мои товарищи вовсю за девушками ухаживали. Ну и я, конечно, на танцы ходил. Однажды увидел ее там и решил: будет моя. Да, вот так и решил. Потом я узнал, что она учится в десятом классе, а на заводе у них практика была.
После окончания школы Валентина стала работать в центральной заводской лаборатории, и я частенько в обед бегал туда. В общем, в 61-м году мы поженились. К тому времени я уже выступал за сборную страны, и судьба моя, казалось, совершенно определилась. Но кто знал, сколько превратностей ждет меня, как резко – то в сторону успеха, то поражения – будут качаться «весы» моей жизни? Все это нам предстояло пройти уже вместе.
Честно признаюсь, что я не сторонник того, чтобы посвящать женщину во все подробности мужских дел. Да и вообще, такой уж у меня характер: не люблю я объяснять что-то, оправдываться, обсуждать какую-либо сложную ситуацию. Я должен сам хорошенько подумать, решить для себя, кто прав, а кто нет, и поступить по совести. Наверное, для людей близких это качество и не очень удобное – все-таки проще, когда все объяснят. А со мной, получается, надо до всего дойти самому. И надо отдать должное Валентине – она хоть и не сразу, но научилась понимать меня.
Вскоре у нас родилась дочь, Ольга. Теперь, глядя на нее, уже взрослую, окончившую педагогический институт (она преподает в школе математику), я удивляюсь, как незаметно проскочило время. Меня дома-то почти никогда не было, пока дочь подрастала. Хотя я и был очень к ней привязан и всегда радовался, когда удавалось погулять или поиграть с ней. Конечно, для Валентины это время не было таким незаметным. Она работала в лаборатории и одновременно училась в юридическом институте. Потом перешла на должность юрисконсульта в Автозаводский пищеторг. Вот уже почти двадцать лет разрешает она трудовые и производственные конфликты, охраняет социалистическую законность. Она авторитетный человек на своем производстве. Не раз избиралась народным заседателем в судебную коллегию областного суда.
Не могу похвастаться, что много помогал ей в ее многочисленных заботах. Не раз ей говорил, что если, мол, тяжело тебе и работать, и учиться, и семейные заботы совмещать бросай работу, я семью обеспечу. Но она работу не оставляла ни на один год. А еще она всегда успевала ходить на хоккей, когда я играл в Горьком. И в Москву приезжала, когда я долго не был дома или возвращался из длительных поездок. Как-то Валентина даже прислала мне в Женеву, где проходил чемпионат мира, моих любимых слоеных пирожков и черного хлеба, прислала с одним знакомым журналистом, приехавшим на второй круг чемпионата. Знала, что я без ржаного хлеба не могу. Все ее женские заботы я принимал как должное, считал вполне нормальным. И только теперь, спустя многие годы, я могу это по-настоящему оценить.
Что греха таить, разные бывают у нас подруги. Знаю, есть и такие, которые с цветами встречали своих мужей, возвращавшихся с триумфом с чемпионатов мира, с Олимпийских игр, а потом, когда мужья сходили с арены большого спорта и возвращались к скромным своим профессиям, все менялось... Уход из спорта – испытание не только мужского характера, но и женского тоже. Наверное, почет и славу и связанные с ними «радости и трудности» делить все-таки легче и приятнее, чем обыкновенные трудовые будни, в которых ты ничем не выделяешься среди тысяч таких же, как ты сам.
Наверное, такое испытание могут выдержать только люди, имеющие хорошую трудовую закалку и умеющие реально воспринимать жизнь. Я имею в виду способность человека отдавать себе ясный отчет в том, что спортивные успехи – вещь преходящая, что они сопутствуют тебе только в молодости и уйдут вместе с ней. Спортивный триумф нельзя воспринимать как пожизненную ренту. Тогда и не будет трагедии в том, что волны славы уж не плещутся вокруг твоего имени, что о тебе перестали писать газеты, что тебя уже почти не узнают на улице...
Повторяю, что для наших подруг эта «трагедия» бывает даже более ощутимой, чем для нас. Правда, теперь я уже не так, как прежде, уверен, что именно я капитан семейного корабля. Но, надо сказать, и не думаю, что этот вопрос так уж принципиален.
...А мартовским утром того 1969 года я был дома, в кругу семьи. С подарками приехал – не с пустыми руками. В канун женского праздника. Моим дамам неожиданная радость. И мне приятно. После праздничного позднего обеда прилег поспать. Жене наказал, чтобы разбудила к поезду.
То ли забыла она, то ли сама уснула, не помню. Только проснулся я, когда последний поезд Горький – Москва, как говорится, давал прощальный гудок. А до вокзала мне добираться – не близкий свет. Да все равно не успел бы.








