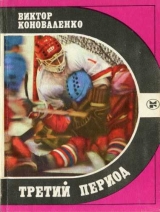
Текст книги "Третий период"
Автор книги: Виктор Коноваленко
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)
ОБ УЧИТЕЛЕ И ТОВАРИЩЕ
Знаю Виктора Коноваленко больше двадцати лет. Сначала он был для меня, мальчишки, который играет в хоккей, кумиром, недосягаемым образцом, далеким и притягательным, как свет звезды. Хоть это и несколько банальное сравнение, но оно абсолютно точное – вратарь сборной команды страны видится любому юному хоккеисту не иначе как звездой первой величины. Естественно, я хотел быть таким, как Коноваленко. И не был при этом оригинален – тысячи мальчишек играли тогда, в середине шестидесятых годов, «в Коноваленко». Вот только осуществить свою мечту – встать вровень со своим кумиром – удается далеко не всегда. Мне это удалось: я стал дублером Виктора Коноваленко! Отлично помню нашу первую встречу. Я был длинным, щуплым и не очень складным шестнадцатилетним парнем, когда меня «поставили» поучиться у Виктора Сергеевича. Он к тому времени был шестикратным чемпионом мира, двукратным победителем Олимпиад, имел огромный авторитет. Он оглядел меня неторопливо и основательно (у меня сердце в пятки ушло), а потом как равному пожал руку и произнес: «Ну-ну, не робей!» Больше, по-моему, он мне ничего в тот раз не сказал. Да это и неудивительно: Виктор не очень разговорчив. Но как я был благодарен ему за это мужское рукопожатие и за эти скупые слова.
Он стал моим учителем. Удивительно по-доброму раскрывал мне секреты вратарского мастерства. Прославленный ветеран заботливо поднимал на ноги безусого мальчишку. А ведь к самому Виктору судьба была далеко не так благосклонна. Об этом и рассказывает он с подкупающей искренностью и предельной откровенностью в своей книге «Третий период». Никогда он не проявлял ни тени ревности или пренебрежения к моей молодости и неумелости, замечания его всегда были лаконичны и точны. Я постоянно чувствовал, его стремление не уколоть мое самолюбие, не подорвать мою хрупкую веру в свои силы.
Именно тогда я понял, что мне сильно повезло – на моем пути встретился по-настоящему хороший человек. Ну а как вратарь Виктор был неповторим. Коренастый, плотный, с виду малоподвижный, он мгновенно преображался, стоило ему оказаться в воротах. Флегматичность уступала место молниеносной реакции, невозмутимость обращалась беспримерной отвагой. Виктор обладал прекрасной интуицией, способностью «вычислить» передвижения атакующих на несколько ходов вперед, отчего нередко у наших соперников просто руки опускались – и в этом они сами не раз признавались.
И не только вратарской интуицией он обладал, но и чисто человеческой. Только один пример.
Коноваленко всегда играл под двадцатым номером. Подражая своему кумиру, и я с детства надел свитер с «двадцаткой» на спине. Когда же оказался в сборной, рядом с Виктором, тихо переживал: какой номер дадут – двух-то двадцатых в одной команде быть не может. Как Коноваленко почувствовал мои мучения, невозможно понять! Но, зная, что рано или поздно я заменю его в воротах сборной, он сам предложил мне свой свитер с заветным номером.
Это был очередной урок доброты и великодушия старшего товарища. Гораздо позже я сумел оценить всю глубину и благородство этого поступка.
На мой взгляд, выход в свет «Третьего периода» – тоже в характере Коноваленко: он всегда в конце концов осуществлял задуманное. Кое-кому может показаться, что воспоминания вратаря хоккейной сборной страны шестидесятых годов несколько запоздали. Нет, не согласен! Во-первых, потому, что каждому человеку необходимо время для того, чтобы осмыслить какой-то важный отрезок жизни, прожитый период. А во-вторых... 1986-й – год сорокалетия нашей игры, и мы, читая книгу Виктора Коноваленко, еще раз пережили великолепный период в истории отечественного хоккея!
Не могу не приветствовать и «вратарскую специфику» книжки. Виктор «воскресил» для современного читателя имена выдающихся вратарей советского хоккея: Хария Меллупса, Николая Пучкова и Григория Мкртычана. Это начальные звенья нашей хоккейной вратарской эстафеты, цепочку которой, рассказав подробно и о себе, так своевременно воссоздал Виктор Коноваленко.
Уверен, что читатель будет благодарен Виктору Коноваленко за ту безграничную любовь и бескорыстную преданность горьковскому «Торпедо», всему советскому хоккею, которыми наполнена каждая страница его книжки. Приятно, что спустя многие годы Виктор и тут остался верен себе – именно за это его, как, пожалуй, никого другого, уважали товарищи по сборной.
Владислав ТРЕТЬЯК,
1986 г.
ПРОЛОГ
Первая попытка рассказать о своей спортивной судьбе была сделана мною в 1972 году. Тогда я ушел из большого спорта.
Убедил меня «выступить» в не свойственном мне амплуа мой друг спортивный журналист Михаил Марин. Человек очень увлекающийся, он, если загорался какой-нибудь идеей, умел кого угодно убедить в необходимости ее осуществления.
– У тебя теперь будет время для размышлений, – в который уж раз затевал он разговор на эту тему. Начинал более или менее спокойно, а потом все больше и больше «заводился». – Подумай, напрягись, вспомни, как пришел в хоккей... Да про наше поколение, как мы спорт любили, как людьми становились только благодаря ему, никто толком и не написал! Нас никто не агитировал, не было ни баз, ни тренеров, ни инвентаря. Коньки палками прикручивали к валенкам – об этом же никто не знает! Ведь все своими руками делали! Для твоих же пацанов в спортивной школе знаешь как интересно будет!
У Марина все было с восклицательными знаками и все – интересно.
Потом он мне объяснял, как просто это сделать:
– Берешь магнитофон и записываешь на пленку свой рассказ, потом пленку переписываешь на бумагу – и готово!
Михаил вызвался мне помочь. И верно: «переписал» с пленки на бумагу мой рассказ о военном детстве, о первых конька и вообще – о первых моих жизненных впечатлениях. Эту главу – «Я родился в щитках» – читатель найдет в книжке.
И я понял тогда: «просто» – для каждого свое. Для меня стоять в воротах – шайбы ловить, для него – писать.
– Я так не могу, – сказал я ему, прочитав главу.
Миша, явно довольный, рассмеялся:
– Не морочь мне голову! – это было его любимое выражение. К тому же он действительно считал, что много лет я ему «морочил голову», то есть мало говорил, никак не объяснял свои поступки.
Мы с ним подолгу сидели то у меня, то у него дома. Записывали бесконечные эти разговоры на магнитофон. Миша дотошно расспрашивал обо всех подробностях, растолковывая, чего от меня ждут читатели, что им будет интереснее, какие моменты моей жизни – в хоккее и вне его – необходимо объяснить и осмыслить.
Но работа тренера детско-юношеской спортивной школы закрутила меня не хуже, чем прежние тренировки, сборы, игры, переезды. Дело для меня было новое, а я не люблю плохо работать. Время – все без остатка – уходило на ребят. При каждой нашей встрече Марин напоминал мне про книжку, как, не раздумал еще писать? А я ему в ответ, что не вижу, мол, обещанной помощи от автора идеи.
– Ладно, ладно, – говорил вечно спешащий куда-то, деловой «от и до» Марин, – дай мне зиму отработать, потом делай со мной что хочешь!
На исходе одной из таких горячих для него зим, «отработав» мировой лыжный чемпионат в Лахти, а затем зимнюю Спартакиаду народов СССР в Свердловске, возвратившись после долгого отсутствия домой, в Горький, Михаил скоропостижно скончался.
Нас, его друзей и знакомых, эта смерть потрясла. Брызжущий энергией и оптимизмом, в расцвете сил – ему не было еще сорока восьми, – полный творческих планов, не доделав многочисленных повседневных дел, любимый всеми...
Впрочем, нет – надо быть справедливым. Некоторые горьковские спортивные «деятели», наверное, вздохнули с облегчением: некому стало выносить сор из нашей «спортивной избы». Восемнадцать лет работая собственным корреспондентом газеты «Советский спорт» по Горьковской области и Поволжью регулярно выступая с острой критикой в адрес организаторов спортивной жизни, Марин явно не давал им спокойно жить. Его откровенно побаивались.
Но зато поддержка его была весомой. Меня, в частности, он не раз поддерживал в трудные моменты. И не только печатным словом, но и человеческим участием.
Это, к сожалению, осознаешь слишком поздно...
Как-то сама собой отодвинулась на задний план затея с книгой. Только память о Михаиле Марине да годы, пробежавшие вдруг с непостижимой скоростью, заставили меня вновь взяться за перо. Из всех доводов в пользу книжки мне теперь кажется особенно справедливым один: передать опыт нашего поколения сегодняшнему поколению юношества. Пусть не в практическом смысле – каждый ведь учится на собственных ошибках, но... Если мой откровенный рассказ хоть немного поможет нынешним ребятам ощутить дух той поры, дух нашего спортивного товарищества, я бы считал свою задачу выполненной.
Поскольку я начал с Марина, то расскажу немного об истории нашего знакомства. Лет двадцать писал он обо мне. Могли я думать, что придет время, когда буду писать о нем?..
Мы познакомились летом 1959 года, когда Михаил приехал на сбор «Торпедо», который проходил на Волге, под Васильсурском. Смотрю, появился на базе новый незнакомый человек – невысокий, быстрый, темные, коротко подстриженные волосы.
Смотрит очень внимательно. Когда затягивается сигаретой, чуть-чуть щурится. Разговаривая, все время жестикулирует, как будто руками тоже что-то объясняет. С начальством нашим в основном общается. Потом наш тренер Богинов и с нами его познакомил, корреспондент, говорит. Ну, мы и раньше видали корреспондентов. Думаем, как приехал, так и уедет.
На следующий день собрались на рыбалку. В день отдыха у нас была непременная рыбалка. Смотрим, и корреспондента Богинов берет в нашу лодку. Поплыли вверх по Суре, лазили там с бреднем по старицам, поймали рыбы немного и заторопились назад – дождь сильный начался. Когда причалили к берегу, я взял рюкзак с мокрым бреднем и говорю:
– Ну, я побежал.
Помню, Миша засомневался:
– С таким рюкзаком в эту гору не добежишь!
Гора была длиной метров триста пятьдесят. Ну, я ничего не сказал, подумал, что корреспондентам, конечно, может, и не добежать, а нам, спортсменам, – пустяки. И одним махом взбежал. Он потом и говорит:
– Ну, ты здорово с этим рюкзачищем! Молодец! Силен! – с каким-то простодушным восхищением сказал. И я подумал тогда, что вроде ничего парень, этот корреспондент.
Мне еще много раз приходилось видеть, как Марин, приезжая к нам на сборы или на тренировки, ведет себя так, как будто собирается просто пожить с нами. Как будто никакого дела, тем более срочного, у него нет. По-моему, он больше сам рассказывал, чем спрашивал нас. Во всяком случае не помню, чтобы он вытаскивал блокнот и что-нибудь записывал. Теперь-то я понимаю, что он правильно делал. Хотел сам увидеть и понять команду.
Он постоянно посещал наши игры – и в Горьком, и в Москве. Мы всегда его видели, хотя отчеты об играх не всегда писал он. То есть он приходил не только по обязанности, по служебной своей необходимости, но, как видно, по собственному желанию. И это было приятно. Этим он отличался от некоторых своих коллег. И еще отличался тем, что был, хоть это и не принято у журналистов, болельщиком нашей команды «Торпедо». Думаю, что есть и доля его участия в нашем «серебре» на чемпионате страны 1961 года. Своим пристальным и доброжелательным пером Марин, безусловно, как бы держал команду в определенном необходимом напряжении, не давал ей расслабиться. И когда, еще задолго до нашего триумфа – об этом я расскажу подробно, – он писал, что верит в команду, что уровень ее игры поднимается до самых высоких отметок, нас окрыляли такие слова. Вообще нам нравилось, как он писал о хоккее: честно, ничего не выдумывал. А это с журналистами случается. Им, наверное, кажется, что если что-то придумать, будет интереснее. Но мы над такими выдумками только смеемся. Ну и, конечно, перестаем таким журналистам верить. А если человеку не веришь, то и разговаривать с ним откровенно никогда не станешь. Ошибки – другое дело. Ошибиться может каждый. Как-то Миша написал про меня, что я отбил шайбу коньком из верхнего угла ворот. После я говорю ему, что, мол, так не бывает.
– Как не бывает? Я же видел! – запальчиво отвечает он.
Мы поспорили, каждый остался при своем мнении. Но я-то лучше знаю, как может, а как не может быть! Мы в те времена не ложились под шайбу. Третьяк начал первым ложиться.
Уже гораздо позже, когда мы подружились, я его часто поддразнивал этим «коньком из верхнего угла». «Миш, признайся, что для красного словца написал?» – говорил я ему. Он только отшучивался.
Вообще журналисты, пишущие о хоккее, мало интересуются мнением хоккеистов о той или иной игре. Они пишут о том, что видели сами, иногда предоставляют возможность высказаться тренеру. У полевых игроков, тем более у вратаря, интервью берут редко. Поэтому и я, помнится, считал, что мое дело – в воротах стоять, а для интервью есть тренеры, капитан команды, комсорг. Пусть они отвечают на вопросы журналистов. К тому же я и не очень-то любил распространяться об игре, играть – любил. А Миша, бывало, после игры столько тебе вопросов «накидает» – отвечать замучаешься. Это только в первое время он вопросов не задавал, а потом – годами – засыпал нас вопросами. Почему тут так сыграл? Как оцениваешь игру такого-то? Прав ли был в такой ситуации судья? Видел ли, как развертывалась комбинация? Как относишься к тому, к другому, пятому, десятому? Но ответить на все вопросы сразу после матча нелегко – надо отключиться, подумать, вспомнить все детали.
Нас, кстати, Богинов к этому приучал, чтобы мы после игры осмысливали ее ход, анализировали тактику-стратегию свою и соперника, понимали свои ошибки, ошибки партнеров по команде. Сейчас такую работу помогает вести видеомагнитофон. А тогда приходилось прокручивать игру только в воображении. Это была для нас дополнительная серьезная работа, которая, как я теперь понимаю, принесла хорошие плоды. Но тогда мы относились к ней, как бы получше выразиться... как школьники относятся к дополнительному уроку. Когда тренер заставляет – ладно еще, куда ни шло, проанализируем. Тем более что иной раз мы увлекались и это казавшееся нам порой скучным занятие становилось интересным. Ну а уж когда такой работой приходилось заниматься по воле корреспондента, хоть это был и Миша Марин, – тут мы допускали откровенную халтуру: скорее хотелось домой, отдохнуть от игры, поэтому ответы на вопросы носили, мягко выражаясь, формальный характер. Не знаю уж, кто из нас кого проучил, только однажды появляется в печати интервью Марина с Коноваленко, где почти на все вопросы корреспондента я отвечаю одним словом – «нормально». Помню, очень я на Мишу обиделся и довольно долго продолжал с ним разговаривать односложно. Из-за чего окончательно укрепилось обо мне мнение, что я неразговорчив, не люблю и не умею отвечать на вопросы. «Ладно, – думаю, – пусть будет так, главное для меня все-таки вратарское дело, а не репутация».
Позже, когда стал вратарем сборной команды страны, чемпионом мира и Олимпийских игр, я в полной мере ощутил ответственность за все сказанное мной корреспондентам. Старался, если видел с их стороны стремление меня понять, объяснить толково свое мнение.
Дело в том, что такое стремление – понять человека, – честно говоря, я встречал нечасто. А вот в Марине оно всегда было. Это точно. До смешного порой доходило. Михаил, чтобы лучше меня понять, сам становился, например, во вратарскую стойку и засекал время. Через несколько минут, с трудом разгибая спину и морщась, говорил:
– Черт тебя знает, как ты стоишь двадцать минут! Да ведь трижды по двадцать! Да ведь не только стоишь! Да еще нервное напряжение! Да еще «кирпичи» в тебя летят! Да-а, несладко тебе приходится.
Все это он проделывал не на полном серьезе, а как бы пародируя и меня, и себя. Все смеялись. Неплохо это у нег получалось – входить в чужой образ.
Уже потом, после его смерти, я как-то подумал, что, наверное, каждого своего героя он так же вот «примерял» к себе. И великого Евгения Гришина, в которого он был влюблен и который для меня был и остался образцом спортсмена. И олимпийских чемпионов, наших земляков: неудержимого и бескомпромиссного велогонщика Валерия Лихачева; надежного и преданного командного бойца, одиннадцатикратного чемпиона мира рапириста Германа Свешникова; биатлониста Николая Круглова, скромного и трудолюбивого... Миша мне как-то признался, что пульс у него был за сто пятьдесят, когда на его глазах Свешников вел решающий бой в финале чемпионата мира в Москве с французом Маньяном.
Говорят, что журналист должен быть объективным. Какая же объективность с таким пульсом! Марин, наверное, не умел быть объективным – он был очень субъективным и журналистом, и человеком. Но за это все мы его и любили.
И вот еще за что я уважал его: он был в «сборной» спортивных журналистов страны – газете «Советский спорт», но никогда не изменял родному «клубу» – городу Горькому, его спортивным заботам и спортивным героям. По-моему, человек должен жить и умереть на родной земле.
Со многими журналистами я был знаком, многие обо мне писали, многих я ценю за высокое профессиональное мастерство. Но второго такого, как Марин, больше не встречал. С ним я был откровенен, потому что он понимал меня. Ему первому давал интервью, возвращаясь с чемпионатов мира и Олимпийских игр. Но уж и он всегда встречал меня чуть ли не у трапа самолета с неизменным букетом и распростертыми объятиями.
В этой книжке читатель найдет несколько таких «горячих» – в номер! – наших с ним бесед. Мне кажется, в них хорошо сохранился дух тех волнений, которые тогда нас переполняли.
Два слова о заголовке. Миша как-то написал, что любит смотреть, как я в середине третьего периода еду от одних ворот к другим. Еду спокойно, неторопливо, как будто о чем-то размышляя...
Пусть так и будет. Жизнь ведь тоже можно условно поделить на периоды. Во всяком случае моя делится очень легко: до хоккея, в хоккее и после хоккея. Сейчас я как раз и переживаю этот третий период. Может быть, середину его. И я действительно пытаюсь анализировать два прошедших.
Глава I
Я РОДИЛСЯ В ЩИТКАХ
Как начиналась война, не знаю, помню только, как начинались бомбежки: по радио сирена воет, говорят: «Воздушная тревога! Воздушная тревога!» – и репродуктор начинает тикать как часы – тик-так, тик-так.
Мать быстренько собирала свои пожитки в котомку, а я бежал во двор, в «щель». Эта «щель» была метрах в десяти от крыльца нашего барака. Если тревогу объявляли поздно вечером, а, по-моему, тревоги всегда объявляли вечерами, то я забирался в «щель» и сразу засыпал. Мать, наверное, не хотела меня будить, так и сидела со мной до утра в «щели», пока я не проснусь.
Много таких ночей провели мы с мамой. Это я хорошо помню.
Моя мама, Анна Алексеевна, родилась в 1900 году, в деревне на Волге, в ста восьмидесяти километрах от Сталинграда, напротив Камышина. Большая была деревня – тысяч на десять жителей.
Была мать красивой. Учиться ей не пришлось – всего два или три класса окончила, но читать умела. Родила восьмерых детей, да только пятеро умерли, а живы остались трое. Старший брат Николай был у матери первенцем. В 1939 году Николай ушел служить в армию, вернулся уже после войны, но ненадолго, уехал на Сахалин. Сестра Катерина в начале войны добровольцем ушла на фронт, воевала всю войну, была радисткой, вернулась домой летом сорок пятого, но жила с нами немного – тоже уехала на Сахалин к брату. Третий – я.
Отец, Сергей Артемьевич, ровесник матери, родился в том же селе на Волге. Поженились они с матерью, когда им было по семнадцать лет. Я весь в отца – и лицом на него похож, и характером. Он был на все руки мастер – и охотник приличный, и рыбак, и столяр, и плотник, и сапожник. Грузчиком был знаменитым – там, в деревне, рассказывали мне, мешки на пристани ворочал десятипудовые, как мячики, и потом, на автозаводе, тоже считался знаменитым грузчиком – за троих, говорят, работал.
В двадцатых годах его призвали в армию, он служил в Средней Азии, воевал с басмачами, да только никогда не любил рассказывать о том, как воевал: он молчаливый и неразговорчивый был мужчина. Тут я тоже в него пошел.
На вид отец казался суровым человеком, но душа у него была добрая: случалось, отлупит меня за проказы, а потом сам плачет. Когда война началась, он работал бригадиром грузчиков в цехе запчастей – тут трудная у грузчиков работа. Отцу выдали бронь – на фронт его не взяли. Бронь тогда давали только очень квалифицированным специалистам – рабочим и инженерам. Но вот отцу – простому грузчику – тоже дали бронь, и сам директор распорядился «не отпускать Коноваленку на фронт», потому что отец действительно один работал за троих – нужный он был на заводе человек. Я понимал это и гордился, что у меня такой сильный отец. Мне нравилось, что он все умеет. Он и для меня сарайку во дворе сколотил, чтобы я там мог столярничать.
Мать трудилась разнорабочей в колесном цехе. Это очень тяжелый цех, для мужчин тяжелый, а уж для женщин и говорить нечего. Там она получила в начале войны травму – то ли придавило ей ноги, то ли еще что-то случилось. Она стала уборщицей в столовой. Конечно, радости в этом мало – трудная работа была. Но тогда и это за счастье считалось. Отец говорил, что всякий труд хорош, главное – дело свое на совесть делать.
После войны, в пятидесятом году, я впервые поехал в деревню, где родились и выросли родители. Там у нас много родственников. Но не только родственники, многие помнили моих родителей, хотя уехали они из деревни давно – в 1932 году, на строительство Горьковского автозавода. Я хотя и мальчишкой попал в деревню, но понял, что там к моим родителям все хорошо относятся, а в деревне нравы строгие – о плохом человеке хорошо говорить не станут, даже если он родня: там за труд людей прежде всего уважают, за крестьянское умение жить, работать и хозяйствовать.
Вот история их отъезда из деревни. Был у отца товарищ, я его помню – дядя Ваня. Он первым из деревни подался в Нижний Новгород, прослышал, что там начинается большое строительство и нужны рабочие. На Волге жили, на берегу – вот и дошел слух. Поехал, устроился работать, а потом приехал в деревню в отпуск и рассказал отцу, что там, в Нижнем, на этой стройке хорошо и работать, и жить, что такие, как отец, работящие люди там во как нужны. А время было тяжелое, в деревне трудно жилось – голод был на Волге. Отец подумал и решил ехать. А еще через шесть лет я родился.
Любили мальчишки из щитков – так назывались бараки, щитковые дома-времянки, которые построили на Автозаводе в самом начале тридцатых годов, но простоявшие потом лет сорок с лишним, – играть в разные игры, спортивные тоже: футбол, хоккей. Какой это был хоккей, и не скажешь: кто на коньках, кто без коньков. Клюшек не было вовсе. Делали их из толстой проволоки. А то ходили в соседний Стригинский лес, искали корень с «крючком» или похожий на клюшку сук, обстругивали эти корни и сучья, и они становились клюшками. Про шайбу тогда еще не знали, мячей для русского хоккея тоже не было. Делали самодельные мячики, тряпичные, или играли мерзлой картофелиной. Картофелина была нашим главным «инвентарем». Но в футбол картошкой играть не станешь, нужен настоящий мяч. Мячей тоже почти не было. А те, что изредка появлялись у кого-нибудь из ребят, из каких-нибудь довоенных «запасов», жили день-два, не больше – рвались.
Но вот однажды кто-то из пацанов принес настоящую футбольную покрышку с камерой. Стали надувать мяч. Но надуть по-настоящему без насоса не смогли: покрышка была толстая, кожаная, жесткая, и, как мы ни дули, как ни тужились, твердым мяч не получался – он, когда щелкали по нему пальцем, не звенел. А мы знали, что настоящие футболисты играют мячами, которые, если их постучишь пальцем, звенят. Не пропадать же настоящей покрышке и настоящей камере! А насоса ни у кого из мальчишек не было. В щитках жили люди небогатые, ни у кого из моих товарищей не было велосипеда, он был тогда несбыточной мечтой. И вот как раз в то время, когда мы мучились с мячом и думали, как его по-настоящему надуть, к нам во двор въехал новый грузовик ГАЗ-51. Эти машины только-только начали выпускать вместо старых полуторок. Мы побежали смотреть на новую машину.
Хозяин ее ушел домой – это был наш сосед, работал он на заводе шофером, перегонщиком машин. Кабина закрыта. Залез я на подножку, гляжу, в кабине, на сиденье, лежит новенький качок – ножной насос. Ну, сам бог послал нам качок. А как получить? Пойти просить у соседа? Вряд ли даст. Решили утащить. Но дверь кабины заперта. Как быть?
Мы тогда из дома без рогаток не выходили. Рогатки были нашим «оружием», у всех мальчишек они были. Тогда я сказал, что надо залезть на крышу сарая и расстрелять из рогаток стекло в дверце кабины, откроем изнутри дверцу – мы были автозаводскими мальчишками и знали, что изнутри дверцу можно открыть и без ключа, – и возьмем качок. Видно, мы были уверены, что нам этот качок куда нужнее, чем соседу-шоферу. Ему новый дадут, а нам кто даст? В общем, сосед-шофер меня поймал. Все, думаю, пропал. Но хорошо помню, что не побоев испугался – все равно уж не убежишь, держит, как клещами, – а обидно было, что без качка мы остались.
Отец отлупил меня, а потом сам плакал в углу – жалко меня ему было, мать тоже плакала, хотя, пока отец со мной расправлялся, слова поперек не сказала, считала, видно, что не за озорство, а за воровство отец меня наказывает и правильно делает. Но они не понимали, что не для себя – для всех и для футбола я хотел украсть качок. Однако объяснять не стал, молчал.
Давно это было – сколько лет прошло, а помню всю эту историю, как будто вчера случилось...
Вот так я впервые пострадал за спорт. Мы тогда за то, чтобы спортом заниматься, чтобы в футбол поиграть настоящим мячом, на любые страдания готовы были пойти.
Но это было уже после войны. А я и войну помню. Году в сорок втором в одну из бомбежек бомба угодила в дом, такой же, как наш, – щитковый. Утром мы пошли с мальчишками смотреть. Дома как не было, одни трубы печные торчат, и все. А в конце двенадцатого квартала ударной волной полдома снесло, как отрезало.
Отца, случалось, по неделям дома не бывало – работали с утра до ночи, прямо в цехе и спали. А летом и осенью бомбили автозавод. И тогда мать собирала пожитки в котомку, мы шли к Оке, на лодке переправлялись на другой, правый берег и шли в соседнюю деревню. Помню, лодка была большая, набивалось в нее народу много – женщины и дети. Лодочник на веслах нас перевозил с одного берега Оки на другой. Потом мы с матерью шли пешком в село Борисово-Покровское. И почти все лето там жили. Мать работала в колхозе, а я жил с деревенскими ребятишками. Мне не очень нравилось жить в деревне, я не понимал, зачем мы ушли из дома, а мать говорила: «Хочешь, чтобы нас разбомбило?» Из всех этих деревенских воспоминаний, очень смутных, одно я хорошо запомнил: как жеребенок лягнул меня прямо в живот, под дых. Это была, наверное, моя первая настоящая боль. Рядом никого не было, потерпел – отпустило. Кажется, тогда понял – если болит, ударился или тебя кто ударил, потерпи немного, и все пройдет. Орать, плакать, жаловаться не надо.
Один раз – днем это было, тревоги не объявляли – мы увидели, как в небе два наших истребителя прижимают немецкий самолет, посадить, наверное, его хотели. Мы стоим – смотрим, трое или четверо нас было. Стояли у дерева, чтобы с самолета нас не видно было. И вдруг шмяк что-то об землю рядышком с одним мальчишкой, тоже Витькой его звали, был он немного старше меня, отчаянный такой пацан. Глядим, а это осколок. Витька растерялся, побледнел – он-то понимал, что такое осколок, еще несколько сантиметров в сторону, и конец был бы Витьке, а может, и мне. Но я тогда еще не понимал, как это можно – убить так вот запросто человека. Поднял осколок, а он горячий, руку жжет... Кажется, в тот день я стал осознавать, что на войне убивают...
Из воспоминаний о войне у меня осталось еще одно: смерть маленького брата. Он меня мало интересовал: лежит в люльке, кричит – какой интерес? Однажды мама взяла меня с собой детскую больницу, куда она понесла братишку. Оказывается, у него было воспаление легких. А дома холодно – топить нечем. Брат долго болел. И вот однажды мы играли во дворе, была зима, вдруг, вижу, из дома выбегает мама и кричит что-то, кричит и плачет. Высыпали во двор соседи, окружили ее, пошли к нам, я тоже пошел.
Братишка лежал в своей люльке, мама рыдала. Я думал, что он заснул, а он умер.
Пришел с завода отец. Он не плакал, а ушел в сарай и меня с собой увел. Там он сколотил гроб. Потом мы хоронили братишку. Поставили гроб на санки и пошли на кладбище. Я вез эти санки, а мама и папа шли сзади. Отец хотел помочь мне, но я не дал – от самого дома и до кладбища вез санки сам.
Братишка был пятым ребенком, которого похоронили мои родители. Отец тогда сказал: «Если бы не война, этот бы жил. Теперь, мать, у нас больше уже ребят не будет. Николай с Катериной на войне... Витьку беречь надо...»
Меня не баловали, но ребенком я был, как сейчас говорят, трудным. И теперь понимаю, что непросто было родителям со мной, но отец не раз говорил: «Не будет дураком – человеком станет».
...Как-то родители взяли меня в кино на «Чапаева», и с того дня ходить в кино для меня стало великим счастьем. Наверное, потому, что именно «Чапаев» был первым фильмом, который я увидел. Потом я смотрел «Чапаева», наверное, раз двадцать, а то и больше, знал всю картину наизусть, но готов был ходить каждый день и смотреть подряд по нескольку сеансов.
Во время войны показывали фильмы все больше про войну, про смелых людей – «Котовский», «Щорс», «Два бойца». Мне эти фильмы очень нравились, и я целыми днями пропадал в нашем, как его называли, киноконцертном зале. Понятно, что денег на билеты у меня не было, да и не разрешали мне каждый день бегать в кино, но тут уж со мной никто ничего не мог поделать – я удирал из дома тайком и мчался в кино. Маленький, шустрый, я довольно легко научился проходить в зал без всяких билетов – прошмыгну мимо контролерши, пройду в зал, притаюсь, а как свет погаснет, сяду на какое-нибудь свободное место, меня и не видно из-за спинки стула, сижу, не шелохнусь. Кричать, как другие ребята, во время сеанса, стрелять из рогаток во врагов на экране, в общем, «болеть» за «наших» я не любил, смотрел молча.








