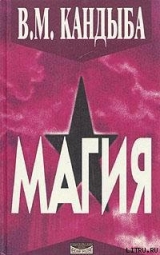
Текст книги "''Магия'' – энциклопедия магии и колдовства"
Автор книги: Виктор Кандыба
Жанр:
Медицина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 50 страниц)
– Позвольте… – Кадиков вспыхивает, одушевляясь. – Коня ставили высоко не одни алтайцы. А славяне? Они боготворили его каквысшего духа. Отсюда и "конек" крыши… ВIX-X веках в Старой Ладоге под каждый угол сруба избы закладывали лошадиный череп, на счастье дому. И череп этот хранит следы насильственной смерти. Сталобыть, обожествляли, но – приканчивали… – Монолог Кадикова исполнен стройной аргументации, логики.
После долгой дискуссии мы все же вырабатываем общую точку зрения на акт жертвоприношения. Соглашаемся в том, что жестокость тут не самоцель, что она – необходимый элемент "оккультных наук". Почему необходимый?..
И, точнее, – не "оккультных наук", а в широком историческом смысле религиозных обрядов. Мученичество и мучение сопровождали религию, когда она забирала силу официальной власти. У ацтеков умерщвление "достигалось" путем вырезания сердца жертвы, в Индии, еще в XIX веке, вдовы "отпускались на тот свет" через костер, инквизиция сотворила искусство истязания… К этой истории жертвоприношение алтайцев только примыкает…
Шаману – мастеру ведения мистерии – недоставало "обычных" средств художественной выразительности для того, чтобы захватить сознание зрителя полностью. Ему нужен был взрыв, потрясающие психику моменты. Одним из них и была жертва. Кто, как не алтайцы, столь часто слышали предсмертный крик коня – страшнее этого плача о жизни, говорят, нет ничего на свете. И еще: "год лошади" – один из самых счастливых. Лошадь – самый верный друг. И вот этого друга обрекают на муку мученическую, безмолвную и тем более страшную-формализуют ее до условности ритуала. Это действует сильно.
Тот, кто получает право на ритуальное умерщвление души – медленный переход ее в загробный мир, – тот творит иллюзию своего всемогущества; тот, без сомнения, великий человек. Его искусство совершенно, потому что образовано как бы из "материала самой жизни"; материал перекраивается. Через пытку мертвое отделяется в нем от живого – все ради театрального эффекта, который, собственно, перестает быть чисто театральным. Конкуренцию тут может составить, пожалуй, один только бубен…
– Все это архаика, – говорит Кадиков. – Жертвоприношенийсейчас нет. Ведь нет и шаманов. Во всяком случае, "официально действующих".
Мы давно уже оставили позади бурое кирпичное здание музея. Шагаем по неровностям залитой слабым электрическим светом мостовой. Трудно расстаться с таким собеседником… А он продолжает свою мысль.
– Как явление историческое, шаманство уникально, элементы егоеще в эпоху палеолита возникли… Но разве может шаман соревноваться нынче с медициной, с просвещением века? В недавнем прошлом наши камы целыми партиями отрекались от своей профессии, скопом сдавали бубны. А сделать новый бубен… Кстати, будете в Горно-Алтайске, непременно загляните в тамошний музей. Роскошная коллекция бубнов. Штук тридцать, не менее…
Мы, наконец, прощаемся. Поздно. Третий час ночи по барнаульскому времени.
"Расписка. Дана областному краеведческому музею г. Горно-Алтайска в лице тов. Л. Е. Чептной в том, что 31 мая 1970 года мною, АнтополъскимЛ. Б., взят шаманский бубен (инвентарный номер 1127) и орба к нему (инвентарный номер 1166) на один день для иллюстративного камлания. В чем и удостоверяю".
Забавная эта расписка как-то сохранилась среди бумаг, и я решил ее процитировать… Лидия Евгеньевна Чепкина, полная, цветущая женщина, хозяйка музея, в тот день откликнулась на эту странную просьбу без малейшей бюрократической волокиты. Впрочем, и не такую уж странную. В музей едут со всего Союза, из-за рубежа. Здесь был, например, венгерский ученый Вильмош Диосегий, специалист по шаманству. Ему и бубен, и маниак выделили для "иллюстративного камлания", подобрали стараниями работников научно-исследовательского института подобающего экс-шамана; тут, в уютном зеленом дворике, за оградой и развернулась эта несколько бутафорская мистерия. А в день моего отъезда из Горно-Алтайска в размеренно-спокойную его научную сферу ворвались, подобно пушечным ядрам, два сотрудника Ленинградского Музея истории религии и атеизма (сожалею, что не сумел за короткий срок с ними хорошенько познакомиться) – им тоже требовался "живой", "настоящий" шаман, разумеется, экипированный должным образом и подготовленный для киносъемки. Так или иначе, просьба моя особенного удивления у Лидии Евгеньевны не вызвала, вместе с ней мы с осторожностью извлекли из застуженной, полной кислых запахов каморки инвентарные номера – 1127и1166и торжественно поместили на скамеечку, на самый солнцепек. Два часа караулил я их тут, а затем торжественно понес в гостиничный номер.
Не очень досадую, что идея "иллюстративного камлания" в конце концов рухнула. В такого рода спешных экспериментах всегда проступает искусственность и ложное впечатление подменяет историческую реальность. К тому же позднее, от Сазона Саймовича Суразакова, преподавателя пединститута и одного из инициаторов запланированной мистерии, я узнал, что назначенный к камланию Лита Манышев был в действительности всего лишь носителем бубна у знаменитого Туянина Сапыра. Оруженосец, конечно, может стать и рыцарем, однако ж тонкая здесь разница в том, что имей Манышев "ортоксеок" – и он удостоен был бы высшего звания без всяких переходных чинов.
Благодаря любезности старшего научного сотрудника Института истории, литературы и языка Николая Александровича Сатласва я получил представление о звуковой стороне камлания, его оркестровке. В фонотеке института хранятся знаменитые записи шаманских выступлений 20-х годов, сделанные профессором Анохиным еще на фонографе. Конечно, звук слабенький да еще перебиваемый шумами, но Николай Александрович включил "Днепр" на полную мощность, и в пустых комнатах отчетливо зазвучал тоскующий, зовущий голос настоящего шамана. Заунывный, собирающийся все время к одной точке, к одному, будто затвердевающему узлу, он плел свою долгую музыкальную нить; режущей, свербящей ухо нотой он ввергал в угнетенное и тоскливое ожидание, копил энергию на короткий всплеск, прыжок на другую орбиту, а подмявшись к ней, вновь надолго утверждал ее постоянство – постоянство нового равномерного неускоренного шага, нового отрезка путешествия по зияющим провалам преисподней. Не к Эрлику ли он взывал-старику с атлетическим сложением, чьи глаза и брови черны, как сажа, усы подобны клыкам и завернуты за уши, челюсти сходны лишь с кожемялкой, рога напоминают корни дерева, и чья борода, раздваиваясь, падает до колен? Не к нему ли обращался он в своей молящей, надрывной, безотрадной песне-заклинании, путешествуя в подземном мире? Не об этом ли говорил он, растравляя свою шаманью тоску мрачными образами и немыслимыми видениями?
Черное игрище, трепетное.
Квадратное чугунное гумно;
Священная четырехгранная наковальня;
Черные шипы, непрестанно
Смыкающиеся и размыкающиеся:
Звучащий черный молот,
Гремящий черный мех –
Творение отца моего – Эрлика!
Место, обессиливающее больших шаманов,
А у дурных шаманов голову берущее.
Когда он в благоприятное время дает милость,
Тогда мы проходим это открытое место,
Место, где в неблагоприятное время
Человеческая голова берется.
Однако и ощущение от песни шамана-при всей необычности ее и даже своеобразии – решительно отступает на задний план перед впечатлением от Песни Бубна. Да, это последнее, собственно, осталось самым ярким и глубоким, хотя музыкальная культура Алтая отнюдь не бедна. Мне приходилось слышать, как звучит комыс. Этот сращенный из нескольких гнутых пластинок инструмент в момент исполнения вставляется в рот, который служит ему меняющим объемы резонато-g ром. Звук комыса острый, зуммерный – в нем проступает электромузыкальное начало, правда, лишенное особого тембрового богатства и широты. Слышал я, как звучат топшуры, их пиччикато не оставляет равнодушным; слышал современные алтайские песни – по радио, в грамзаписи и просто в автобусе. Слышал уникальное по вибрационной технике исполнение кайчи-оно по силе воздействия почти приближается к музыке бубна. И все-таки первенство за ним… Узнав и прочувствовав Песню Бубна, трудно отделаться от мысли, что во время старинных камланий не пляска и не речитатив шамана, не жертва и не какие-то другие средства подчинения психологии группы одному играли здесь главную роль. Основу-так думается-закладывал бубен. В нем искусство даровало религии самое могущественное свое средство…
Вот лежит он, не умещаясь на узеньком ухабистом гостиничном диванчике, и ничего особенного нет в его облике. Просто довольно большой плоский барабан, с одной стороны открытый. Портрет его индивидуальности может быть сведен к нескольким фразам. Кстати, "индивидуальность" тут не произвольное слово. Для камов не было "бубна вообще" – был поименованный оленем, беркутом, конем крас-норечивейший помощник. Так вот, лицевая сторона "моего" бубна – это натянутая на деревянный каркас кожа марала, темно-серая, с едва ощутимыми рытвинками; с изнанки она бледно-желтая, в коричневых разводах и пятнах. Тыльная сторона бубна уже содержательна, симво-лична. Этот инструмент принадлежал, по-видимому, небогатому хозяину: 25-30 полосок материи, спадающих вниз, линялые, вытертые, явно "бедные". Несомненно, бубен долго и честно служил своему каму – ручка отполирована до гладкости, до теплого естественного цвета лиственницы. Ручка – она же "тело" идола, духа. Того, что поглядывает сейчас на меня из своей музыкальной пещеры, не назовешь торжественно кормосом, это скорее идоленок. Это не дух карающий и грозный, а простодушный и наивный. Плоское овальное личико его с латунными глазками-бляшками, латунью же обшитым лбом до макушки, ровным носиком и маленьким ртом, полумесяцем рожками вниз, – лицо это смотрит на мир с детской простотой и даже испугом. Тщедушное тельце с обрубленными выше локтей ручками и коротенькими ножками, наподобие двурогих деревянных, укороченных на три четверти вил, свидетельствует об аскетическом воздержании и смиренномудрии. Как скрипка немыслима без смычка, так и бубен без орбы, проще говоря – колотушки. Она сделана из снятой с лисьей лапки кожи, натянутой на утяжеленную чем-то металлическим деревянную колодку сантиметров двадцать пять длиной, рыжеватая шерсть местами вытерта от усердной работы, вид у колотушки облезлый и несолидный.
Но колотушку я в руку сначала не беру. Просто потрагиваю натянутую кожу бубна двумя пальцами. Полный солнечных лучей, бубен теперь не остается равнодушным даже к этому легкому пощелкиванию: он довольно погуживает в ответ на слабую дробь. Серьезно ли он реагирует? Нет, по-видимому, все же из чистой вежливости, не проявляя и малой толики своей настоящей силы. Нетрудно предположить, что повествовательные, непафосные эпизоды камланий сопровождались таким вот тихим дрожанием. Но и они не были пустыми паузами; нервное возбуждение присуще каждой модуляции бубна.
А вот орба, ластясь, прильнула к серой упругой щеке. Не удары, а поглаживания – бубен отвечает на них глуховатым нутряным баском, сразу растекающимся вверх и вширь. Меняешь секторы удара, не усиливая его, – и голос меняет регистры, тональность и как будто обретает движение. Небольшое смещение ударной плоскости направляет голос бубна немедля лететь в другую сторону – возникает стереофонический эффект. Рокочущее эхо заполняет углы комнаты, перемещаясь упругой спиралью, следует за круговращением руки…
Теперь пора кульминации. Орба уже не гладит стертую кожу, гуляет по ней все быстрее и быстрее, повелевая глаголить. И мощное таам-таам-таам несется в ответ. Звуки, полные грозовой раскатной ярости, – хлынувший, мигом рьиащий, развернувшийся водопад, величественный и непреложный в своем устремлении. Он адресуется прямо к телу, к плоти. Чувствуешь, что кровь циркулирует иначе и сердце бьется живее, поддаваясь этому все пронизывающему тембру. Гипнотически насыщает бубен тело своим дрожанием, непререкаемо подчиняет себе волю; это купол, сфера, в которую ты втянут; эти звуки заключают в себе абсолютную власть… Безудержный, неистовый, свирепый глас; это уже не музыка, не шум, не гром, а магия.
Музыкальный инструмент? "Помощник" шамана во время мистерии и в то же время командующий всем этим парадом? Произведение человеческого таланта? Да, все это так. Бубен создан руками мастера, и ему уготована участь необыкновенная. Внимая его рокоту, видишь иные картины, иные пространства. Чувствуешь: такие звуки могли сдавить воедино необъятную людскую массу, сдернуть ее с места.
И это в руках невежды так показал себя бубен. Какие же глубины, какие же богатства звучания открылись бы в нем, вступи он в творческий контакт с мастером?.. Нечто загадочное, дразнящее воображение есть во всем этом-ив том, как необыкновенно раздвинулась возможность музыкального инструмента, и в какой-то особой "философии звука", наконец, в материальной природе этой вещи, готовой слиться с человеческой психикой. Да: нечто загадочное и… общечеловеческое. Африканский тамтам, снискавший славы не в пример больше, с помощью своего мастера умеет говорить. Т.е. выражение "говорящие барабаны" употребляется вовсе не в переносном смысле, не в образном значении и не в параллель с "языком" азбуки Морзе. Нет, они произносят именно слова, фразы и целые монологи, отсылая их миль на двадцать куда-нибудь вниз по течению Конго. Эти барабаны, из колоды долбленные и кожей слоновьего уха обтянутые, малые и великие, совсем разные, берут на себя, таким образом, функции человеческой речи. И не только: они мастерски подражают рыку леопарда и вою шакала, они ведут на поле боя и, объединенные в массовый ансамбль, разогревают трудовой энтузиазм масс, они делают праздник праздником. И, конечно, участвуют в религиозных мистериях. Недаром африканский бог одним из первых сотворил Барабанщика. Недаром Барабану потребна для воодушевления кровь жертвы, к нашему ужасу и отвращению, нередко человеческая… Вообще, если чуть продолжить напрашивающееся тут сравнение, то ясно увидим, что эстетические религиозные корни бубна и тамтама сплетаются. Удивительно сродственную почву образовали эти два язычества. Да только ли эти два? В африканских – южно-африканских прежде всего – теософиях находятся в изобилии и обожествление неба, земли, горы, скалы, дерева, каменных и деревянных идолов, ро-доплеменные культы предков и очага, вера в колдовство и гадание, магию защитительную и вредоносную, полидемонизм. По представлению народа азанде (Конго), человек обладает двумя душами: телесной и духовной. А народ акан (Гана), не скупясь, наделяет его даже тремя, среди коих имеется и "окра" – "душа-дыхание", "душа – жизненное начало". Наконец, тотемизм… Этим словом, взятым напрокат у северо-аме-риканского индейского племени оджибяе, окрещены языческие понятия о таинственном родстве души человека и животного, человека и растения. Тотемные предки (мифические полулюди-полулеопарды, например) давным-давно когда-то положили начало роду и почитаются с особым благоговением…
Воодушевляясь подробностями, рассказывал мне о корнях алтайского тотемизма Сазон Саймович Суразаков. Этот темноглазый, с весело поблескивающими стеклами стареньких очков, непоседливо-живой, хоть и немолодой уже человек, передал мне историю медведя, который в человеческом естестве был силен, но простоват, и притом ел так много, что родственники были недовольны, когда, в обиде, ушел он из дому за дровами, а возвращаться раздумал – превратился в зверя. Веревка его и до сих пор висит на дереве (хмель), а на передних лапах будто и по сю пору сохранились признаки шерстяных перевязок, которые он носил в человеческом облике от ревматизма. И сурок, и бурундук, и глухарь, и кукушка, и коростель были когда-то людьми…
Сазон Саймович – глубокий знаток алтайского фольклора. И потому сюжеты в его устах сменяются один за другим. Он передает народное поверье про волка, явившегося из пещеры спасти маленького, беспомощного ребенка; волк-то был, разумеется, не простой – он к линии этого же рода принадлежал и побеспокоился о жизни продолжателя рода. Душа человека вживается в растения… Сазон Саймович напоминает о мифологических временах истории, когда Ульген только-только задумал сотворить человека и слепил из глины несколько пробных образцов. За душами к ним был выслан ворон, отправившийся прямиком к управителю райской страны Кудаю. Получив искомое, ворон полетел назад. Но на обратном пути его поджидали искушения в виде трупов верблюда, лошади и коровы. Мужественно преодолев первые два соблазна, ворон не устоял перед голубыми, манящими к себе очами коровы. "Ах, – каркнул он, глянув вниз, – какие глаза!.." И души полетели из раскрывшегося клюва на хвойные леса, росшие неподалеку. Вот отчего кедры, ели, пихты и можжевельник зеленеют летом и зимой, ведь они по-настоящему живые.
– Мифологические образы, – продолжал свою короткую лекциюСазон Саймович, – как всегда это бывает, непременным элементомвходят в народное искусство. Алтайский эпос древнейший, архаичный,в нем реально-историческое перемешано с легендарным. Идеи рода,родового бога проходят в нашем фольклоре очень ярко. Ульген (о котором вы уже начитаны) по происхождению один из родовых богов. Егосыновья-другие родовые божества. Эрлик входит в эпос в результатепозднейших влияний, в частности уйгурских. В сказаниях вместо Уль-гена выведен образ верховного существа Курбустана-тут водоразделмежду ними и мифологией, зато злому Эрлику повезло больше: он вездеприсутствует… Очень активны в нашем эпосе женщины. Дух горы появляется в виде нагой женщины; она берет на себя ответственную задачувоспитать героя, продолжателя родовой линии… В эпосе, между прочим, нет шаманов, одни шаманки.
– А где теперь все эти шаманы и шаманки?
– Ушли, как и положено им, "в тот мир". Правда, не всегда бесследно…
– Перед вами живое этому доказательство… Я сын шамана.
– Сазон Саймович! Расскажите!..
– Рассказать об отце? – переспрашивает Сазон Саймович, немного съеживаясь и взглядом следуя в то далекое прошлое. – Надо бы еговидеть… Так вот трудно говорить о нем… Тем более жизнь не оченьсладкая у него была… Женился в девять лет, невеста была 18-летняя…
– В девять?
– Ну, это обычный "экономический брак", девушка бралась в дом для укрепления хозяйства… Отец сильно болел. После этого и обострилась в нем страсть к камланию. При мне, правда, не шаманил он: берег от этого, наверное. В 1927 году он отрекся от звания шамана, сдал бубен. Я не отношу отца к "выдающимся камам", тут особенно острой драматической коллизии, пожалуй, и не было, и все-таки… Я видел, как отцу иногда хотелось покамлать. Уйдет из дома потихоньку куда-нибудь в кусты и себе в наслаждение занимается "чистым искусством". – Сазон Саймович остренько поглядывает на меня и с блуждающей, несколько лукавой улыбкой продолжает:
– Знаете ли, если кам настоящий, то обуревает его иногда такое желание пошаманить, что удержу нет… Бесы его распирают, наверное, покоя не дают. – Красноречивый жест руки, поглаживающей грудь, яснее многих слов рассказывает о неутомимой настойчивости этого желания…
Разговор как-то само собой переходит к предмету более затейливому: он касается странностей поведения шаманов, их причуд, обычаев, разного рода хитростей их "профессии" и занятных парадоксов их "генетических линий". Оказывается, в наши дни эти колдуны и волхвы научились удовлетворять свой тайный порок, заменяя бубен другими инструментами, естественно, никак с ним не равняющимися. Шаманят, ударяя по ладони шуршащим и потрескивающим в ритм пучком сухой травы или березовыми прутьями. Орудуют даже топором, вращая его на разные лады, как это делает, например, шорка Тайбыгакова Тана.
– В таких случаях, – весело уверяет Сазон Саймович, – лед из-под топора сыплется.
В известном смысле это возвращение к беднейшим, архаическим формам: бубну исторически предшествовал однострунный лучок-скрипка, да и пучком березовых прутьев пользовались. Но бубен!.. Бубен для язычества то же самое, что орган для христианства… Между прочим, особую роль бубна подтверждает строго намеченная в прошлом зависимость от него шамана: ежели шаман трижды в момент камлания ломал бубен, то он незамедлительно дисквалифицировался, причем жесточайшим способом – он должен был умереть. Если он не делал этого сам, ему помогали. Вообще камы были отнюдь не бесконтрольны. Нельзя видеть в них элиту, свирепая власть которой безгранична. Во-первых, их было довольно много-каждый род и едва ли не каждая большая семья имела своих волхвов. Когда их скапливалось в ней больше, чем по одному, они начинали интриговать друг против друга, азартно колдовать, символически (да только ли?) "поедать" соперника, "убивать" его. Ну, а во-вторых, это множество подчинялось экономическим и моральным установлениям. Сколько бывало случаев, когда свою увлекшуюся многодневным камланием женушку-шаманку рассерженный муж без всякого почтения уводил за руку, прерывая священное действо: домашние-то дела не ждут… А шамана несправедливого, загубившего много человеческих душ, ожидала, по поверью, мучительная смерть-с кровавой рвотой, с извержением ногтей бывших его жертв… Нет, не было на Алтае сколько-нибудь идеализированного отношения народа к шаманству. Приходит на память картина алтайского художника Гуркина "Камлание" (Лидия Евгеньевна Чепкина извлекла ее из одного таинственного уголка своего разветвленного хозяйства). Светлая лунная ночь. На опушке возле костра в непринужденных позах разместилась группа мужчин-алтайцев. Перед ними в каком-то осторожном вдохновении застыл, подняв бубен, шаман. Но лица присутствующих не хранят на себе отпечатка благоговейного восторга. Совсем напротив. Кто-то отрешенно уставился в огонь, мечтая о далеком, своем, кто-то с равнодушной ленцой просто присутствует здесь, а кто-то и с явной насмешечкой вперился в кудесничающего лицедея. Словом, представление, почти развлечение…
– Так вы говорите, Сазон Саймович, что потомки камов нередкоталантливы?
– Конечно, конечно! – он проворно вытягивает руки вперед ладонями, как бы накатывая на меня факты. – Далеко ходить не будем. Вот наш Сатлаев Николай Александрович. Талантливый, многообещающий Ученый. А родной его дядя-шаман. И незаурядный, сильнее отца. Внук Туянина Сапыра-знаменитость своего рода. – Уголки губ моего собеседника тронула улыбка патриотической гордости. – Мастер спорта по боксу, чемпион Москвы в наилегчайшем весе, внук-то. – Факты сцепляются в цепочку. – Ну, о Павле Кучияке вы, наверное, знаете?
Да, эта история из самых известных. Ее даже Иван Катаев вкратце очертил. Павел Кучияк – основоположник советской алтайской литературы, на удивление многогранная личность, был третьим сыном шамана. Первые два умерли. Их "украли" злые духи. Надо было любыми средствами спасать Павла. Для этого дано было ему особое имя: Ить-Кулак – Собачье Ухо, в соответствии с чем ему вдели в мочки ушей пучки собачьей шерсти. Духи были проведены за нос. Жизнью Собаки они не заинтересовались.
– Посодействовал шаман литературе.
– У нас самые неожиданные штучки бывают. – Сазон Саймович с тихим удовольствием клонит голову набок. – Совмещаются в одном лице таланты разнообразные…
– Как так?
– Вы слышали о наших кайчи, сказителях? Они под топшур поютстаринные героические алтайские сказания. В Горно-Алтайске недавносъезд кайчи состоялся. И первым был Алексей Григорьевич Калкин. Онисполнял отрывки из "Маадай-Кары", древнего эпоса о борьбе с набегами (несколько дней спустя Сазон Саймович махнет на "ИЛ-18" вМоскву в издательство "Восточной литературы", чтобы принять непосредственное участие в выпуске этой книги на 9 тысяч строк).
– Он талантлив?
– Замечательное горловое пение. Он кайчи, он и кудесник…
– Где он живет?
– Село Ябоган Усть-Канского района. Только не надейтесь камлать он не станет. Но познакомиться с ним интересно.
Нечаянные дорожные встречи… Сколько они приносят порой неожиданных, но незабываемых радостных минут. Едешь – впереди пусто, только туманная, обещающая и чем-то уже лакомая неясность. Чем же? Ни за что не угадать. А встреча уже накатывает на тебя откуда-то издалека, к твоему приходу готовится, наливается смыслом, предназначенным тебе. Попробуй отстранись равнодушно, упусти момент (у тебя есть цель, ты человек деловой и не намерен растрачивать время по пустякам) – и прокатишь, пожалуй, мимо главного своего интереса, мимо желанного открытия… Я на всех парах мчал к Алексею Калкину, и если бы не случайная заминка автобуса и не остановка в деревушке Дьекти-ек, то не видать бы мне Зои Игнатьевны Самаевой. И если бы не эта и еще такие же неплановые встречи, то многое в облике Алексея Калкина осталось бы непроясненным…
Зоя Игнатьевна Самаева работает библиотекарем в бревенчатом одноэтажном клубе Дьектиека, к ней заходят получить книгу и аккордеон, взять шахматы или домино. Ощущение здоровья и веселости остается, как только взглянешь на Зою Игнатьевну, коренастую, крепенькую, с темно-бронзовой кожей упругих щек, совсем молодую на вид женщину. А ведь у нее уже четверо. Младшего – Геннадия – я видел; этот мальчик с глазами цвета антрацита любит прогуливать по центральному проспекту села великоватый ему матросский бушлат с золотыми пуговицами. Со вздохом, но не без тайной материнской гордости Зоя Игнатьевна сообщает о хобби Гены: он страстный собиратель значков, хотя в девятом классе пора бы эту забаву оставить. Подвигаясь меленьким шагом вдоль стеллажей, Зоя Игнатьевна по-светски учтиво ведет беседу, рассказывает о семье, о себе. Гена ее волнует больше других, те трое уже встали на твердую дорогу; сама окончила восемь классов, работала учительницей, теперь вот осваивает библиотечное дело; муж служит председателем рабочкома в Шебалинском совхозе. Они-то не местные, корни их в Усть-Кане. Была ли в Ябогане? Конечно, и Калкина знает прекрасно. Какого о нем мнения? Тут Зоя Игнатьевна чуть приостанавливается, но говорит затем с такой же охотой и уверенностью. Сказитель он хороший – его вся область знает, он в почете. Что же касается другого… Многие к нему лечиться ходили, толковали, будто помогает. А она не верила и сейчас не верит. Смеялась над ним: дурачит людей. Подружке говорила: больницы есть, врачи, не ходи к нему – только водку выпьет да обманет. Эта не пошла, а другая знакомая сына к нему повела. И уверяет, что, дескать, вылечил. Самовнушение это!
Одна из встреч состоялась почти на самом пороге юрты Калкина… Ябоган – село преогромное, но заезжего дома тут нет, путешественники Как-то сами собой растрясаются по квартирам. И вот, рыская уже а сумерках, попал я по воле случая в одно из самых радушных семейств села, ничего об этом не подозревая. Станислав Андреевич Гринкевич, молодо встряхнув блондинистой прядью волос и оглядывая незваного пришельца, предложил квартироваться тут же; мнение это тотчас было подхвачено его супругой Еленой Андреевной и поддержано уместной шуточкой младшей их, Ирины; дохнуло гостеприимством, ненавязчивым дружелюбием… Они старожилы здесь, в Ябогане, и хотя Станислав Андреевич из Прибалтики, а Елена Андреевна из Финляндии, дружная пара не думает сниматься с места. Гринкевич работу совхозного ночного сторожа совмещает со школьным делом – заложенный еще в гимназии интерес к музыке прививает ребятне; он зампредрабочкома; Елена Андреевна, облачившись в строгое черное платье, каждое утро идет заведовать книжной торговлей; тоненькая Ирина заканчивает десятый класс. Калкина знают они много лет, Станислав Андреевич с ним в приятелях, в сотоварищах по обществу слепых. Алексей Григорьевич Калкин – инвалид второй группы, он сильно близорук, хотя очков не носит. Станислав Андреевич дает высокую оценку исполнительскому дарованию Калкина, владеющего секретом синхронно-двуголосного пения. Мастер. Среди алтайцев пользуется непререкаемым авторитетом.
…Завтрашнее свидание щекочет воображение. Каков он, этот сорокалетний Алексей Калкин, профессиональный кайчи, родной внук шамана?
…На следующее утро мы со Станиславом Андреевичем поспешили на край села, к резиденции Алексея Калкина. Вот уж обозначаются за стандартным штакетником дом и соседствующая с ним юрта, виден темный провал ее входа.
Алексей Григорьевич торопливо рассаживает нас, сам садится на застеленную овчиной мехом вверх железную кровать, укорачивая разом немалый свой рост. Жадно всматриваюсь в его лицо, отыскивая приметы особенного, но их вроде бы и нет… Вместительный череп украшен крохотной кисточкой чуба, широкий бугристый лоб, треугольная кнопочка носа; поворачиваясь, Калкин открывает во весь рельеф емкую раковину оттопыренного уха, стриженный почти до макушки крепкий затылок. В глазах неуверенность, вопрошающее неспокойствие. Но вот первые минуты волнения минули, и хозяин дома спокойно складывает на коленях бледноватые жилистые руки, могучий ящик грудной клетки легонько поднимается для дыхания… Готовя трапезу, энергично орудует у очага ("тулга" зовут его по-алтайски) двоюродная сестра Алексея Григорьевича, молодая женщина с красивым разлетом черных бровей; примостились на скамейках мужчина с символической бородкой и женщина в потертой плюшевой жакетке. Эти двое наверняка по делу к Калкину.
Теперь можно осмотреться, оглянуться. Шестигранная просторная юрта связана из сильных, вкусно прокопченных бревен. Стены увешаны хозяйственной утварью – вперемешку архаической и современной. Тут куух (пузырь для масла) и мясорубка, арчмак (кожаная вместительная сумка из толстой кожи для езды на лошади) и рюкзак новейшего образца, сохы (большущая ступка на плотно утоптанном земляном полу) и обыкновенное сито на полке. От стены к стене тянутся две параллельные жерди, т.е. приспособление для просушки сырчика. В юрте не гарно, едва тянет вкусным запахом догорающего лиственничного полена – исправно работает овальное дымовое отверстие. Через него сверху, заставляя танцевать пылинки, врывается сноп солнечного света, прорезает полумрак помещения, эффектно зажигает нежным кадмием букет полевых "огоньков". Цветы в банке с водой стоят на низеньком круглом столе. Вокруг стола – все мы…
На очаге аппетитно побулькивает чай (он соленый, с жиром – почти суп), шкворчит двадцатиглазая яичница с салом в огромной сковороде, и уже произнесены первые тосты за знакомство. Алексей Григорьевич оживляется, но говорит немного, да и то все по-алтайски, русским он владеет с трудом… Решаюсь, наконец, попросить его о главном – исполнить что-нибудь. Он соглашается охотно, берет в руки топшур. Вообще-то у него их два. Один с дарственной надписью, лакированный, украшенный драконами, оленями и охотниками, с двумя капроновыми нитями вместо традиционного конского волоса. Однако он чуть дерезо-нирует, он резок по тону. Второй выдолблен почти весь из цельного дерева, только верхняя дека пришита деревянными колышками. Он не крашен, даже с шероховатой поверхностью, но тембр его благозвучнее, чище. Тем не менее увертюру свою Калкин начинает с первым… Равномерное потренысивание по струнам – размеренная, монотонная, тягучая мелодия полилась. Звуки скрипки пиччикато обнажаются резче, оголяются, а затем начинают плавно обволакиваться густым приглушенным воем большого шмеля – вступает кайчи. Губы его сейчас стянуты в треугольник, плотно сжаты, всегда выставленный булочкой подбородок поджался, подплющился, лицо краснеет от натуги, на лбу вздувается наискось проходящая жила. Это незаметно был сделан полный вдох широкой грудью, а теперь минуту – не меньше – воздух, выжимаясь, как мехами, поет шмелем. Постепенно усиливаются хрипы, сминающие мелодическую линию, уплотняются до рычания какого-то опасного зверя, скорее всего, это медведь, настроенный недружелюбно. Наконец, с треском разрывается полоска рта, под аккомпанемент хрипотцы вырываются первые слоги – ба-а-л, ра-аам, нэ-эх, ты-ын…








