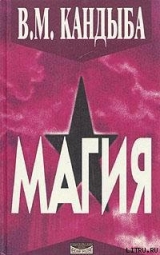
Текст книги "''Магия'' – энциклопедия магии и колдовства"
Автор книги: Виктор Кандыба
Жанр:
Медицина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 50 страниц)
…Человек, принявший облик медведя, был сыном знаменитого Ке-тила Хенга, который пришел из земель, населенных лопарями, хорошо знакомыми с этим зверем. Другой связанный с медведем эпизод касается Ервара Странного, потомка Кетила. Высадившись со своей командой на одном из балтийских островов вблизи побережья, он был враждебно встречен приплывшими сюда с континента людьми и, готовясь к сражению с ними, поднял на шесте медвежью шкуру с головой. Отражая нападение вышедшей на бой против них великанши, Енвар вложил в медвежью пасть тлеющие угли и стал пускать в нее магические стрелы, заставив противника покинуть поле сражения. Водружение подобным образом медвежьей шкуры, как части ритуала, посвященного удачной охоте, отмечено у лопарей и некоторых других народов.
Поддержанию у скандинавов чувства близости к медведю способствовала и существовавшая в знатных родах традиция называть детей именами зверей. Ученые предполагают, что этот обычай был связан с дохристианскими языческими верованиями у древних германцев. Самыми распространенными являются имена, произошедшие от слов "медведь" и "волк" в простой форме-Бьерн, Ульф или с добавочными слогами – Арнбьерн, Квельдульф. У германцев оба имени употреблялись с приставками в виде слов, означающих битву-Hild, Guth: Хиль-девольф, Гутбеорн – или оружие. Не вызывает сомнений, что образы медведя и волка были связаны с важной разновидностью колдовских ритуалов, которые имели отношение к войне и должны были охранять воинов в бою и приносить победу. И у германцев, и у скандинавов распространение этих имен связывается с поклонением верховному богу Водану, или Одину. В северных сагах часто упоминаются воины, называемые берсерками, которые принадлежали к дружине Одина. Снорри Стурлусон, скандинавский поэт-скальд (1178-1241) в "Шестой саге об Инглингах" описывает их так:
"Его (Одина) люди, сбросившие свои кольчуги и неистовые, словно охотничьи собаки или волки, дрались своими щитами и были сильными, как медведи или быки. Они разили врагов налево и направо, их же не брали ни огонь, ни железо. Это называется "становиться берсерком"".
Слово "берсерк" (berserk), возможно, имеет смысл "носящий медвежью шкуру" (serkr – "рубашка"), на это же указывает и другое данное им прозвище ulfhednar-"волчьи шкуры". Другой вариант, – первая часть этого слова может происходить от bеrr, что значит "голый", "обнаженный", и Снорри, судя по всему, склонен толковать его именно так, подчеркивая их привычку сражаться без кольчуги, которую, вполне вероятно, они могли сбрасывать, испытывая приступ берсерковой ярости. Последняя трактовка давалась в ранних словарях, но примерно с 1860 года и слово "медведь" стало допускаться в качестве образующей основы понятия "берсерк", например, в"Древнеисландском словаре" Вигфуссона и Клисби. Норин защищает прежнюю версию в статье, опубликованной в 1932 году, однако я не нахожу его аргументы достаточно убедительными. В "Девятой саге о Ватнсдэлах" говорится: "…те берсерки, которых называли "ulfhednar", вместо кольчуг носили рубашки из волчьих шкур (vaigstakkar)".
Название "волчьи шкуры" применяется к берсеркам и в древней поэме "Храфнемал" ("Hrafnsmal" – примерно 900 год н. э.), в которой также подчеркивается производимый берсерками шум: "…берсерки лаяли… "волчьи шкуры" выли…" В этой же поэме есть описание этих воинов, находившихся при дворе короля Харальда Прекрасноволосого правившего во второй половине IX века:
"Волчьи шкуры" они звались, те, чьи мечи были бурыми от крови, а копья в битве в едином движении вздымались и опускались, разя врагов.
У нас нет более подробного описания этих свирепых бойцов, носивших медвежьи и волчьи шкуры, но имеются найденные в Швеции изображения человеческих фигур в шкурах с медвежьими и волчьими головами на нашлемных пластинах и ножнах, относящиеся большей частью к довикинговому периоду. В своей статье, посвященной оборотням, Нильс Лид подчеркнул роль пояса из волчьей шкуры в сказаниях о превращениях, в которых мужчина или женщина, желая обратиться в волка, надевают на себя такой пояс или кладут его с собой на ночь в постель; эти пояса также фигурируют во многих норвежских протоколах судов над ведьмами и колдунами. Вполне возможно, что распространенный у древних с андинавов символ в виде маленького танцующего воина в рогатом шлеме и в одном поясе, но с копьем или мечом символизирует именно воина в медвежьем или волчьем поясе, принадлежащего, как я имею основания полагать, к воинам Одина. По мнению Лида, этот пояс символизирует всю шкуру.
Чувство общности с медведем и волком было естественным для профессиональных воинов и их вождей в век викингов. Различие между этими зверями очевидно. Медведь выступает одиноким и независимым бойцом, обладающим большой силой и проявляющим определенное благородство, хотя в ярости и сеющим смерть без разбора. Волк, напротив, сражается в стае в тесном контакте со своими товарищами и предстает хитрым и безжалостным. Таким образом, они олицетворяют два способа ведения боя, существовавших в век викингов и предшествующее ему время. Выдающийся воин подтверждает свою незаурядную силу, мастерское владение оружием и храбрость в поединке с лучшим бойцом противной стороны перед лицом всего войска, считая ниже своего достоинства сражаться с более слабым или невооруженным противником.
Существует достаточно свидетельств неистовой ярости, дикого бешенства, проявляемых в бою германцами, а после них викингами, производивших сильное впечатление на римлян и византийцев. Лев Диакон сообщает, что видел восточных викингов, сражавшихся во главе со Святославом в конце X века на Дунае против императора, и потом неодобрительно откомментировал их практику ведения боя, совершенно отличавшуюся от греческой. Манера ведения боевых действий у викингов, по его мнению, не была основана на принципах военного искусства. Эти люди, говорит он, видимо, были движимы безумием и слепой яростью и дрались, словно дикие звери, "странно и отвратительно воя".
Живое повествование о том, кого можно назвать берсерком, содержится в начальной главе "Саги об Эгиле". Дед знаменитого авантюриста и поэта Эгила Скаллагримссона, жившего на севере Норвегии, звался Квельдульфом, что буквально означает "вечерний волк", и был сыном человека по имени Бьяльфи, что означает "звериная шкура". Создатели саги объясняют его имя тем, что к вечеру этот человек приходил в скверное расположение духа и становился сонным; это может быть естественным для человека, привыкшего вставать очень рано и отправляться в кузницу, как делал Квельдульф, но в повествовании это явно связывается с превращениями, т. к. упоминается, что он был оборотнем (hamrammr). Хотя в саге ничего не говорится о том, что его когда-либо видели обратившимся в волка, он и его сын Скаллагрим были подвержены ужасным вспышкам ярости. Во время таких приступов они могли напасть на любого, кто им встречался, и сам Этил мальчиком едва избежал смерти от руки впавшего в бешенство отца во время игры в мяч. Этил, в свою очередь, тоже проявлял берсерковские наклонности, однажды в безумной ярости бросившись на переполненный врагами корабль в Норвегии, а в другой раз вцепившись зубами в горло своему противнику, и дрался как берсерк на поединке.
Следует учесть, что воины в Скандинавии проходили особую подготовку, кроме того, существовали специальные заклинания, произносимые перед битвой, и есть основания предполагать, что у бойцов был принят свой ритуал. Описание подобной подготовки можно найти, например, в "Саге о Вельсунгах", передающей историю рода Вельсунгов и, видимо, основанной на каких-то древних источниках, ныне утерянных. В начальных главах мы читаем о том, как Сигмунд растил и воспитывал своего сына Синфьетли, готовя его для мести королю, убившему отца Сигмунда и его братьев.
"Однажды они отправились за добычей в лес и там нашли хижину. В той хижине спали два человека с массивными золотыми браслетами на руках, которых постигла злая участь; волчьи шкуры были наброшены на них, и они могли снимать их лишь раз в десять дней, и были они сынами короля. Сигмунд и Синфьетли надели эти шкуры и уже не могли снять их. Однако сущность их осталась прежней, они говорили по-волчьи, но понимали друг друга. Они остались жить в лесу и отправились каждый своей дорогой, договорившись, что будут драться не больше чем с семью человеками сразу и что тот, на кого нападут, будет звать на помощь, как это делают волки. "Нам не следует отказываться от этого, – сказал Сигмунд, – потому что ты молод и полон безрассудной отваги, а люди захотят выследить и затравить тебя". Так они бродили лесными тропами, и, когда Сигмунд встретил людей, он завыл, и Синфьетли, услышав его, сразу же явился и убил их всех. Они снова расстались, и до того, как он (Синфьетли) успел уйти далеко, он натолкнулся на двенадцать человек, дрался с ними и сумел со всеми справиться".
Сигмунд был сильно разгневан из-за того, что Синфьетли не позвал его на помощь: "Сигмунд бросился на него с такой силой, что он пошатнулся и упал, и схватил зубами за горло. В этот день они не могли сбросить свои волчьи шкуры, и Сигмунд, подняв Синфьетли на спину, принес его в хижину и там, склонившись над ним, принялся проклинать их (шкуры)".
Тут Сигмунд увидел, как горностай каким-то листиком лечит другого, укушенного в горло, и этим же средством вылечил Синфьетли. Наконец пришло время, когда они смогли сбросить шкуры и сжечь их, чтобы больше никто не смог причинить себе зла. Их история заканчивается словами: "Но, будучи заколдованными, они совершили множество доблестных дел в землях короля Сиггейра".
Это повествование включает элементы народных сказок, но в описании нападений на врагов, о которых герои саги договариваются, подавая друг другу сигналы, и бойцовских успехов, достигнутых людьми в волчьем обличье, видимо, содержится намек на другое предание, персонажи которого жили в лесу жизнью волков, приучаясь существовать за счет грабежей и убийств. Волки также сравнивались с бандитами, и даже слово vargr, "волк", официально применялось к человеку, объявленному вне закона. Лапп Тури отождествлял волков с ворами. Он говорит, что в давние дни шаманы превращали себя в волков, и им это было легче делать, когда они убивали ни в чем не повинных людей, подобно тем русским, которые, явившись в земли лопарей, принялись грабить и убивать, пока при помощи улдов, или духов, их не превратили в волков и не выгнали обратно: "…и вернулись они назад в Россию, и поэтому так много волков там, и волки эти такие свирепые, что поедают людей".
Интересно отметить перевернутость этого процесса, когда души злых людей вселяются в животных вместо обычного вселения духа зверя в человека. Тури утверждает, что существуют доказательства того, что некоторые волки прежде были людьми: "…Такими доказательствами могут служить найденные в волчьих логовах (в их отсутствие) принадлежащие людям вещи… кремни, огнива и трут, а также серные чашки".
В отличие от медведя, противника благородного, волк злобен и коварен. Тури уверен, что он способен так подействовать на пулю, что она пройдет мимо цели, и может усыпить выслеживающих его людей. Он, говорит Тури, обладает силой одного человека и хитростью девяти, и, чтобы охота на него удалась, надо знать его имена на всех лапландсних диалектах и держать в голове девять способов его поимки, прибегнув к десятому.
Такое представление о волке типично для пастуха и охотника, страдающих из-за его нападений на оленей и скот, так что отождествление хитрых воров и бандитов с волками выглядит вполне естественным. А сделать от этого следующий шаг и увидеть в особенно хитром волке человека в волчьей шкуре не сложно. В век викингов волк являлся на поле битвы и вместе со стервятниками пировал среди мертвых тел, что делало его образ еще более зловещим. В связи с этим заметим, что сказать в те времена удачливому воителю, что он дал пищу волкам, было большим комплиментом. Все это помогает понять смысл, которым наделялся символ волка в снах. Приснившаяся волчья стая означала надвигающихся врагов, причем иногда среди них находился медведь, символизирующий предводителя.
В средние века существовал большой интерес к толкованию снов. В Исландии были известны латинские сонники, но когда наступающие войска представлялись стаей из 18 волков, предводительствуемых ловкой лисицей (колдуном при войске) или огромным медведем, выходящим из дома вместе с медвежатами, то такое толкование, скорее всего, имеет местное, скандинавское происхождение. В "Саге о Харвардаре" говорится, что волчьи образы в снах – это хугир (hugir) людей. О медведе, который описывается как благородный зверь, не имеющий себе равных, в "Саге о Ньяле" говорится как о фильджа (fylgja) Гуннара, благородного героя, приходившегося Ньялу близким другом. В "Саге о Льесветнингах" брат могущественного вождя Гудмунда увидел во сне, как великолепный величественный бык вошел в зал и упал замертво у высокого кресла Гудмунда, предвещая его смерть, и опять слово fylgja здесь используется для обозначения символического животного.
…Наряду с таким взглядом на видения в образе животных существовало представление о являющемся ясновидящим или в снах животном-защитнике или друге, отразившееся в поверьях, связанных с душой и духами, бытовавших в дохристианские времена среди лопарей и многих других финно-угорских народов Северной Европы и Азии. В XVII веке Форбус в своем труде, посвященном лопарям и их верованиям, упоминает о Nemoqvelle, передаваемом ребенку при рождении его отцом и полученном им в свое время от его отца: "…и вместе с именем ребенок также получает Nemoqvelle, которое часто проявляет себя и идет перед ним вблизи озер и морей".
Это слово происходит от саамского Namma-Guelle, означающего "рыбье имя", и его дают ребенку, чтобы оно защищало его от злых сил на протяжении всей жизни. Упоминание озер и морей подразумевает рыбу, которую можно увидеть в воде, но лопари также верили и в духов животных, обитающих в воде. Но, как говорится в миссионерских записях 1726 года, вера в таких духов была распространена не у всех саами, а лишь у незначительной их части, у тех, что жили на востоке. У других северных народов были иные названия сопровождающих духов: у остяков (хантов) это jepil, дух, будто бы возникающий в виде тени; у вогулов и зырян (коми) – urt или ort, якобы живший вместе с человеком, которого он охраняет; у лопарей был kadz, и считалось, что каждая семья, хотя и не обязательно каждый ее член, имеет такого духа. А норвежские лопари верили, что охраняющий дух подчиняется noidi, или шаману, и может принимать облик животного, рыбы или птицы. Здесь мы подошли к тому, что связано с понятием fylgja в сагах. Есть предположение, что оно имеет отношение к слову Onfulga, означающему тонкое покрытие или оболочку, и могло применяться для обозначения плаценты, как в современном исландском. Слово ham на некоторых норвежских диалектах тоже может использоваться для обозначения как плаценты, так и кожи. Основное же значение слова fylgja – "следовать", и, каков бы ни был его первоначальный смысл, это понятие, нет сомнений, укрепляло представление о существовании у человека духа, который следует за своим владельцем, куда бы он ни направлялся.
Шаманское устное наследие у саами и других финно-угорских народов содержит множество историй, в которых оберегающие духи шаманов сражаются под видом животных. У лопарей это обычно олени, но могут быть и быки, киты, рыбы и разные другие существа, причем трудно понять, духи ли это самих шаманов, отправившиеся в иной мир в то время, как их тела остались лежать в коме, или же это духи, которым они покровительствуют. Эпизод с медведем в "Саге о Хрольве", бившемся на поле боя в то время, как Бодвар сидел в своей палатке, представляет собой пример такого "животного" – духа. Считалось, что этих духов можно использовать для того, чтобы причинить кому-то вред, и говорят, что русские лопари (группа саамов) до сих пор верят, будто злой noidi может принимать обличья медведя, волка, змеи или хищной птицы и отправляться за указанными ему жертвами.
…Самые впечатляющие истории, несомненно, связаны с превращениями в диких животных. В некоторых из них люди обращаются в диких свиней, но эти эпизоды имеют иной характер, чем эпизоды с превращениями в волков и медведей. Зверь очень сильный и довольно свирепый, кабан всегда ассоциировался с противоборством, со схваткой, и его изображение носили на шлемах, ножнах и мечах, а у германцев и скандинавов было принято боевое построение, из-за его конусовидной формы именуемое "свиньей" или "кабаньей головой", с передней частью, называемой "рыло", где находились два лучших воина, возглавлявших атаку. В сказаниях к превращениям в борова или свинью прибегают как к средству, чтобы вызвать отвращение у врагов и избежать их нападения, как, например, в рассказе о колдуне, который стоял в образе борова на страже и с приближением врагов разбудил находившихся в доме людей…
Полагаю, следует отметить, что не существует преданий или сказок, в которых люди превращались бы в лошадей. Локи (в скандинавской мифологии бог, который иногда вступает во враждебные отношения с другими богами, насмехается над ними, проявляя свой злокозненный характер, хитрость и коварство. – Ред.) обращался в кобылу, но предположить, что такой-то человек может последовать этому примеру, значило смертельно оскорбить его. Это было бы равносильно предположению, что этот человек способен на какие-то недостойные, отвратительные действия. Подобное оскорбление можно было нанести лишь возведением для этого человека позорного столба с деревянной лошадиной головой наверху – такой столб ставили, когда хотели призвать позор и несчастья на голову какого-либо злодея, для чего на лошадиной голове вырезали соответствующие руны. Мотивы этого обычая слишком сложные, чтобы их здесь рассматривать, и, хотя они имеют отношение к связанной с животными магии, они уведут нас в сторону от обсуждения непосредственно превращений.
Создается впечатление, что, как правило, эпизоды с превращениями в сагах рассказывались не "взаправду", хотя события, на фоне которых они якобы происходили, вполне возможно, имели место. Эти эпизоды служат художественным целям, внося в саги элемент фантазии, разжигая воображение слушателя и вызывая у него смех или страх, в зависимости от желания рассказчика. Но своими корнями, конечно, они уходят в народные предания. Вернер, рассуждая на тему возникновения у германцев личных имен, идущих от названий птиц и животных, приводит на этот счет две противоположные гипотезы: согласно первой, эти имена должны были приносить удачу, если судить по особым качествам носящих их зверей, а по второй – их давали из-за того, что эти имена часто встречаются в героической поэзии. Не может быть так, говорит он, чтобы обе теории оказались верными, но я, со своей стороны, не вижу, почему бы и нет. Очевидно, давность традиции использования в поэзии имен, связанных с животными, помогает выделить те особые качества, которые связывались с тем или иным зверем или птицей и которые, как считалось, были необходимы бойцу, и, давая их, надеялись придать будущему воину дополнительную силу, привлечь к нему удачу.
Корни воинского эпоса, а также охотничьей магии покоятся в очень далеком прошлом германцев, и вдохновляющим фактором на создание лучших историй с превращениями были дикие звери, обитавшие на севере Германии и в Скандинавии, а широкое распространение представления о духе-защитнике, существовавшее у финно-угорских народов, а также у многих других, должно было способствовать и распространению народных сказаний о людях, принимающих звериный облик. Выражениям, имеющим метафорический смысл, вероятно, давали в повествованиях буквальное толкование, а наивные верования, облекаемые в художественную форму, могли использоваться умелыми рассказчиками для выражения каких-то глубоких мыслей. Эти выражения и верования возникли благодаря тому, что люди далекого прошлого жили среди природы в непосредственной близости к миру животных, ощущая его неотъемлемой частью своего мира, и, являясь по большей части охотниками, имели широкие познания об их жизни, постоянно наблюдали за их поведением. Поэтому они всегда были готовы пугаться, забавляться или обманываться рассказами о людях, становящихся зверями, а сказители, как нынешние авторы, пишущие в жанре популярной литературы, выдавали своей аудитории то, что она желала…
Среди историков господствует мнение, что прокатившиеся по Европе в XVI и XVII веках массовые охоты на ведьм явились, по крайней мере частично, результатом верований, уходящих своими корнями в раннее средневековье или даже еще глубже. Такое предположение вряд ли кого-нибудь удивляло, т. к. большинство ученых, вполне естественно, привыкло смотреть на период зарождения культуры нового времени как на эпоху появления светского гуманизма и развития наук.
Однако в результате недавних исследований трактовка охоты на ведьм как последнего мрачного проявления средневекового духа потеряло свою убедительность. В ходе изучения причин антикодцовских истерий ученые находили все больше и больше оснований для того, чтобы считать их виновниками не жертвы, а самих охотников. Правда, эти исследования были ограничены в основном социальным аспектом проблемы. Исследователи больше интересовались тем, как люди пользовались обвинениями в колдовстве для борьбы с определенными социальными группами, чем тем, почему они считали ту или иную категорию людей одержимой колдовским умыслом, и здесь я хотел бы обратиться именно к этой стороне проблемы и в порядке гипотезы предложить такую идею: революция научной и особенно медицинской мысли, характеризующая поздний Ренессанс и являющаяся враждебной по своей сути и духу вере в колдунов и ведьм, фактически создала предпосылки для начала охоты на ведьм, стала ее главной движущей силой на протяжении двух столетий, когда эта мания и "новая наука" так странно сосуществовали.
Как же революция в медицине могла спровоцировать охоту на ведьм? Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует коротко ознакомиться с достижениями медицины в конце эпохи Возрождения. То было время, когда Андреас Везалий (1514-1564), естествоиспытатель, основоположник анатомии, и его современники открыли, что многое в анатомии и физиологии Галена из того, что врачами средних веков считалось непреложными истинами, оказалось неверным. Эти открытия явились следствием широкого исследовательского движения, в ходе которого были обнаружены значительные несоответствия между существовавшей медицинской теорией и фактами. В средние века относящиеся к области медицины факты, если и могли временами поставить под сомнение правильность того или иного диагноза, всегда подтверждали медицинскую теорию в целом.
…В конце XV века правильность этого замкнутого и самодостаточного медицинского учения была впервые поставлена под сомнение. Впервые со времен античности стали широко известными медицинские данные, говорившие явно не в пользу галенизма. Их появление объяснялось многими факторами, включая возрождение неоплатонизма, распространение литературы по медицине после изобретения книгопечатания, улучшение организации деятельности медиков и появление новых болезней, завезенных из Азии и Нового Света. Все эти обстоятельства создали ситуацию, когда не только греко-римская медицинская система столкнулась со значительными проблемами благодаря новым, хорошо установленным данным, но и когда врачи, имеющие собственные идеи, получили возможность находить факты, подтверждающие либо опровергающие их. Неизбежным следствием такого нового, более "научного" подхода было постепенное изменение средневековых медицинских воззрений. Средневековый галенизм становился все более громоздким и нескладным по мере того, как один теоретик за другим дополнял и изменял его несложные положения, с тем чтобы привести это учение в соответствие со столь значительно изменившейся ситуацией в медицине. В конечном счете на передний план вышли новые теории, совершенно противоречащие положениям старого учения.
…Однако рост внимания, которое медики стали уделять особенным патологическим состояниям, связанный с неспособностью существующей медицинской теории к развитию или достаточно быстрому изменению в соответствии с тем, чтобы давать подходящие объяснения всем новым фактам, означал, что врачи стали сталкиваться с многочисленными проявлениями недугов, симптомы которых были так необычны или "не правильны", что они не могли отнести их к каким-либо уже известным классам болезней и, следовательно, назначить средства лечения. Как следовало врачу поступать в такой ситуации? Какое объяснение он мог дать подобному недугу? И Жан Фернель выдвинул утверждение, и большинство медиков в следующем столетии согласились с ним в этом, что такие болезни имели противоестественную и сверхъестественную причину и являлись результатом вмешательства дьявола, и врач, чья теория болезней всецело основывалась на естественном, не мог искать их причины, лежавшие, стало быть, за его пределами, вне сферы материального. Лечить же насланные дьяволом недуги медику и не было должно. Самое лучшее, что он мог сделать в этом случае, – это сообщить о нем светским и церковным властям, которые, считалось, одни могли принести такому заболевшему реальное облегчение.
Средневековая медицина не создала надежного барьера между этим миром и тем, люди то и дело умирали от болезней и несчастных случаев, казавшихся фатальными, но она, по крайней мере, давала сравнительно простое и вполне для того времени естественное объяснение причинам страданий людей и их смертей. Медицина указывала причины большинства недугов, для большей части болезней предлагала средства. Безуспешность лечения объяснялась не недостатками медицинского учения, а слабостью человека перед божественным промыслом.
Но с началом XVI века эта система медицинских взглядов стала давать трещины. Раскол, по выражению одного антрополога, возник "в зоне стабильности", содержащей "сектор хаоса". Часть медиков, например Парацельс, Везалий, Уильям Харви, расценивали вскрывшиеся слабые места учения как шанс для того, чтобы разрушить эту старую систему и создать новую. Но многие – и их, видимо, было большинство – видели в этих прорехах окна в ужасающий первозданный хаос снаружи. Они представлялись им не стимулом для новой творческой деятельности, а пугающим напоминанием о слабости и ограниченности человека в его противостоянии окружающей природе, и свидетельствовали о том, что, если люди заболевали неизвестным или каким-то странным недугом, им не следовало ждать какой-то помощи от врачей. Какие-то болезни, очевидно, выставляли человека под воздействие неупорядоченного и потому неконтролируемого мира. Результатом разрушения медицинской системы, в которой общество видело защиту от болезней и смерти, явилось значительное увеличение гнета страха пред ними, часть которого европеец прихватил с собой в новое время.
Но, показывая свое бессилие перед необычными болезнями, медицина вместе с тем усиливала свое влияние в другом. Многие недуги в средние века, которые имели хорошо известные симптомы, но как-то традиционно связывались с демонами и колдовством, как, например, импотенция, эпилепсия, ночные кошмары, постепенно переставали s считать естественными. По средневековым источникам трудно понять, являлся ли взгляд на такие болезни как на имеющие демоническое происхождение широко распространенным среди врачей, или это было лишь мнение немногих. Возможно, что медики просто отдавали своеобразную дань уважения народным поверьям. Большая часть сохранившихся классических трактатов по медицине, тех, что до сих пор продолжают использоваться, свидетельствуют, естественно, не в пользу подобного подхода к причинам болезней. Более того, даже когда под подозрение попадал дьявол, средневековый врач не отказывался от применения естественного лекарства, искренне надеясь, что оно поможет его пациенту. В этом отношении к демоническому в болезни медики средневековья совершенно отличались от своих коллег начала нового времени. Врачи XVI и XVII веков нередко принимались за лечение странных и необычных недугов, пользуя каждый симптом в отдельности, не пытаясь, да и реально не будучи в состоянии лечить болезнь как целое. Более того, в своей массе они, судя по всему, вообще не были уверены, что какие-то лечебные средства в таких случаях окажутся эффективными. А английский врач Джон Котта утверждал, что заболевание следует считать порожденным демоном, прежде всего "…когда естественные лекарства или лечебные средства, примененные согласно рецепту, либо странным образом утрачивают свою целительную силу, не оказывая никакого действия, либо вызывают эффекты и последствия, не предполагаемые их природой или противные ей".
Похоже, теория медицины в период начала нового времени постепенно изменялась в соответствии с тем, чтобы, по крайней мере, допускать возможность существования новой, дьявольской разновидности болезней. Но на самом ли деле это изменение существенно повлияло на возникновение оснований для гонений на ведьм? Многие историки скажут – нет. Конечно, наверное, трудно представить такой несчастный случай или недуг, настолько естественный или, наоборот, чересчур неестественный, что его нельзя было бы принять за колдовские козни. Когда умирала кобыла или скисало пиво, когда человек налетал на плетень или даже когда сливки не сбивались в масло, люди видели проявления колдовства. Мы обнаружили примеры подобных подозрений в средние века, в новое время и можем наблюдать их в Западной Европе сегодня. Но подозрения такого сорта, как правило, не приводили к суду и редко выливались в осуждения и наказания колдунов. Именно заболевание или смерть вызывали обычно обвинения в колдовстве, что, как правило, находило у других людей поддержку и представляло собой достаточное основание для судебного преследования.
Но нельзя, конечно, сказать, что любая болезнь или смерть предполагали начало расследования. В отличие от образцового случая с отравлением ядом азанде, описанного Эвансом Притчардом, причины большей части болезней и смертей в Европе начала нового времени вполне могли быть описаны в терминах естественного. Пандемические и эпидемические заболевания так же, как и немочь от старости или несчастного случая, редко приводили к нападкам на ведьм. Но недуг, не отвечающий обычным нормам и казавшийся странным или вызывающий необычную реакцию на стандартные средства лечения, часто разбирался судом как результат колдовства. Критик охот на ведьм Джон Гол язвительно заметил в адрес их гонителей, что "всякая болезнь, причину которой они не понимали и с симптомами которой не были знакомы, могла быть воспринята как плод колдовства". Я полагаю, что существовал стереотип "насланной" болезни, а не стереотип образа ведьмы, как часто предполагалось, который и стимулировал эти гонения. Европейское общество на самом деле не пыталось изгнать из своих рядов определенный сорт людей, но занималось отысканием "распространителей" определенной разновидности болезней. Говоря о европейском обществе, я не хочу сказать, что во всех его слоях и во всех регионах отношение к ведьмам и колдунам было одинаковым, – отнюдь нет. Очевидно, что людей образованных и в силу этого активно участвующих в культурном прогрессе, в котором революция в медицине составляла лишь небольшую часть, и всех остальных разделяла огромная пропасть. Это разделение порождало в ходе прогресса немало коллизий, т. к. недавние исследования показали, что средний европеец – это крестьянин – был значительно более осведомленным об изменениях в научной медицине, чем это считалось до сих пор. Среди сельских жителей было немало таких, которые хотя бы отчасти были знакомы с традиционными средствами и приемами лечения, и медики с университетским образованием всегда жаловались на вынужденное соревнование с этими знахарями. В целом же безграмотные и бескультурные врачеватели, заполнившие все уголки Европы, были столь многочисленны и столь неудержимы в своей деятельности, что реально не только затмевали рассвет всего передового и истинно образованного, но и гасили повсюду сам свет разума и здравого смысла.








