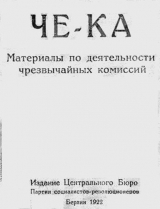
Текст книги "Че-Ка. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий"
Автор книги: Виктор Чернов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Как бы ни были основательны эти подозрения и как бы ни была велика вина арестованных, все же спрашивается, неужели советская государственность сильно бы пострадала, если бы арестованным дали возможность взять с собою вещи и не заставляли их жить целый месяц, не умываясь, спать, не раздеваясь и дрогнуть по ночам в летних парусиновых кителях! А кому нужна эта изысканная садическая жестокость, – заставить жен и матерей целые недели томиться муками неизвестности, с утра до ночи ходить по Ч. К. и по всем и всяким местам заключение разыскивать своих близких, падать в обморок, изнемогать от усталости и приходить в полное отчаяние от бесплодности всех этих попыток.
Нужно быть справедливым и нужно открыто и прямо признать, что палачи самодержавия таких бессмысленных, таких ненужных мучительств и в таком громадном количестве не проявляли.
А в местностях, где недавно проходил фронт или где вспыхивало повстанческое движение – еще хуже. Там в лесах оставались или в селах прятались бывшие повстанцы. Когда все успокаивалось и жизнь входила в норму, органы советской власти объявляли амнистию тем из повстанцев, которые добровольно явятся на регистрацию. Попутно начиналась агитационная кампания о том, как важно возвратиться к мирному труду, как необходимо забыть прошлое и зажить новой жизнью.
Советская власть не помнит зла. Советская власть проявит великодушие, присущее трудящимся. Не верьте подлым провокаторам, которые в своих преступных замыслах распространяют клевету о том, что это ловушка.
«Зеленые», измученные невзгодами нелегального существования и жаждущие отдыха, после долгих колебаний начинают сдаваться, сперва нерешительно, по одиночке, а потом все большими группами. Первоначально их не трогают, а потом, когда наберется значительная группа, их всех арестовывают и начинается расправа. Эти штуки по одному и тому же образцу, повторяются в самых различных губерниях.
В Крыму, после того как работа по извлечению «бело-зеленых» была проделана местной властью, появилась полномочная комиссия ВЦИК-а, под председательством Ибрагимова, которая развернула широкую агитационную кампанию по части того, что никакого обмана нет, и что никто и нигде не посмеют схватить амнистированного, которого не кто-нибудь, а сама «полномочная комиссия В. Ц. И. К.-а»освободила от наказания. Остатки «зеленых» потянулись с гор. Их любезно встречали, выдавали им разрешение на проезд на родину или любое место, снабжали пассажирскими билетами и даже продовольствием на дорогу. Счастливые, радостные садились они в поезд, но на станции Синельникове или на Лозовой, или в Харькове их арестовывали, отбирали документы «полномочной комиссии», зачастую отнимали весь багаж, и отправляли в какую-нибудь Ч. К. В августе и сентябре в В. Ч. К. на Лубянке, 2. и в Бутырке можно было встретить не один десяток арестованных, попавшихся на удочку «полномочной комиссии ВЦИК-а– под председательством товарища Ибрагимова»…
Извлеченных подобным способом повстанцев и иных ненавистников пролетарской революции, если не расстреливают немедленно, то отправляют в Архангельские и иные лагеря, достаточно удаленные от их родины.
Допустим, что все эти сведения о том, что арестованных посылают на тяжелые лесные работы в отвратительные болотистые места; что их держат в суровом или в сыром климате без соответствующей одежды; что за отсутствием ли лошадей или в целях издевательства на людях возят тяжелую кладь, в том числе и нечистоты; что обращение грубое и вход пускают зуботычины и приклады; что больных почти не лечат и т. д. и т. д. – допустим, что все это не только преувеличено, но и целиком выдумано. Но уже один тот факт, что взрослым здоровым людям и на тяжелой работе выдают в день по пол или по три четверти или даже по одному фунту хлеба да по два ковша пустой зловонной баланды, уже один этот факт делает понятной жуткую трагедию северных и иных лагерей, где больные, часто обращаются к врачу только с одной просьбой; доктор, ради Бога, дайте яду!
Но и без яду смертность в этих лагерях колоссальна. А окружающая действительность так неприглядна, что молодые, еще недавно жизнерадостные люди умирают лишь с одним поздним сожалением:
– Отчего нас сразу при аресте не расстреляли?
А. Бекреньев.
Год в Бутырской тюрьме
Всего лишь год и то неполный… а сколько воспоминаний, образов, сколько лиц, сколько жизней и смертей!
На воле ходили всякие слухи о жизни в Бутырках. Одни расхваливали и питание, и отношение, и общий режим, другие – «видавшие виды» и тюрьмы в царские времена – наоборот, рисовали ужасы какого-то мрачного застенка, Только, попав сюда, понял я, что правы обе стороны.
Чтобы это было понятнее, нужно остановиться несколько подробнее на общей организации тюрьмы, на ее администрации и порядках, в ней царивших.
Все арестованные сидели покамерно, под замком, изолированные друг от друга. Скученность и переполнение камер, как всегда в Бутырках, были невероятны. При комплекте штатных мест в 1900–2000 чел., набиралось до 2 1/ 2—3 и 3 с пол. т., так что заключенным приходилось спать и на полах, и на столах, и в проходах, а временами даже в коридорах. Пища состояла из 1/ 2ф. хлеба, отвратительной баланды на обед и жидкой кашицы на ужин. Изредка выдавалось по селедке. Количество передач на одно лицо в неделю было ограничено. Не в меру ретивая комиссарская часть администрации часто пыталась вмешиваться даже в качество передач и все покушалась завести общий котел для передач, чтобы демонстративно ущемить «буржуя». Отопление в тюрьме не действовало – железные печурки еще не были изобретены – сырость в камерах была невероятная, водопровод замерзал и не подавал воды, равно бездействовала и канализация. Насекомые кишмя кишели и покрывали зачастую серой пеленой вещи и несчастных арестантов.
Таково было положение простого смертного без средств, без родственников, без связей и «необоротливого». Прибавьте к этому грубое обращение администрации, постоянную угрозу попасть в карцер или лишиться права хоть раз в неделю при получении передачи до сыта наесться – и станет понятен тот ужас, который вставал в душе человека при воспоминании о Бутырской тюрьме.
Совсем в другое положение попадали люди со связями, средствами и вообще «оборотистые». Они пристраивались в кухню, в больницу, к приемному покою и канцелярии тюрьмы, к каким-нибудь работам по тюрьме или в привилегированные камеры, коридоры. Тут жилось действительно вольготно и привольно. Шла торговля продуктами, игра в карты «по крупной»; из арестантских пайков исчезали и отправлялись на Сухаревку целые транспорты вещей и продуктов; из дому доставлялись посылки, вещи, чуть ли не мебель, не говоря уж о спиртных напитках; за хорошую плату и при уменье устраивались свидания при общих запрещениях их; арестованные отпускались даже домой на побывку с конвоиром, который на этом тоже зарабатывал.
И все эти обходы тем легче было устраивать, что по существу говоря не было никаких тюремных правил и инструкции, не было чего-либо подобного единой власти, не было никакого порядка. В тюрьме распоряжались все и никто, и власть в распыленном состоянии оказывалась у того в руках, кто имел сильнее поддержку в МЧК, в ВЧК или же в каком либо ином подобном же учреждении.
Во главе тюрьмы стоял комендант, но рядом с ним был и комиссар, его помощник; не меньшее значение имел и председатель коммунистической ячейки; мог распоряжаться и распоряжался иногда пресерьезно начальник военного караула. А затем шли бесчисленные помощники коменданта, заведующие корпусами, старшие отделенные… Все они собирали мзду, все пользовались «безгрешными» и грешными доходами с арестантского котла, все должны были поэтому делать всяческие поблажки отдельным категориям арестованных, работающим возле источников дохода, и приобретать репутацию «боевых» чекистов за счет утеснения среднего ничем не выдающегося арестанта, за счет интеллигента и тем более за счет титулованных, ни не состоятельных представителей старого режима. Паническое настроение среди последних вполне объяснялось бесконечными расстрелами, унижениями и оскорблениями, которые они перенесли, и переносили, а полное отсутствие товарищества в их среде и их дряблость, делали из них великолепный материал для лихих набегов боевого начальства.
Среди всей этой плеяды высшего начальства отличались комендант Ляхин, его помощник Каринкевич и председатель Комячейки безграмотный (буквально) Линкевич.
Безвольный, неинтеллигентный, грубый, но по-видимому не вор, Ляхин проявлял свое присутствие в тюрьме только набегами на «губернаторскую» камеру, где неумно издевался над обалдевшими от страха бывшими администраторами, да еще усердным поощрением внутреннего шпионажа и предательства. У него была целая свора разбросанных по всем коридорам негодяев, которые всяческими доносами на соседей, неизменно заканчивавшимися клятвами в верности советскому строю, искупали свои, по большей части, уголовные преступления, за которые по практике трибуналов полагалось: «к стенке». И не было случая, чтобы эта служба Ляхиным не оценивалась и не оплачивалась рядом льгот как в тюрьме, так и на суде.
Неорганизованная, запуганная – ведь это был только второй год существования Советской власти – масса в тюрьме не предпринимала никаких мер для борьбы с этим злом. Все эти доносчики называли себя коммунистами и зачастую принимались в члены Комячейки служащих (один из них даже очутился ее председателем) и, ничуть не стесняясь своего ремесла, легко шантажировали окружающую массу, получая от нее «и печеным и вареным» лишь бы только чего не выдумали и не донесли. И сколько расстреляно людей ни в чем неповинных, лишь по доносу этих мерзавцев!
Из того весеннего периода, в который я попал в Бутырки, мне хочется привести несколько примеров.
Вот мусульманин Даянов. Он был каким то комиссаром по мусульманским делам. Арестовали его за чрезмерные поборы со своих единоверцев, за обыски и конфискации по подложным ордерам и за другие подобные художества. А вот его приятель и конкурент по доносам, который в конце концов и подвел его под расстрел, донской казак Бортников. Он арестован был не то в Орше, не то в Смоленске, где в пьяном виде подстрелил товарища, бегал по городу с криками «бей жидов, спасай Россию». Являлся в арестное помещение и требовал выдачи ему «для забавы» двух арестованных девушек. Обвинительный акт глухо умалчивал о том, были ли ему выданы девушки и что он с ними сделал, но, в конце концов, его на следующий день арестовали и привезли в Москву.
Это было грубое животное 22–25 лет, которое сразу смекнуло, что, играя на слабой струнке Ляхина и вообще всей власти, можно выпутаться. И начал он строчить безграмотные доносы на «политических» на «князей и графов», напирая на свою преданность рабоче-крестьянской власти и на свое крестьянское происхождение. И как ни примитивно грубо и явно вымышлены были его доносы, как ни был скомпрометирован он своим лозунгом «бей жидов и проч.», он все же оказался прав. Трибунал приговорил его к расстрелу, но приговор по ходатайству коменданта был приостановлен исполнением; грубо просимулировав припадок падучей, он без заключения врачей, был переведен комендантом в лечебницу, откуда и бежал.
Несомненно, этот «преданный слуга Советской власти и коммунист до гроба» (так подписывал он свои доносы) и по днесь преуспевает в качестве такового где-нибудь в провинции и усердно насаждает коммунизм в боевых органах власти. Кроме выдачи своего конкурента Даянова, он способствовал составлению того ужасного списка контрреволюционеров, который при первом случае применения массового террора был ликвидирован расстрелом.
К сожалению, в Бутырской тюрьме и в других канцеляриях чеки из-за хаоса и беспорядка никогда не удастся узнать досконально, сколько невинных жизней выменял Бортников на свою.
II.
Вот в эту то тюрьму, представляющую наверху сложный клубок сплетен, интриг, воровства, взаимного подсиживания и самодурства и море страданий, унижений, предательства, наушничества, запуганности внизу, в арестантской массе, влилась свежая организующая струя.
В конце марта 1919 г. и начале апреля в тюрьме появились компактной массой в 150–200 чел. Социалисты– С.-Р. и меньшевики, на которых тогда обрушился всей своей тяжестью аппарат чеки. До тех пор социалисты попадались среди арестованных отдельными единицами, по случайно выхваченным делам, и обычно после 2–3 месяцев сидении без последствия освобождались. На этот раз и количество арестованных и объем арестов и тон советской прессы ясно говорили, что начат организованный поход власти против социалистических партий, как таковых, с целью разрушения их организаций. Было очевидно, что отныне категория арестантов-социалистов становится постоянной. Началась тяжелая и мучительная, глухая борьба с обструкциями, голодовками, скандалами и проч. давно знакомыми средствами…
Огромному большинству по годам царизма – знакомая картина.
В мою задачу не входит описание всех перипетий этой поистине мучительной борьбы, всех ее этапов, всего поведения властей, переходивших от стрельбы по камерам социалистов, избиения отдельных заключенных и массовых избиений к системе развозов по провинциальным тюрьмам, рассеивания социалистов по окраинам. Не буду останавливаться и на зубатовских попытках приручения социалистов путем предоставления этой категории арестованных всяческих льгот и преимуществ, вплоть до временного устроения в тюрьме того «социалистического Эдема», который с такой гордостью описывал в 1921 году Мещеряков в «Правде». Все это очень интересная и поучительная история, которая нуждается в самостоятельном описании.
Я хочу остановиться только на одном эпизоде, который необходимо дополняет общую картину настроений и атмосферы в тюрьме.
Ввиду начала распространения эпидемий (испанка, желудочные заболевания, надвигающийся сыпняк) несколько коридоров были отведены под карантин, куда сажали на две недели всех вновь поступающих. Это само по себе разумное мероприятие в хаосе и развале, царивших в тюрьме, превращалось в очень мучительное осложнение для долгосрочных сидельцев. Достаточно быть вызванным на допрос «с вещами по городу» – таков был технический термин, – чтобы попасть в карантин. А в карантине грязь и неустроенность достигали гомерических размеров, так как никто из арестованных особенно не заботился о содержании в порядке помещения, в котором предстоит провести лишь две недели. Да и что можно было сделать когда скученность при бесконечных массовых арестах в карантине переходила все пределы.
Состав заключенных был наиболее пестрый и наиболее неорганизованный, количество «преданных коммунистов» было там всегда самое внушительное, администрация наиболее грубая обворовывавшая арестованных, кашица и баланда наиболее жидкие, а недовес пайка хлеба самый откровенный. Если в тюрьме жилось плохо, то в карантине был настоящий ад.
Социалисты упорно добивались, чтобы их не вызывали на допросы, чтобы следователи приезжали в тюрьму допрашивать, не желая по несколько раз проходить эти мытарства и терять свои места в так или иначе оборудованных ими некарантинных камерах.
Один из них т. Быхов по возвращении с допроса в тот же день потребовал возвращения его не в карантин, а в старую камеру на 18 кор., в которой поселились с. – ры. Администрация заупрямилась и направила его в карантин. Он идти отказался. Тогда его потащили силой через весь двор на глазах его товарищей, наблюдавших за всеми перипетиями борьбы через окна. Началась обструкция. Старый каторжанин с.-р. Иван Коротков, человек огромной физической силы, с могучей глоткой, принялся вышибать дверь. Шум и рев поднялись невероятные.
Ляхин растерялся и исчез из тюрьмы и передал все дело своему помощнику Каринкевичу, а тому только это и надо было, так как он давно точил зубы на социалистов, все добиравшихся до контроля за пекарней, кухней и прочими источниками огромных доходов администрации.
Каринкевич ввел вооруженный отряд во дворы тюрьмы и с криками «стреляй их в мою голову», с приправой непечатной ругани принялся регулярно обстреливать те коридоры, откуда доносился шум обструкции. Началась дикая, беспорядочная пальба по 18, 6 и 7 коридорам и женским и мужским одиночкам. Тюрьма замерла… Лишь из социалистических камер доносилось глухое пение революционных песен. Это товарищи, заслонившись от пуль койками, продолжали обструкцию. Тогда чекисты взобрались на выступы стен (18 коридор в первом этаже) и, вставив, дула револьверов в открытые окна, с непечатной бранью начали обстреливать с. – р'овскую камеру, ища «башку лысого» (Коротков брил голову), чтобы ее размозжить.
Только благодаря тому, что догадались во время потушить огонь, этот обстрел обошелся без жертв.
Эта первая массовая попытка борьбы и шум, ею поднятый на воле, повели к тому, что в Бутырскую тюрьму пожаловало высокое начальство: Комиссия Московского исполкома – Каменев и др.
Началось некоторое развинчивание тюрьмы, планомерная борьба за соединение всех социалистов в одном коридоре с более свободной конституцией, упорядочение карантина и вытеснение «коммунистов» тоже на особый коридор – «коммунистический». Последний повел теперь организованную борьбу за подчинение ему всего хозяйства и администрации тюрьмы и подавал коллективные доносы.
Так было, если не совсем устранено, то значительно ослаблено зло шпионажа и доносничества.
Ляхин ушел, Каринкевича понизили и он присмирел. Кухня, околодок, пекарня, отчасти починочная мастерская стали доступны для работ социалистам.
Обыски у прежних поваров и пекарей открыли прямо груды денег, бриллиантов, бутыли спирта, целые гардеробы костюмов, сапог. И все это было накоплено на доходы из арестантского котла.
Пища, конечно, улучшилась, условия физической жизни стали более сносными.
Зато надвигался другой ужас, перед которым бледнели все тяготы и лишения. С юга надвигался Деникин, росло количество раскрываемых заговоров и учащались расстрелы.
III.
Уже с марта 1919 г. в Бутырскую тюрьму начали свозить из Московских лагерей и из других городов видных представителей старого режима и титулованной знати, уцелевших после первой волны массовых расстрелов в сентябре – октябре 1918 года.
К лету 1919 года в Бутырках очутились: Министр внутренних дел Макаров, командир Отд. Корпуса жандармов Д. Н. Татищев, личный друг Николая II флиг. капитан А. А. Долгорукий, два брата – близнецы Бобринские, вице-губернатор какой-то Сибирской губ Нарышкин, два юных офицерика Коновницыны, Министр Земледелия Кутлер, Московский губернатор Джунковский, обер-прокурор Синода Самарин, несколько архиереев, редактор «Земщины» престарелый Глинка-Янчевский, полупарализованный старик Иркутский, Генерал-губернатор Князев, брат адмирала Скрыдлова – генерал Скрыдлов с сыном и женой, обвинитель по делу Бейлиса прокурор Виппер, ген. Зубков, жандармский полковник Чернявский, и Галицийский ген. губернатор Евреинов, представители польской, датской, шведской, английской и других миссий.
Были тут и осужденные по отгремевшим уже и ликвидированным процессам 1918 года (дело Локарта, дело Виленкина и др.) В огромном большинстве это были старики, опустившиеся, зачастую потерявшие всякий человеческий облик, обовшивевшие, истощенные и изголодавшиеся люди, буквально валившиеся с ног от слабости и всего перенесенного. Они дрожали перед каждым надзирателем, не говоря о высшем начальстве, с чисто животной жадностью набрасывались на пищу, которую им часто отдавали сердобольные соседи и вообще представляли из себя картину такого разложения и такого маразма, что становилось понятным, почему тот нарыв на организме России, который назывался самодержавной бюрократией, так безболезненно и просто прорвался. Некоторые были прямо отвратительны в своем стремлении отречься от всего, чем они жили и что исповедывали всю жизнь, в поисках благовидного объяснения, почему они служили в жандармах, шпионах, провокаторах, почему они проповедовали антисемитизм или организовывали погромы. Большинство пыталось свалить вину за все это друг на друга или на уже погибших у «стенки» деятелей прежнего времени. Все они горячо ненавидели былого «обожаемого монарха»; иные поприличнее просто избегали говорить о своей былой деятельности.
И только один из немногих выгодно отличавшихся, как сохранением своего достоинства, человеческого облика, так и открытым исповедыванием монархических идей – был бывший Министр внутренних дел и затем юстиции А. А. Макаров. В ненависти и презрении к Николаю II, он, впрочем, не отличался от своих товарищей по судьбе; но и это презрение к жалкому, злобному, мелко-мстительному и подозрительному самодержцу Макаров не только не афишировал, но тщательно скрывал от окружающих, и только с людьми, внушавшими ему доверие личной порядочностью делился штрихами из жизни и бесед с венценосцем.
Очень характерна для его поведения была встреча с Каменевым. Как я уже упоминал, Каменев в ряду других «вельмож» после обстрела камер социалистов посетил «Бутырки». Как все «калифы на час», какими себя чувствуют большевики, ему захотелось поглядеть именитых арестантов. Во время наездов в тюрьму чекистов по профессии вроде Манцева (председ. МЧК), Петерса, Мессинга и проч., каждый из них считал своим долгом громко, в присутствии Макарова, изумиться: «Как, Макаров здесь?! Разве он еще не расстрелян? Странно!!»
Нужно ли говорить, что они по положению своему знали, что Макаров в Бутырках и обращались к коменданту еще при входе в тюрьму с просьбой «показать им Макарова и других министров». Эту остроумную «шутку» Каменев, как «культурный» и «либеральный» сановник счел долгом завуалировать, но от нее воздержаться не смог. Макаров, прямой, как стрела, белый, как лунь, опираясь на палочку, хранил обыкновенно спокойное и полное достоинства молчание в ответ на восклицания палачей. С Каменевым же, непосредственно к нему обратившимся, он обменялся следующими немногими словами:
– Вы бывший Министр Внутренних Дел Макаров? – начал Каменев участливым голоском.
– «Да».
– Вы знаете, что Ваши товарищи по кабинету уже погибли?
– «Да».
– Вы, вы понимаете, что не может быть и речи о вашем освобождении?
– «Я и не прошу Вас ни о чем.»
Каменев смутился и промямлил:
– Но я постараюсь, по возможности, облегчить Ваше пребывание здесь.
– «Благодарю Вас».
Конечно, Каменев по своему обыкновению пальцем не пошевелил для исполнения своего обещания.
Смущенный Каменев поспешил отойти и попал на бывшего редактора «Земщины», престарелого Глинку-Янчевского, который с жаром и убежденностью принялся доказывать Каменеву, что его собственно совершенно не за что держать в тюрьме: он де, Глинка, всю свою жизнь писал то же, что и Стеклов в «Известиях», всегда защищал интересы «простого народа» от эксплуатации богачей и кровопийц, всегда проповедовал, что эти интересы наилучшим образом может защищать только правительство, и что народу нечего слушать смутьянов-социалистов и нужно только подчиняться и слепо верить попечительному начальству.
– «Вы только выпустите меня, и я Вам буду такие статьи писать, что Вы останетесь довольны» – в экстазе от беседы с «вельможей» пресерьезно шамкал Глинка на потеху соседей-социалистов и к немалому конфузу Каменева. И, повидимому, власти все же оценили эту готовность Глинки, так как он уцелел во все периоды массовых расстрелов и мирно умер в тюрьме от воспаления легких и старости в конце 1920 г., тогда как другие… но об этом позже.
Беседы социалистов с представителями власти носили несколько иной характер. С помпой, с двумя телохранителями по бокам, с услужливым комендантом тюрьмы впереди, влетает Петерс в камеру социалиста.
– «Я председатель Московского Ревтрибунала Петерс, угодно ли Вам что от меня?»
– Что скажете Вы в свое оправдание? – следует презрительный вопрос и сконфуженный Петере со своей сворой исчезает. В других камерах раздавались недвусмысленные: «вон! палач!» и т. д.
Но все это только в особых, до известной степени привилегированных камерах. Большинство же заключенных, набитые до отказа в душных, сырых, грязных и полных насекомых камерах, боязливо жались при посещении начальства и не решались ни одним словом обмолвиться насчет невозможных условий заключения и гомерических размеров воровства в тюрьме.
Состав заключенных летом и осенью 1919 года был чрезвычайно пестрый. Кроме упомянутых трех групп – социалистов, деятелей и титулованной знати отошедшего в вечность режима и представителей иностранных миссий и Красных Крестов – выделялась еще категория спекулянтов.
Тут были и представители именитого купечества, вроде Ивана Николаевича Прохорова, засаженного за то, что он выдал рабочим бывшей своей фабрики к праздникам наградные – он получил за это по суду 15 лет лагеря и вскоре, по настоянию рабочих фабрики, был освобожден на поруки. Были тут и ловкие дельцы из бывших биржевиков аферистов, средние и мелкие торговцы, представители русских и иностранных крупных фирм, попавшиеся во всяких более или менее беззаконных махинациях. Эта довольно многочисленная, сплоченная группа ловких, оборотистых людей, имеющих, почти каждый, по влиятельному коммунисту за спиной, жила припеваючи в тюрьме. Для нее не существовало никаких запретов; камеры их были всегда чистенькими, заново выбеленными, были оборудованы самодельным отоплением и прямо ослепительным освещением. Не стесняясь в средствах, они подкупали всю администрацию, устраивали себе постоянные свидания с родными, защитниками, знакомыми, ходили в город «за покупками для тюрьмы», бывали дома, руководили следствием по своим делам, быстро отсуживались в трибуналах, получали лагерь на 5 – 10–15 лет и через месяц после того, разъезжали на автомобилях по городу в качестве незаменимых спецов того или иного Главка. С начальством жили в самых приятельских отношениях, тесно были связаны общностью интересов наживы со следователями чеки, часто до и после, иной раз и из под ареста, кутили с ними в разных притонах и, как водится, «проигрывали» им крупные суммы. Многие и многие из них являлись неофициальными или тайными агентами чека.
Часто было трудно различить, где кончается чекист и начинается спекулянт.
Впрочем это было не только в среде спекулянтов, но еще более выпукло бросалось в глаза в среде простой уголовщины, всяческих воров, грабителей – «бандитов», по советской терминологии.
Помню, по поводу применения майской амнистии приехала в тюрьму специальная Комиссия МЧК. По давно установившейся традиции со времени чуть ли не первых Романовых амнистия в России касается всегда, главным образом, если не исключительно, уголовных преступников и казнокрадов. Так было во все майские и октябрские амнистии, так было и 1-го мая 1919 года.
В 55 камеру, где сидели исключительно бандиты, больные разными венерическими болезнями и изолированные поэтому от остальной тюрьмы, ввалилась толпа «кожаных людей» (так называли чекистов за их излюбленный костюм: кожаные куртки, шапки и штаны). Все вооруженные одним, а то и двумя револьверами, всяческими экзотическими шашками, кинжалами, кортиками, все сильно навеселе и пошатываясь. Минута молчания, изумления и… град радостных, взаимных приветствий и восклицаний: «Юзька! Петька! Стасик! Янек!»
… Взаимные лобызания, похлопывания друг друга по плечу, сильные выражения. Случайному свидетелю этой трогательной встречи друзей без труда удалось установить, что все – и прибывшие применять амнистию и сидельцы 55 камеры, профессиональные убийцы и грабители, – члены одной и той же польской разбойничьей шайки, долгое время оперировавшие совместно, а затем разделившиеся. Одни пошли служить в чека, что по нынешним временам безопаснее и прибыльнее, а другие «засыпались» и очутились в Бутырках. Нужно ли говорить, что и последние скоро «одумались», «покаялись», были амнистированы и поехали по городам и весям бывш. Российской империи насаждать коммунизм и… безопасными способами продолжать свое привольное житье на комиссарских постах.
И таких примеров переплетения уголовно-спекулянтских элементов с официально чекистскими можно насчитать сколько угодно. Для иллюстрации мне хочется остановиться еще на одном особо выпуклом.
После длинного и особенно кровавого периода расстрелов, в 18 году на верхах коммунистической партии, должно быть с непривычки, явилось отвращение к этому методу насаждения коммунизма на Руси, и чека впала в немилость. Вечно заполненная автомобилями, извозчиками в часы приемов, Лубянка опустела, на дверях грозного помещения М. Ч. К. красовалась невинная вывеска Экономического Отдела какого то учреждения и объявление о реферате проф. Рейснера в клубе М. Ч. К. на какую то совсем безобидную тему. Словом все внешние признаки указывали на опалу, разоружение. Шли слухи из правительственных сфер об уничтожении Чека вообще. В «учреждении» было уныние великое и смятение. Правда, во время съезда Советов сам Ленин, дабы обезопаситься от Чеки, ездил в клуб В. Чеки и произносил там благодарственные и хвалебные Чеке речи, невольно напоминая этим Николая II-го, благодарящего «молодцов фанагорийцев» за доблестную службу по усмирению рабочих.
Но все эти внешние знаки внимания, ордена «Красного знамени» и проч. не могли успокоить чекистской тревоги за существование: и начались по Москве безумно дерзкие грабежи, убийства и стрельба по милиционерам из проезжающих таинственных автомобилей. М. Ч. К. выбивалась из сил, чтобы найти дерзких грабителей. Москва была терроризована. Создалось паническое настроение, а грабежи один невероятнее другого, один наглее другого сыпались на головы перепуганных обывателей. Заключительным аккордом было ограбление и отнятие автомобиля, портфеля и револьвера у «самого» Ленина.
В. Чека получила снова свободу действий. Дзержинский издал строгий приказ с сакраментальным: «будут расстреляны на месте» и:… грабежи немедленно и совершенно прекратились.
Еще тогда в 1918 году это странное всемогущество В. Чека казалось очень подозрительным. В тюрьме же нам выяснилась и вся подкладка дела. Оказывается. Ленин тоже заподозрил Чека во всей этой эпопее и поручил старому опытному сыщику Дмитриеву, владельцу знаменитой в свое время собаки «Треф», расследовать дело и найти виновников. Дмитриев получил от Ленина полную гарантию неприкосновенности, «карт-бланш» и кредит для необходимых мероприятий и через некоторое время представил серию фотографических карточек грабителей, среди которых были комиссары Чеки. Ленину осталось только развести руками: грабители были расстреляны, комиссары получили повышения, а Дмитриев… Дмитриев в скором времени был привлечен по совсем постороннему сфабрикованному делу, получил «высшую меру» и только благодаря настоянию Ленина дело кончилось пятью годами конц. лагеря. Впрочем теперь он уже спелся со своими бывшими врагами, т. к. по слухам где-то под Москвой им культивируется на казенный счет питомник полицейских собак-ищеек и, надеюсь, эти разоблачения не омрачат их установившейся дружбы.


![Книга Медицина катастроф: Курс лекций [Учебное пособие для медицинских вузов] автора Игорь Левчук](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-medicina-katastrof-kurs-lekciy-uchebnoe-posobie-dlya-medicinskih-vuzov-274457.jpg)



