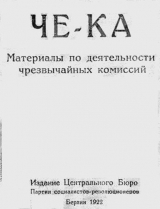
Текст книги "Че-Ка. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий"
Автор книги: Виктор Чернов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
IV.
Самую большую по численности, самую запуганную и бестолковую группу заключенных представляли из себя те тысячи и десятки тысяч обывателей, которые сплошь да рядом на долгие месяцы, иной раз и годы, попадали в тюрьму без вины виноватые. Большинство их было взято по засадам, по спискам, по случайным доносам, по провокации, просто так – «здорово живешь». Иные из них попадали и «к стенке», продолжая недоумевать, за что их собственно арестовали, за что раздевают и расстреливают. Каждые два-три месяца Чека открывает новые заговоры, арестует направо и налево предполагаемых заговорщиков, оставляя по три, пять и даже десять дней в их квартирах засады и стаскивает в Бутырки целые табуны людей всяких рангов, возрастов и положений. Они страдают в карантинах, потом рассасываются по коридорам и горе тому, у кого на воле нет влиятельного покровителя. Месяцами они сидят без допроса, бомбардируют политический Красный Крест своими заявлениями. Дела их по большей части за быстрой сменой следователей и при общей большевистской страсти переезжать с квартиры на квартиру растериваются; конфискованные, взятые для просмотра в их квартирах вещи пропадают; квартиры их после разгрома опечатываются, а они все сидят и сидят. Попадались такие, что по два года сидели в Бутырках и представляли объект для недоуменных вопросов всяческих контрольных и по разгрузке тюрьмы комиссий.
А в каком масштабе производились аресты, легко себе представить, если вспомнить, что даже в конторах, в магазинах неделями сидели засады и арестовывали всех клиентов и покупателей. У Дациаро, например, (самый большой магазин художественных вещей в Москве) засада дала около 600 (шестьсот) арестованных. Из редакции «Дело Народа» привели больше сотни.
Во время кадетских арестов в июне и августе того года было препровождено в Бутырки около 300 человек, арестовывались целые школы от преподавателей до сторожей включительно – школы маскировки, артиллерийская школа – целые штабы армии до последнего писаря и ч. д. Конечно, у всех этих сотен и тысяч человек производился тщательный обыск по квартирам, отбиралось и бесследно исчезало все мало-мальски ценное, засады пожирали все запасы, – а в наше голодное время кто не делает запасов на неделю, другую и более?
Если принять во внимание этот способ самоснабжения чекистов, то станет понятной вся система массовых обысков, арестов, облав и засад. Не плохой источник дохода с благословения высшего начальства избрали специалисты по провокации: за каждое раскрытое дело по спекуляции следователь получает 5 % суммы, на которую была сделка. Можно себе представить, какое широкое поприще для этих дельцов открылось после ряда декретов о запрещении торговли и даже всяческого товарообмена.
Из практики одного особенно прославившегося следователя М. Ч. К., г. Новоженова, мне известен случай подсыла к одному состоятельному обывателю сначала агента-провокатора, всячески навязывавшего ему втридешево партию сахара, а потом еще двух агентов-провокаторов, упрашивавших его, добыть сахара и предлагавших ему самые соблазнительные условия платежей, авансов и т. п. Обыватель робел, долго отмахивался от сирен, но, наконец, не выдержал, клюнул и попал в лапы организатора всего этого дела. Летом 1919 года «новоженовцы» – так и прозвали подобных свыше сфабрикованных спекулянтов – занимали в Бутырках целых два, а одно время даже три камеры. Эта провокационная система не уничтожена до сих пор, а, наоборот, приняла более общий характер, распространена на политические дела и охарактеризована Дзержинским в деле известного с.‑д. Крохмаля, как вполне допустимая «военная хитрость».
Но нередко дела по провокации оканчиваются и трагически. Из Харькова, во время занятия его Деникиным, отправляется нелегально в Москву тайный агент В. Ч. К. Среди своих знакомых, белых офицеров, он набирает поручения к знакомым и родным в Москве. Аккуратно отмечает все адреса и пр. в книжке, а потом, по приезде в Москву, весь этот список передает В. Ч. К, на предмет изъятия из обращения. Всех сажают и обвиняют в сношениях с белыми и в шпионаже. Резко врезался в память случай с неким Шапинским, молодым энтомологом, оставленным при Петровской академии. Один из большевистских контрразведчиков добыл таким образом от белого офицера, бывшего Петровца, адрес его в Петровке; явился к Шапинскому с тем, чтобы передать ему привет. Шапинский сказал, что он не помнит такой фамилии. «Как же, он говорил, что если Бы забыли, то напомнить Вам, что вместе работали в лаборатории», говорит провокатор. – Может быть, ну спасибо за привет, как же он поживает? – и подобный невинный разговор.
Ночью у Шапинского в общежитии обыск. Его дома не было, но к его приятелю Модестову из города приезжала сестра и с согласия Шапинского осталась ночевать в комнате последнего. Таким образом арестовывают Модестова за сношения с Шапинским, его сестру, которую впрочем скоро выпускают, и сажают засаду у Шапинского. На утро он возвращается паровичком. Встретившийся знакомый по общежитию предупреждает: «Не ходите домой, у Вас всю ночь шел обыск, у Вас засада, арестован Модестов и его сестра». – Какие пустяки, у меня ничего найти не могли, верно какое-нибудь недоразумение, пойду разъясню, – и разъяснил. Около года просидел Модестов в Бутырках и только благодарю особо настойчивым хлопотам проф. Тарасовича был освобожден, как научная сила. А Шапинского расстреляли в сентябре в качестве контрреволюционера в отместку за взрыв в Леонтьевском переулке. А ведь он, равно как и Модестов, никакой политикой не занимался и был предан исключительно науке.
Вот еще один случай, число которых легион: Доктор Николай Павлович Воскресенский просидел 18 месяцев в строгой одиночке, и в подвале и в тюрьме за свое имя и отчество. В. Ч. К. разыскивала какого то заговорщика «Николая Павловича», ходившего в военной форме и часто уезжавшего с Николаевского вокзала, – разыскивала и нашла Воскресенского, который, действительно, часто ездил к матери в Клин и донашивал форму военного врача. И потребовалось 18 месяцев буквально висенья на волоске от смерти, чтобы выяснить недоразумение. Никакие alibi, очные ставки и т. д. не помогали.
Вот Павел Федорович Кистяковский, возвращавшийся через 20 лет отсутствия из Сибири на родину в Киев. В Киеве в это время был Скоропадский и министром его далекий родственник – Кистяковский Игорь. На беду проездом через Самару Павел Кистяковский захватил с собой открытку на имя проф. Погодина от жены последнего, чтобы бросить ее на Украине в почтовый ящик. При пограничном обыске он ее не спрятал, ничего не видя предосудительного в простой открытке, сообщающей о здоровье и т. п. Сколько раз в течение 3-х-летнего своего тюремного заключения проклинал он эту открытку и свою любезность! Сколько раз он подвергался риску во время массовых расстрелов погибнуть из за своей фамилии, его спасло исключительно только то, что дело его провалялось весь опасный период в Комиссариате Иностранных Дел, потом пал Скоропадский, эмигрировал Игорь Кистяковский и Павла забыли.
Можно было бы до бесконечности продлить этот список невинных и случайных арестантов, так как, повторяю они представляли и представляют большинство среди обитателей Бутырок, и являются по существу особой статьей дохода для больших, средних и мелких чекистов.
V.
Перед нами прошли самые пестрые типы «преступников» большевистской тюрьмы, большинство из них случайные обыватели, которые внезапно попадали в этот ад, подвергались всевозможным издевательствам и лишениям, связанным с тюрьмою. Но все эти лишения, мучения физические и моральные были ничто в сравнении с той атмосферой неуверенности в завтрашнем дне, которая создавалась постоянными, часто ничем не мотивированными расстрелами. Буквально каждый, вплоть до социалистов, не мог быть гарантирован, в том, что завтра какая-нибудь таинственная коллегия не постановит его расстрелять и что он не будет вызван под вечер или поздно вечером «по городу с вещами» – т. е. на расстрел.
Один случай дал нам возможность заглянуть в «святое святых», в механику «постановлений» Коллегии.
Сидел в Бутырках довольно неопределенного вида и положения человек, по фамилии Корсак. Выяснить, в чем его обвиняли, так и не удалось. Было лишь известно, что до революции он работал в качестве чего-то при Археологическом Институте. По его словам ему инкриминировалась сдача Гельсингфорса. Называл он себя бундовцем, хотя был католиком и польского происхождения. Так вот по поводу этого Корсака вызывает как-то следователь М. Ч. К. Крюковский известного в тюрьме с. – ра и рассказывает ему следующее: – «Вчера я проходил через комнату Коллегии, которая в то время рассматривала дела и услыхал фамилию Корсак. До революции я работал в Археологическом Институте и встречал этого господина. Что это за субъект, как Вы думаете?» – На недоуменный ответ с. – ра, «что Вам де лучше знать это, раз Вы его арестовали и держите».
Крюковский дополнил: – «Видите-ли, его приговорили к высшей мере наказания, хорошо, что случайно проходил и фамилия оказалась мне знакомой. Мне кажется, его не за что расстреливать. Как вы думаете? Коллегия не возражала против моего вмешательства и передала его дело мне на расследование. Я сейчас его буду допрашивать. Его судьба теперь в моих руках, как вы думаете, есть за что его расстреливать?» – Корсак не был расстрелян, но от какой случайности зависела его жизнь, какова обстановка этих таинственных заседаний Коллегии из случайных трех членов Президиума, постоянно сменяющихся! Не даром Дзержинский, когда наступила пора расстрелов (июль, октябрь – декабрь 1919 года) поспешил отобрать у следователя все дела социалистов и запер их у себя в шкафу, чтобы не произошло никаких случайностей… Ну, а не социалисты, люди без партий за спиной или с партией, в данный момент для правительства безразличной – они могут и должны были каждый вечер с трепетом прислушиваться к шагам в коридоре, к гудкам автомобиля у подъезда тюрьмы, к щелканью замка… Дело каждого из них могло подвернуться под руку, каждый мог вытянуть несчастный жребий.
Расстрелы собственно не прекращались целое лето – раз, два в недолю уезжала из Бутырки партия несчастных кандидатов. Часто этот вызов вечером «с вещами» (по утрам «с вещами» брали для допросов), применялся следователями, как особый род пытки. И трудно было разобраться в этом хаосе и бесправии: берут ли просто на расстрел, или чтобы попугать и выудить «чистосердечное признание» или «выдачу соучастников». Какими то неведомыми путями, но тюрьма всегда узнавала о приходе рокового автомобиля, а через некоторое время, иногда в тот же день, имена, категорию и место последнего тюремного жительства (камеру, коридор) – несчастных жертв. Доходили слухи и о самих расстрелах, откровенничала администрация в конторе, а оттуда доходило и до нас.
Так, в феврале, знали мы, в М. Ч. К. перед расстрелом вскрыл себе артерии на руках приговоренный к расстрелу д-р Стаковский, присужденный за провокаторство в царские времена к высшей мере. Но февраль, март, апрель, май, июнь и часть июля расстреливали одиночек по приговорам трибуналов, или бандитов, взятых на месте преступления, людей, которые просидели уж месяц, другой с приговором и до некоторой степени уже свыклись с мыслью о неминуемой смерти. Правда, они сидели тут же, рядом с нами, безумно мучились по вечерам, смертельно бледнели при известии о приезде «комиссара смерти» Иванова (из М. Ч. К. за расстреливаемыми приезжал обыкновенно он), но это было, так сказать, бытовое явление, тюрьма к этому привыкала, провожала жутким молчанием уходящего, камера боязливо утихала на время, когда вызываемый укладывал вещи и уходил; некоторые пытались утешать, что может еще только «пугают». Атмосфера была сгущенная, но паники не было. В панике были только заключенные с приговорами, которые лезли из кожи, чтобы доносами и прислужничеством отвести от себя Дамоклов меч и обрушить его на чью-нибудь, хоть и соседскую, приятельскую голову.
За все лето был только один случай, всколыхнувший подлинным ужасом тюрьму. Арестованный по обвинению в провозе на Украину драгоценностей, польский офицер, служивший чуть ли не в русской контрразведке, Малишевский-Жулавский получил приговор – расстрел. Кассация отвергнута. Прошение о помиловании в В. Ц. И. К. приостановило приведение в исполнение приговора. Проходят дни, недели, приговоренный, конечно, безумно волнуется. Красный Крест хлопочет и обнадеживает. 2-го июня, наконец, приходит бумага, что прошение о помиловании оставлено без последствий. Растерялся Малишевский ужасно, с ним случился нервный припадок. Не было никакой возможности успокоить и привести в себя несчастного. Рыдает, рвет на себе одежду, катается по койке. Вдруг влетает комендант с бумагой в руках. – «Успокойтесь, вот официальная телефонограмма Красного Креста и Вашего защитника. В последнюю минуту Вам приговор В. Ц. И. К. заменил 10 годами лагеря». – Можно себе представить безумный восторг воскресшего к жизни! Поздравлениям и пожеланиям соседей не было конца. Вся камера выглядела именинниками.
А еще через два часа его увез автомобиль в Ревтрибунал, где он в ту же ночь был расстрелян. Помилование из В. Ц. И. К. запоздало в трибунал. Секретарь трибунала, несмотря на звонки коменданта тюрьмы по телефону об официальном извещении из Красного Креста, несмотря на протесты осужденного и на возмущение всей тюрьмы, потребовал доставки осужденного, и он мужественно, без малейшего содрогания, уехал из тюрьмы и пошел на расстрел, о чем свидетельствует присланное им из трибунала официальным путем письмо и завещание. Утверждали, что кое-кому было не выгодно его помилование, так как он чересчур много знал и мог впоследствии поднять дело и об организации перевоза драгоценностей и о пропаже тех, которые были у него отобраны, но ни в протоколах, ни в числе вещественных доказательств, не было того, о чем он неосторожно говаривал в тюрьме.
Случай этот, происшедший не с Ч. К., где все делается келейно-домашним образом, а с судебным учреждением-Ревтрибуналом – долго волновал тюрьму и сразу сгустил атмосферу.
Но паника, настоящая паника началась в тюрьме в августе и сентябре, когда Ч. К. принялась пачками расстреливать бандитов, заговорщиков и спекулянтов, и за воровство на железной дороге; не проходило дня, чтобы черный автомобиль не увозил нескольких человек, когда выхватывали из камеры только вчера туда прибывших, когда расстреливали красноармейцев за похищение из вагона пары фунтов сахару; когда вели на убой людей, ни в чем решительно неповинных, взятых по грубой провокации. Разум переставал действовать, совсем невинные, в засадах взятые люди теряли голову, прятались под кровати, когда раздавался сакраментальный возглас в неурочное, не утреннее время: «такой-то по городу с вещами, собирайся живее».
Приходил обыкновенно сам председатель Комъячейки Линкевич, распоряжался запирать все камеры (в некоторых коридорах двери были днем открыты) и по очереди выкликал всех этих Ивановых, Петровых, Степановых, всех этих безвестных людей, которые еще вчера наивно допытывались у Красного Креста: «когда ж меня допросят?». В эти списки обреченных попадали и такие, как мясник с Миусской площади, осмелившийся публично обругать чучелами бездарные памятники Марксу и Энгельсу в новом советском стиле на этой площади. Расстреляли литератора Аннибала за то, что он корреспондировал о Советской России в иностранные газеты, как антантовского шпиона, расстреливали и таких, как Огородников, сидевший год в лагере за участие в только что раскрытом кадетском заговоре, в котором он физически не мог участвовать, ибо уже год сидел арестованным. Расстреливали явных психопатов, вроде Дризена, за хищение продуктов из учреждения, где он служил. Психиатры в один голос признавали его неответственным в поступках, но безграмотный Линкевич производил свою экспертизу: спрашивал, как его фамилия, знает ли он, где находится, и, удовлетворенный утвердительными ответами, констатировал нормальность Дризена, которого и расстреляли.
Стон стоял в тюрьме, забыта была и борьба за улучшение быта, отошли на задний план все материальные лишения. Люди жили буквально только в течение первых полсуток. Вторая половина проходила в ожидании комиссара смерти Иванова и его мрачного автомобиля. Не мудрено, что мирового судью Москвы, известного прогрессивного деятеля Кропоткина хватил удар, когда пришли под вечер звать его с вещами и по грубости своей надзиратель не добавил, что зовут его в больницу. – «Собирайся с вещами, живей». – От этого удара он, не приходя в сознание, и умер.
А раскрытые заговоры все росли и росли в числе, тюрьма заполнялась кадетами, профессорами, артистами, цветом Московской науки и интеллигенции. На место расстрелянных подвозили все новых и новых контрреволюционеров. И они не меньше, а пожалуй и больше других, поддавались панике, хотя за огромным большинством из них, конечно, не было ни одного нелояльного по отношению к советской власти поступка. Но разве это кого-либо гарантировало от короткого и последнего пути с Ивановым в Ч. К.?
Припадки, психозы, истеричность участились до невероятности. Нервничали заключенные, нервничала администрация, а что переживали на воле родные, не имея свиданий, ни писем от близких, – это не поддается никакому описанию. Мудрено ли, что большинство по ночам до двух-трех часов не спало, с 4 до 5 часов начинали в тоске метаться по камерам, по коридорам, что некоторые, как член Московской Городской Управы Зельбицкий, проведя в таком состоянии несколько месяцев в тюрьме, на третий день по освобождении повесился. Его преследовали маниакальная мысль, что его обязательно расстреляют, ведь он в 17 году был членом партии к. – д.
И вот в этой то сгущенной до невозможности атмосфере глухо раздалось эхо от взрыва в Леонтьевском переулке помещения Московского Комитета Р. К. П. 25 сентября 1919 г. в 9-10 часов вечера.
Был тихий вечер, тюрьма жила. сосредоточенно притаившись, как всегда по вечерам. Раздался какой то взрыв, большинство не придало этому значения, некоторые все же насторожились, чересчур необычно знаком был гул. Не прошло и 1/ 2часа, как раздалась бешеная команда по коридорам: «запирай все двери, никого никуда не выпускай!» Щелканье затворов, полные коридоры вооруженных солдат, через окно видно, как по двор втягивают пулеметы. Сменивший Ляхина бравый чекист с фронта Марков в полчаса привел в боевую готовность тюрьму, вооружился до зубов, заготовил ручные гранаты и нагнал такую панику, что у бедных тюремных обитателей зуб на зуб не попадал.
Через час мы уже через наши связи были в курсе всего происшедшего и ждали-гадали с замиранием сердца ужасов. На утро газеты принесли подробности и настойчивое утверждение власть имущих, что это сделали вовсе не «анархисты подполья», а белогвардейцы, подделываясь под анархистов, пытались нанести удар в спину и т. д. Забегая несколько вперед, должен подчеркнуть, что самое тщательное следствие и признание арестованных несомненностью установило, что взрыв был произведен анархистами и группой л. с. – р'ов (Черепановцев), а из Красной книги В. Ч. К., впрочем не увидавшей света и конфискованной тотчас же по напечатании, видно, что никакими белогвардейцами в этом заговоре и не пахло, а вот какая-то «Маня из В. Ч. К.» там фигурирует. Тем не менее началась расправа и расправа жестокая, в ту же ночь.
По рассказу коменданта М. Ч. К. Захарова, прямо с места взрыва приехал в М. Ч. К. бледный, как полотно, и взволнованный Дзержинский и отдал приказ: расстреливать по спискам всех кадет, жандармов, представителей старого режима и разных там князей и графов, находящихся во всех местах заключения Москвы, во всех тюрьмах и лагерях. Так, одним словесным распоряжением одного человека, обрекались на немедленную смерть многие тысячи людей.
Точно установить, сколько успели за ночь и на следующий день перестрелять, конечно, невозможно, но число убитых должно исчисляться по самому скромному расчету – сотнями. На следующий день это распоряжение было отменено вследствие вмешательства В. Ц. И. К.-а и Ц. К. Р. К. П.
Из Бутырок 26—IX утром, часов в 12 была выведена первая партия и отвезена прямо в Петровский парк, где и расстреляна; подвалы Ч. К., где обыкновенно расстреливают, были по-видимому заняты своей «работой» и для бутырцев не хватало места. В эту первую партию попали Макаров, Долгорукий, Грессер и Татищев. Макаров до конца сохранил свою твердость. За ним пришли перед самым обедом в 12 часов. На роковые – «по городу с вещами» – спокойно ответил: «Я давно готов». Медленно, методично сложил свои вещи, отделил все получше для пересылки голодавшей в Петербурге семье, стал прощаться с буквально подавленной его мужеством камерой. Соседи уговорили его написать прощальное письмо домой. У многих стояли слезы на глазах, даже ожесточенные и грубые чекисты не торопили его, как обычно, и, молча потупившись, стояли у дверей.
Макаров присел к столу, все так же сосредоточенный и ушедший в глубь себя. Заключительные строки его записки были следующие: «За мной пришли, вероятно на расстрел, иду спокойно, мучительно думать о Вас; да хранит вас, Господь! Ваш несчастный папа».
Видя подавленность и слезы кругом, он попробовал даже пошутить. Обратился к случайно находившемуся в камере эс-эру предложил ему хоть перед смертью выкурить с ним трубку мира. Затем, завернувшись в одеяло (шубу отослал жене), с худшей трубкой в зубах (лучшую тоже отослал), тихо и чинно попрощавшись с соседями, прямой, суровый, спокойный, мерными шагами вышел на коридор, потом мелькнул на дворе все такой же спокойный и сосредоточенный, потом выглянул из «комнаты душ» – место, откуда уводили на расстрел, – и исчез. Спокойно пошел и Долгорукий с небрежной, застывшей улыбкой. Увы, сомневаюсь, чтобы вещи, столь заботливо отобранные Макаровым, дошли до его семьи. От Макарова взял их с обещанием обязательно переслать ранее мной упоминавшийся его сосед по койке Корсак. Слыхал я, что золотые часы, цепочка и медальон судейский, кажется в Саратове Макарову поднесенный сослуживцами, очутился у провокатора-старосты одиночного корпуса Лейте, а шубу Макарова видели на плечах Корсака еще в следующую зиму.
Потом пошли расстрелы пачками и тут пригодились списки, заготовленные агентами Ляхина в сравнительно спокойное время. Чека потребовала от администрации списков по той же данной Дзержинским магической формуле: аристократы, буржуи, министры. Администрация обратилась было к корпусным писарям из арестованных, те в большинстве отказались, тогда пригодились списки Бортниковых, Даяновых, Лейте. На последнем должно остановиться хоть в нескольких словах. Заведуя на фронте отрядом особого назначения или чем то вроде этого, он решил легко обогатиться и затеял нападение на артельщика с деньгами. Кто-то из его же отряда, с которым он планировал нападение, выдал его план, и Лейте со своим молодцами вместо артельщика попал в засаду. В результате перестрелки Лейте был захвачен, привезен в Москву, судом приговорен к расстрелу и потом, благодаря усиленным доносам и провокации, через год был освобожден и получил комиссарский пост в Ч. К. Он в наши времена был уже в силе, состоял назначенным старостой мужского одиночного корпуса, нещадно обворовывал заключенных на хлебе, выписках табаку, сахару и проч. Провоцировал во всю вновь прибывающих в одиночки, а особенно в опросе склонных с доверием откровенничать со «старостой», не зная, что он не выборный, а назначенный, шатался чуть ли не еженедельно в трибунал, где свидетельствовал по делам, суть которых он выпытывал в одиночках, прикрываясь званием старосты. В одиночках сидели наиболее важные «преступники» и вот Лейте то было поручено составить список по указанным выше признакам. Он и составил, сведя личные счеты с теми, кто его разоблачал в предательстве, или кто не хотел с ним говорить и иметь общение, узнав о его близости к Ч. К. Жертвой Юрия Лейте и пал также тот энтомолог Шапинский, о котором рассказано в предыдущей главе. В его руки по неизвестным причинам передал Корсак все ценности Макарова.
Был в одиночке еще один молоденький конторщик, случайно арестованный при засаде в соседнем с его конторой помещении. Не то он случайно не в ту дверь попал, не то зашел позвонить по телефону к соседям и попал в засаду, но он явно был ни к чему непричастным. Однако и его включил Лейте в список не то князем, не то контрреволюционером за ссору на почве не то недоданного табаку, не то сахару. В эти дни были расстреляны и юноши Коновницины, привезенные в Ч. К. из лагеря, где их гоняли на принудительные работы – закапывать трупы расстрелянных на кладбище; погиб и старик Нарышкин и генерал Скрыдлов (брат адмирала) и Церетелли и генерал Зубков и бесконечная вереница других, менее известных имен.
Ошалели арестованные, ошалела администрация, ошалели и палачи. Один из крупных чекистов рассказывал, что главный палач Мага, перестрелявший на своем веку не одну тысячу людей, – чекист, рассказывавший нам, назвал нам невероятную цифру в 211 тысяч расстрелянных рукой Мага, – этот палач Мага, как-то закончив «операцию» над 15–20 человеками, набросился с криками: «раздевайся такой-сякой» – на коменданта тюрьмы В. Ч. К. Попова, из любви к искусству присутствовавшего при этом расстреле. «Глаза, налитые кровью, весь ужасный, обрызганный кровью и кусочками мозга, Мага был совсем невменяем и ужасен», – говорил рассказчик. «Попов струсил, бросился бежать, поднялась свалка, и только счастье, что своевременно подбежали другие чекисты и скрутили Мага. Иначе он обязательно прикончил бы Попова», – закончил свой ужасный рассказ наш собеседник.
В городе ходили чудовищные слухи. Деникин давно уж был отогнан и катился обратно на юг, пора было кончить кровавый пир. И вот, по предложению В. Ч. К., смертная казнь была отменена 14 января (1 января) 1920 г. Но, отменяя смертную казнь, Ч. К. не могла удержаться от последнего жеста. Уже постановление В. Ч. К. было принято, даже отпечатано в новогодних газетах (по ст. ст.). а во дворе М. Ч. К. наспех расстреляли 160 человек, оставшихся в разных подвалах, тюрьмах, лагерях, из тех, кого, по мнению Коллегии, нельзя было оставить в живых. Тут погибли в числе прочих и уже осужденных трибуналом и половину срока отбывших в лагере, как напр. по делу Локкарта – Хвалынский, получивший даже в этом жестоком процессе только 5 лет лагеря. Расстреливали 13-го и 14-го. В тюремную больницу утром привезли из М. Ч. К. человека с простреленной челюстью и раненым языком. Кое-как он объяснил знаками, что его расстреливали, но не достреляли, и считал себя спасенным, раз его не прикончили, а привезли в хирургическое отделение больницы и там оставили. Он сиял от счастья, глаза его горели и видно было, что он никак не может поверить своей удаче. Ни имени его, ни дела его установить не удалось. Но вечером его с повязкой на лице забрали и прикончили.
VI.
Декрет о прекращении смертной казни был принят тюрьмой со вздохом облегчения. В первый раз за полгода загудела вечером тюрьма, ожили лица, послышались шутки, смех, песни; никто настороженно не прислушивался больше к гулу автомобиля, к топоту шагов в коридоре и пропала постоянная тревога в глазах у всех, за исключением немногих, которые, как выпущенный Зембицкий, никогда уже больше не могли найти душевного равновесия.
Тюрьма поверила декрету, хотя многие признаки говорили за то, что эта вера преждевременна: чекисты, например, таинственно посмеивались, когда об этом заходила речь и говорили: «пусть отменяют – кого надо, мы уже расстреляли» – намекая на новогоднюю ночь, когда был массовый расстрел после принятия ВЦИК-ом декрета.
Была в одиночном корпусе группа «к.-р. – ов» (офицеры, спекулянты и пр.), которых под самое утро той ужасной новогодней ночи вывели с вещами из камер, продержали два часа в коридоре в ужасном, томительном ожидании и… забыли. Младший, стоявший на посту надзиратель посоветовал им разойтись по своим камерам. Для них самих, да и для всей тюрьмы, их положение было совершенно неопределенным: ходили слухи, что в Ч. К. они числились уже расстрелянными. Да и в самом декрете оставалась лазейка: смертная казнь сохранялась при некоторых условиях, в том числе и в местностях, объявленных на военном положении и на фронтах. И ту группу, которая была забыта в Бутырках, в числе 13–14 человек, в марте отправили под усиленным конвоем куда-то под Саратов, где было военное положение и прикончили.
Но все же массовые расстрелы в Москве прекратились, тюрьма вздохнула свободнее и занялась своим внутренним делом. А заняться было чем. Как говорилось выше, комендант Ляхин летом был заменен фронтовым чекистом Марковым. Высокий, статный, красивый офицер военного времени, быстро терявший голову и поддававшийся вспышкам необузданного гнева, с утрированным фронтовизмом в распоряжениях и решениях, – он целое лето буквально терроризировал арестованных и всю низшую администрацию.
Самые крепкие ругательства, самые немотивированные угрозы «стенкой» сыпались ежедневно на головы надзирателей и арестованных. Это при нем разыгралась трагическая голодовка 80-ти лев. эсеров, длившаяся семь дней из-за безудержного воровства на кухне и других условии материального существования. Это, наконец, он отправил в строгую одиночку заключенного врача Донского, пытавшегося спасти от расстрела явно ненормальных людей и, что еще хуже, пытавшегося путем установления медицинского контроля над приготовлением пищи ограничить небывалые хищения продуктов из арестантских котлов. Марков обвинял сначала этого врача в покушении на его отравление молоком с ядом. Но взятое для экспертизы молоко оказалось совершенно безвредным. Все же и у этого «ударного» чекиста нашлась чекистская же Ахиллесова пята.
Озлобленная низшая администрация уличила его в таскании с арестантской кухни в ведрах под углем масла, муки и проч. Продукты таскались из больницы и общей кухни. Марков и вновь расцветший при нем, его «правая рука», Каринкевич, пойманные с поличным и уличенные с большим запасом тюремных продуктов у себя на квартирах, были присуждены к году лагеря и принуждены были покинуть свои безопасные «ударные» посты. Во время их управления хаос в тюрьме достиг колоссальных размеров. Вновь назначенный комендант Захаров, из трамвайных кондукторов, – более культурный человек, нашел и канцелярию, и хозяйство и карантин в полной дезорганизации. Достаточно сказать, что в мужской одиночке целыми группами сидели месяцами на особо строгом положении «опасные шпионы» – дети в возрасте 16,14,10 и даже 8 лет. Особенно забавен был 8-летний шпион, необычайно маленького, даже для своих лет, роста – гражданин Петр Осипович Покальнис. Его рассказ любопытен. – Где-то на фронте, в полосе сражений затерялся небольшой участок крестьянского картофельного поля. Пора копать картошку, надвигается зима, а с нею голод.


![Книга Медицина катастроф: Курс лекций [Учебное пособие для медицинских вузов] автора Игорь Левчук](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-medicina-katastrof-kurs-lekciy-uchebnoe-posobie-dlya-medicinskih-vuzov-274457.jpg)



