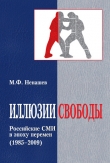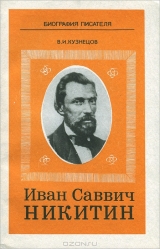
Текст книги "Иван Саввич Никитин"
Автор книги: Виктор Кузнецов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
лошадьми и нехитрыми строительными инструментами прибыть на место следования
27
высокой персоны. Пока возводилась приличествующая обстоятельствам дорога, в
крестьянских избах пухли от голода и болезней жены и ребятишки, да и сами
работники падали от изнурительного труда. Об этой драме и поведала
корреспонденция в «Колоколе», открывшая, кстати, освещение «провинциальных
тайн» в вольной прессе Герцена и Огарева.
Губернатор Н. П. Синельников был взбешен; о своих подозрениях относительно
авторства в «Колоколе» он доложил министру внутренних дел. Как раз в то время И. А.
Придорогин поехал в Петербург жаловаться на самоуправство воронежского
губернатора. «Обиженный» администратор указал на него как одного из «вредных для
общества» и возможных корреспондентов Герцена. В их числе названы были купец В.
И. Веретенников, отличавшийся неуступчивым нравом, и Н. И. Второв, которого
Синельников хотел «достать» на его новом месте службы в хозяйственном
департаменте министерства внутренних дел.
Но кто же действительно являлся автором статьи «Вы-•сочайшие
.путешественники...»? Тайну сию начальник III Отделения В. А. Долгоруков поручил
раскрьпъ гвардии подполковнику Н. Д. Селиверстову (будущему шефу жандармов,
безуспешно ловившему революционера-народника С. М. Степняка-Кравчинского).
6 ноября 1858 г. Селиверстов прибыл в Воронеж и, как он сам писал, «с величайшей
осторожностью» стал собирать «сведения по делам», разъяснение коих было на него
возложено. Вечером того же дня вызвали на допрос Н. С. Милашевича. Николай
Степанович попал в трудное положение; дело осложнялось еще и тем, что, кроме бо-
лезненной жены, у него было четверо малолетних дочерей и перспектива угодить в
Сибирь привела бы к семейной катастрофе. Запираться было почти бессмысленно.
Жандармы располагали перлюстрированными 1 письмами Мила? шевича, в которых
он, не стесняясь, выражал свой неугодный правительству образ мыслей. Среди прочего
в III Отделении прочитали и такое: «Отвратительно видеть, как эти недавние либералы
на словах, попавши в комитет, подличают и извертываются, – писал Милашевич
незадолго перед допросом Второву, отзываясь о работе воронежского Комитета по
крестьянскому вопросу. – Да, наконец, высказало себя подлое русское дворянство,
этаопора России; Да будет оно проклято. Анафема, анафема и анафема
1 Перлюстрация просмотр государственными органами почтовой корреспонденции
с целью цензуры или надзора
ему!» Не мог Николай Степанович отрицать и того, что переписывал статьи из
«Колокола» и делал к ним от себя приписки с обещанием разоблачений местных
держиморд.
Н. Д. Селиверстов вел следствие старательно. В ходе его выяснилось: из
Лондона «Колокол» привез купец
A. И. Нечаев (он сказался больным и избегал встреч с жандармами); в деле были
замешаны, кроме других, купец Москалев, «иногда пишущий стишки и либеральные
статейки» (из донесения следователя), и купец Абрамов, «когда-то на воронежском
театре поставивший пьесы слабого достоинства». И далее в рапорте Селиверстова о
лицах, подозреваемых «в сношениях с издателями русских журналов за. границей»,
следует «мещанин Никитин, рьяный поэт, последователь Кольцова...». О соображениях
в записках Селиверстова" начальник III Отделения
B. А. Долгоруков докладывал лично царю. Неизвестно, как Александр II отнесся к
фигурировавшей в деле фамилии' Никитина, но мог и удовлетворенно вздохнуть,
вспомнив, что еще два года назад его канцелярия не приняла стихотворного
подношения мещанина. Иначе, согласитесь, получился бы конфуз.
Однако кто же «злонамеренный» воронежский автор «Колокола»? Несмотря на
усердие подполковника Селиверстова, сие выяснить не удалось, потому что все веще-
28
ственные доказательства (письма и др.) участники крамольной истории, своевременно
предупрежденные хорошо осведомленным Н. И. Второвым, уничтожили. Сегодня ис-
следователи считают, что нашумевшая статья «Высочайшие путешественники...»
сочинялась коллективно, среди ее авторов мог быть и Никитин.
«Колокольная» история не прошла бесследно. В архивах III Отделения уцелел
документ 1861 г.: «Подозреваются в сношениях с Герценом или в содействии печатания
его статей». Названо 39 имен. Среди них – Минаев, Курочкин, в том же досье —
Второв и Милашевич. «Шпекины» в голубых мундирах оставили примету, что вплоть
до 1861 г. они приглядывали и за корреспонденцией «рьяного поэта» Никитина.
Иван Саввич рано приобщился к нелегальной литературе, частые цензурные стычки
научили его быть бдительным, знающим цену свободному слову. В Пушкинском Доме
хранится тетрадь Никитина—читателя «подземной литературы» (выражение Н. П.
Огарева). На 96 листах аккур-атно переписаны запрещенные сочинения Рылеева,
Некрасова, Ивана Аксакова... Любовно скопированы «Невольничий корабль» Гейне,
стихотворения Мицкевича (перевод Ф. Миллера), Фрейлиграта (перевод Ю. Жадов-
ской). Характерны никитинские выдержки из книги французского мемуариста Массона
«Секретные записки о России во время "царствования Екатерины и Павла I» (1800),
являющейся своеобразным документом очевидца, повидавшего грязные придворные
интриги венценосных правителей, зверскую тиранию дворян-помещиков в отношении
крепостных. Привлекает внимание никитинская выциска из той части мемуаров
Массона, где он рассказывает об А. Н. Радищеве, одной из «многих жертв
политической инквизиции»; издавшего «маленькую книжечку, где сквозила его
ненависть к деспотизму». Речь, конечно, идет о «Путешествии из Петербурга в
Москву».
Обращался Никитин и к второвскому собранию нелегальных и запрещенных
изданий. Историки подтверждают существование особого рукописного сборника,
составленного в 50-х годах «известным любителем и писателем Н. И. Второвым». В
нем, в частности, исследователи обнаружили полный список бесцензурного
стихотворения М. Ю. Лермонтова «Наводнение» («И день настал, и истощилось
Долготерпение судьбы...»).
Источниками вольной печати былиглюди не случайные, а иногда тесно связанные с
кругом видных писателей, мыслителей и общественных деятелей. Пример тому – А,
Н. Афанасьев, наезжавший в .родные воронежские места. Член кружка историка Т. Н.
Грановского, ученый; принятый в столичных редакциях и издательствах, был весьма
компетентным человеком. На него указывают как на одного из корреспондентов -
Герценаг. Для Никитина и его друзей не было секретом, что А. Н. Афанасьев, как _
писал хорошо его знавший земляк-современник, «получает прямо с колокольного
завода в первые руки». Понятно, о какой продукции идет речь.
Откроем еще один малоизвестный канал поступления к Никитину «подземной
литературы». Ее присылал в Воронеж член второвского кружка Ф. Н. ,Берг, уехавший в
1857 г. в Москву, а затем в Петербург искать литературного счастья. Письма Берга 1857
–1861 гг. к своему наставнику по кадетскому корпусу М. Ф. де Пуле полны известий о
событиях литературной жизни столиц, Он посылает де Пуле запрещенные
стихотворения Пушкина, Полежаева, Огарева, Некрасова. 14 марта 1859 г. Берг
сообщает воронежскому корреспонденту: «У меня есть весь юмор огаревский (здесь и
ниже выделено автором
письма; так он определяет бесцензурные произведения Н. П. Огарева, очевидно,
имея в виду прежде всего его поэму «Юмор». – В. К)... Приеду в Воронеж – все
получите. А может, есть? Вы... напишите' только одно слово: есть или нет, уж я смекну.
Я имею вещи разные, но на ночь и проч. У меня юмор вернеющий...»
29

3 мая 1859 г. Берг отправляет де Пуле «превосходную вещь» – список
непропущенного цензурой стихотворения Некрасова «У парадного подъезда». Эти и
другие «посылки» скоро становятся известными Никитину.
«ЭТУ Я ПЕСНЮ ПРО БЕДНОСТЬ ПОЮ...»
горе народное
Автор «Пахаря» народные беды знал воочию, лицом к лицу сталкиваясь с горем
крестьянина и городского пролетария. А. С. Суворин писал: «...постоялый двор имел
для Никитина и свою нравственную выгоду. Видя постоянно извозчиков, он вступал с
ними в разговор, расспрашивал о их житье-бытье, присматривался к их хорошим и
дурным качествами из рассказов их вынес много запаса для своих последующих
стихотворений...»
Познанию быта и нравов крестьян помогали члены историко-этнографических
экспедиций, которые устраивал Н. И. Второв.– Один из участников таких «походов» ху-
дожник С. П. Павлов вспоминал: «Приходилось толкаться среди народа. Никитин
любил мои рассказы про деревенские скитания и откровенно завидовал им: «А я на
цепи, целый год на цепи. Поехал бы, забыл бы все, а, как уедешь? Рвут со всех
.сторон».
Поэт и начинал как бытописатель, рисуя не столько мироощущение своих героев,
сколько создавая этнографические стихотворные очерки. Таков, например, «Ночлег
извозчиков» – подробная (46 строф!) колоритная история одной лишь ночевки на
постоялом дворе путников-торговцев, промышляющих рыбой. Начало очерка
степенное, эпическое:
Далеко, далеко раскинулось поле, Покрытое снегом, что белым ковром, И звезды
зажглися, и. месяц, что лебедь, Плывет одиноко над сонным селом.
Вот заржали кони, наконец, показались «гости»:
В овчинных тулупах, в коломенских шапках, С обозом, и с правой, и с левой руки, В
лаптях и онучах, в больших рукавицах, Кряхтя, пожимаясь, идут мужики.
Обходительный, но лукавый и прижимистый «дворник» красочно расписывает свое
хозяйство:
Овес мой – овинный, изба – та же баня, Не как у соседа, – зубов не сберешь; И
есть где прилечь, посидеть, обсушиться, А квас, то есть брага, и нехотя пьешь.
Мужики устроились, молодая хозяйка подала хлеб-соль, и потекла беседа-потеха с
россказнями бывалого4 детины-извозчика. Сочинитель всей этой немудрёной бы-
вальщины не встревает в чужие страсти, он внимательный и уважительный
наблюдатель, чуткий к деревенскому присловью, зоркий к каждой бытовой мелочи —
даже к тому, что стряпуха принесла проголодавшимся извозчикам щи «в чашке
глубокой с надтреснутым краем», а после ужина «мочалкою вытерла стол». Так
любовно выписывать каждое словцо будут позже писатели-народники.
Сергей Городецкий назвал «Ночлег извозчиков», «Купца на пчельнике» и некоторые
другие ранние никитинские очерки русскими идиллиями, «единственными в своем
роде».
Подобных лирико-повествовательных картин Никитин создал немало на первом
этапе творчества. От этих картин веяло поэтической удалью Кольцова, сердечной
тоской Огарева, задушевной тревогой Некрасова, но были и краски никитинские:
улыбчивая грусть, обнаженная пейзаж-кая графика, густая сказовая речь, как бы
намеренный художественный аскетизм.
30
Трещит по всем швам семейно-бытовой уклад некогда мирного деревенского дома.
Мужик Пантелей в никитинской «Ссоре», вспоминая былое согласие в своей избе,
восклицает:
Ах ты, время мое, золотая пора,
Не видать уж тебя1, верно, боле!
Как, бывало, с,зарей на телегах с двора
Едешь рожь убирать в свое поле...
Сломили Пантелея хозяйственные неурядицы, семейные скандалы, неверность
злодейки-жены, и забросил он крестьянские дела, запив горькую.
Семейный мир героев Алексея Кольцова почти не знал таких темных и грязных
диссонансов, в нем было больше гармонии природы и человека. Никитинский
внутренний крестьянский мир раскалывается грубее, семейные устои рушатся под
натиском меркантилизма, в котором уже не остается места патриархально-
нравственным святыням.
Семейно-общинная идиллия, еще вчера, казалось 'бы, такая картинно-лубочная,
оборачивается своей неприглядной стороной. В этюм отношении характерно
стихотворение с символическим названием «Дележ», где повествователь без утайки
рассказывает о крахе когда-то крепкого дома:
Да, сударь мой, нередко вот бывает: Отец на стол, а детки за дележ, И брата брат за
шиворот хватает... Из-за чего? И в толк-ат не возьмешь!
Это вовсе не сатира на семейную кутерьму, а своего рода «моментальный снимок»
разрухи патриархального уклада жизни. «Мысль семейная» в ранних стихотворных
новеллах поэта новаторски предугадывает прозу беллетрис-. тов 60—70-х годов, по-
своему осуществляет одну из задач «реалистов», которую позже определит Д. И.
Писарев: «Частная жизнь и семейный быт наравне с экономическими и
общественными условиями нашей жизни должны обращать на себя постоянное
внимание мыслящих людей и. даровитых писателей».
Поэтическое зрение Никитина так устроено, что в первую ^ouffpp^ жизни
"крестьян-ской семьи, он, можно сказать, обречен "видеть быт в его поломанной
оправе. «Упрямый отец» в одноименном стихотворении выдает замуж дочь за
немилого, но богатого – и нет счастья, и гибнет все вокруг; пропали уют и любовь в
избе свекрови, которая понапрасну измучила работящую невестку и без конца шпыняет
заступающегося за нее старика («Порча»); крестьянская девушка оказалась без копейки
на улице и вынуждена продавать себя в утеху богатым сластолюбцам («Три встречи»).
Лейтмотивом «раннего» Никитина стал труд как мера всего сущего («А трудиться
надобно: человек на то...» – говорит горемыка в одном из его-стихотворений). Работа
врачует молодого героя от несчастной любви («Неудачная присуха»); старый мельник в
одноименном стихотворении вспоминает свои трудовые будни как отраду юности.
Мужицкий пот на пашне – еще не спасение от беды, ^сть какая-то неведомая сила,
отнимающая у крестьянина самые простые радости («...Какой-то враг незримый Из
жизни пытку создает И, как палач неумолимый, Над жертвой хохот издает...» —
говорится в стихотворении «Мне, видно, нет другой дороги...»). Никитинский пахарь
пока еще не понимает причин этого зла, из его груди вырывается лишь отчаянный стон:
Не дозрела моя колосистая рожь, Крупным градом до корня побитая!.. Уж когда же
ты, радость, на двор мой
войдешь?
Ох, беда ты моя непокрытая!
А. В. Кольцов тоже немало скорбел о безутешной крестьянской судьбе, но в его
произведениях остается хотя бы стихийная надежда («Без любви и с горем Жизнью
наживемся!»*, «Может, наша радость Живет за горами»). И. С. Никитин со своим
31
«дворницким реализмом» (выражение А. Т. Твардовского) смотрит на мужицкое
настоящее жестко и даже жестоко («Лампадка»).
Все мрак и плач... рубцы от бичеванья..
Рассвет спасительный далек... И' гаснут'дни средь мрака и молчанья,
Как этот *бледный огонек!
Те же мотивы тоски и безнадежности в стихотворениях «Уличная встреча», «Н. И.
Второву», «Рассказ крестьянки», «Взгляни, небесный свод...» и других. Лирика с ее
фиксацией тончайших душевных движений отступает перед своего рода эпико-
публицистическим протоколом действительности.
«И все я в памяти желал бы сохранить, Замкнуть в обдуманное слово», —
прокламирует поэт свою твор: чёскую позицию. «Я, как умел, слагал свой стих, – Я
воплощал боль сердца в звуки...» – открывает он секрет своего метода.
Лев Толстой высоко ценил достоинство такой поэзии и в 1886 г. говорил (запись Н.
Н. Иванова): «Двадцать, тридцать лет тому назад и еще раньше нужно было писать все
то, что писали Некрасов, Никитин и другие о народе; в то время нужно было вызвать в
обществе сочувствие к народу».
Никитин не просто «печальник» бедных и униженных, как любили именовать его
встарь, – страдая вместе со. своим героем, он предупреждает:
Долго ли томиться? Слез в очах не реки. – Грянь ты, горе, громом, Упокоц навеки!
Л«В доме позатихло...»)
Наиболее известными стихотворениями, венчающими первый период поэтической
работы Никитина, были «Соха»,
«Нищий», «Пряха». Их высоко^ ценили Н. А. Добролюбов и другие критики, они
были очень популярны в народе* рисунки на темы этих произведений обычно
сопровождали многие дешевые лубочные издания.
«Воистину Никитин.как гражданский лирик имеет право на почетное прозвище
«певца трудовой бедности», – пи> сал в 1909 г. В. Е. Чешихин-Бетринский.
Некоторые ученые не без оснований считают, чтф Никитин в идейно-
художественной разработке народнбйм проблемы явился передаточной поэтической
станцией меж}| ду Кольцовым и Некрасовым. «Надо сказать, что своей| песней
пятидесятых годов, – делает принципиальное заме-^ чание Н. Н. Скатов, – Никитин
не только следовал за Некрасовым, но в чем-то предвосхищал и готовил .не-
красовскую песню шестидесятых годов. Именно на некрасовском пути Никитиным
были сделаны открытия, которые затем более широко и точно реализовались в
творчестве самого Некрасова, и прежде всего это рассказ-песня. Вообще в поэзии
Никитина пятидесятых годов, – заключает ученый, – можно найти немалр образов,
которые получают продолжение и развитие в творчестве Некрасова шестидесятых
годов».
Никитин, в частности, готовил некрасрвскую школу в изображении социальных
низов, причем то были не случайные портреты падших «созданий», а показ типичного
общественного явления. В этом отношении никитинский «Нищий» – замечательная-
художественная фреска общероссийской .страшной картины оскудения народа
накануне отмены крепостничества.
Н. А. Добролюбов в «Современнике» находил, что «Нищий» – «едва ли не
лучшее» произведение среди подобных на эту тему, де Пуле в «Русском слове» восхи-
щался «высотою поэтического полета, законченностью идеи и мужественною силою
стиха». Обязательно говори^ ли об этом скорбном герое историки литературы, часто
вспоминали его советские писатели. Напомним строки, волновавшие не одно
поколение читателей:
32
И вечерней и ранней порою Много старцев, и вдов, и сирот Под окошками ходит с
сумою, Христа ради на помощь зовет.
Надевает ли сумку неволя, Неохота ли взяться за труд, – Тяжела и горька твоя
доля, Бесприютный оборванный люд!
Далее поэтический обзор расширяется, обнимает уже не только страдальцев по
несчастной семейной доле, а весь крестьянский мир:
Но беднее й хуже есть* нищий: Не пойдет он просить под окном, Целый век, из
одежды да– пищи, Он работает ночью и днем.
Спит в лачужке, на грязной соломе, Богатырь в безысходной беде, Крепче камня в
несносной истоме, Крепче меди в кровавой нужде.
По смерть зерна он в землю бросает По смерть жнет, а нужда продает, О нем
облако-слезы роняет, Про тоску его буря поет
Нищая Россия... Гордая, терпеливая* трудовая... Частная картина вырастает до
огромного общественного масштаба, герой из калики перехожего превращается в могу-
чего поруганного богатыря, за которого готова заступиться сама природа.
«Нищий», особенно во второй своей части, можно сказать, выкован скульптурно-
поэтически: слово очищено от всего искусственного, сравнения зримы, метафоры му-
жественны.
Гармония в «Нищем» достигается не внешними эффектами, а огромной внутренней
динамикой переживания, здесь нервно дышит каждая строка, напряженность слова
достигается внутренним накалом содержания, в котором истинная боль за униженное
достоинство человека.
Трудолюбие и жизнестойкость, нравственная просветленность и сердечная
доверчивость – это еще далеко не полный никитинский «реалистический автопортрет
народа» (Евг. Евтушенко). И тот, кто воспринимает автора «Пахаря» исключительно как
певца мужицких горестей и печалей, идет лишь по одной узкой дорожке, старательно
проторенной «изучателями» его наследия. Меж тем образ русского работника в самом
начале творческого пути складывался у поэта (не без влияния Кольцова) как героя
вольного, пытливого, бесшабашного. В этом плане примечательно стихотворение
«Выезд, троечника», в котором за дело берется человек мастеровой, удалец, умеющий
постоять за себя:
Сидор вожжи возьмет – Черта не боится!
Пролетит – на него Облачко дивится!
«Пахарь», «Соха», «Нищий» и другие стихотворения стали не только
публицистическими свидетельствами о вопиющей бедности русского трудового
человека,, но и скрытым предупреждением власть имущим о назревающем взрыве
народного негодования. Царское правительство йе прошло мимо этого и других
настораживающих литературных фактов. В книге с грифом «Секретно», вышедшей в
Петербурге в 1865 г. и предназначавшейся для высоких-чинов министерства
внутренних дел, даны казенные характеристики почти всех к тому времени известных
поэтов. Книга эта называется «Собрание материалов о направлении различных
отраслей русской словесности за последнее десятилетие и отечественной
журналистики за 1863 и 1864 гг.». В разделе «Поэты, предметом песнопений которых
суть по . преимуществу народ и разные общественные вопросы» значатся SA. Хомяков,
И. Аксаков, Т. Шевченко, Н. Некрасов, И. Никитин...
Безымянный официозный критик (по мнению историка М. К. Лемке, им был граф
П. И. Капнист) докладывал «по начальству» о Никитине: «...по направлению он во мно-
гих из своих произведений подходит к тем лирикам, которые задались темой
гражданской скорби и изображением угнетения, разврата и страдания простого
народа». Все верно, вот только «разврат» автор секретного свода, очевидно, разумеет
33
по-своему. .Далее следует сдобренный комплиментом политический донос: «Другие
лирики наши, принадлежащие к этому же направлению, – делает вывод полицейский
литнадсмотрщик, – не обладают до такой степени значительным талантом, чтобы
своей собственной творческой фантазией, подобно г. Некрасову или Никитину,
изображать русский народ с несвойственными ему чертами социализма или пауперизма
Доля правды в министерском доносе была – в творчестве автора «Пахаря» все
более зрели социальные мотивы, изображение народных характеров приобретадо все
большую общественную значимость и психологическую глубину. Однако прервем этот
разговор, чтобы поведать о том, о чем обычно биографы Никитина сообщают
скороговоркой, как о нечто излищнем, не идущим к традиционно вдохновенному
облику певца. Творческие муки, как ни у какого
1 Пауперизм – нищета трудящихся масс в странах* капитализма.
другого русского поэта, переплетались у него с муками житейскими, физическими.
мужество
«Однажды, пробуя свою силу, Никитин поднял громадную тяжесть... «что-то
оборвалось у него внутри.t» – писал Иван Бунин в статье «Памяти сильного
человека». – Это надломило его здоровье. Новая же неосторожность – ранней весной
он бросился купаться' в реку – доконала совсем: сперва была горячка, а потом
пришлось дЬлго лежать в постели. Но редкая физическая мощь, удивительная сила
духа долгие годы боролись и с недугами и со всеми житейскими неудачами».
К этим словам писателя из задуманной, но несостоявшейся биографии земляка
следовало бы приложить «скорбный лист» (так в XIX в. называли историю болезни),
однако ни одного листка не сохранилось, да и вряд ли «пользовавшие» поэта лекари
когда-нибудь его вели – недосуг было им регистрировать многочисленные хвори
мещацина-дворника.
И непозволительная это докука для провинциального Воронежа, где в ту пору часто
свирепствовали эпидемии и люди гибли тысячами. Вот избранная печальная статис-
тика: в 1848 г. в губернии от холеры погибло более 56 тысяч человек, в 1848—1849 гг.
цинга и голод унесли в могилу около трех тысяч, а «гнилых горячек», лихррадок-
лихома-нок и прочей напасти не счесть.
Десять лет – с 1837 по 1847 г. – в Воронеже стояло «горелым» здание больницы,
да и позже, когда его обстроили, найти здесь лечение было трудно. Докторов в*городе
всегда не хватало, а те, что значились, не отличались талантом и образованностью.
Впрочем, были исключения. Поэта Алексея Кольцова в последние годы его жизни
лечил замечательный врач Иван Андреевич Малышев, о душевном благородстве
которого тепло писал Белинский.
Между прочим, в 1842—1843 гг. И. А. Малышев состоял штатным врачом при
Воронежской духовной семинарии, когда там учился Никитин. Позже они могли
встречаться через посредство его сына Ивана, члена второвского кружка и близкого
знакомого поэта.
В 1855 г. Ивана Саввича лечил преемник Малышева по лекарской части в
семинарии, воспитанник Дерпт-ского университета Федор Борисович Тидель.
Состояние поэта, заболевшего тогда горячкой, не улучшалось. Он почувствовал себя
совсем плохо. М. Ф. де Пуле свидетельствовал: «За горячкою последовало скорбутное
состояние: он лишился употребления ног и постоянно лежал в постели». «Впереди
представляется мне картина: вижу самого себя медленно умирающего, с отгнившими
членами, покрытого, язвами, потому что такова "моя болезнь!»—.определял летом .
1855 г. свое ужасное положение Иван Саввич. Новый врач – Кундасов буквально
поставил его на ноги. Он отменил прежнюю осточертевшую диету, разрешил есть
грубую пищу: кислые щи, солонину, пить квас... Однако, увы, скоро к надоевшему
34
режиму пришлось вернуться: Никитин продолжал маяться болезнью желудка,
кишечной чахоткой, как говорили в ту пору. «Когда я познакомился с Никитиным, —
вспоминал Н. И. Второв, – он уже постоянно жаловался на расстройство желудка и
питался только куриным супом с. белым хлебом да какой-нибудь кашицей».
Первое из дошедших д<о нас стихотворений Никитина датировано 1849 г.
Нач§до^его творчес^гопути совпадает и с началом его ф5Шншшл.^^^ёё^и•
^Страстотерпцем» называли его современники. Это не* метафора, которую часто
прилагают к певцам душевных невзгод. Примечательно, что он никогда не
предназначал к печати те немногочисленные стихотворения, в которых прорывались
его лич: ные физические страдания: то были обычно самоиронические строчки,
обращенные лишь к друзьям. Когда у него раскалывалась от боли голова, когда кровь
застывала в жилах, когда неумолимая хворь лишала его возможности сделать шаг, он
если брался за перо, то лищь за тем, чтобы набраться новых сил для борьбы, чтобы
хоть как-нибудь облегчить мучения в слове.
Он тяжело проболел почти весь 1858_г. В конце мая купец А. Р. Михайлов приютил
его у себя на даче, где поэт, кстати, спасался от домашних пьяных безобразий отца.
Местечко было, правду сказать, сквернейшее: рядом салотопенные заводы, ужасное
злороние, тучи мух («заметьте, слово «тучи» не преувеличено: читать не дают, так
кусают!» – писал Никитин одному из друзей), лай собак по ночам... А он находит в
себе силы еще шутить в рифму:
Дождь и холод – нет погоды! Выйти некуда – хоть брось! Виды – сальные
заводы.,4 Выздоравливай небось!
Наслаждайся в этом рае! Слушай,, музыка пошла: Свинки хрюкают в сарае, Лай
собака подняла...
(«Дачная жизнь»)
Эти строчки из его рифмованного «скорбного листа» друзья напечатают уже после
его кончины – он не придавал им серьезного значения. И так всегда: когда ему
становилось невыносимо тяжело, он чаще отделывался грубоватым стихотворным
куплетом, а подлинное копил в душе для более светлого часа. Лишь в письмах к
близким людям жестко и лаконично сообщал: «плохота, но креплюсь» Так,
приведенные выше стихи из «Дачной Жизни» он сопровождает позже бесстрашным
комментарием: «Природа наделила меня крепким организмом: хотя я и задыха*юсь, а
все еще жив».
Вот избранные строки из его писем лишь одного 1858 г.: 3 апреля: «Живется
невесело... на дворе и в доме постоянная толкотня, шум, крик, точно ярмарка. Только
что позатихнет, явится головная боль, залдмит грудь...» 14 апреля: «...голова страшно
болит...» 25 июля: «...здоровье мое плохо. Доктор запретил мне на время работать
головою. Вот уже с месяц ничего не делаю и пью исландский мох». 5 сентября: «...Я
все болен -и болен более прежнего. Мне иногда приходит на мысль: не отправиться ли
весною на воды, испытать последнее средство к восстановлению моего здоровья? Но
вопрос: доеду ли я до места? Болезнь отравляет мою жизнь, не дает мне работать,
отнимает ^у меня всякую надежду на будущее...» 19 сентября: «Пью капли, обливаюсь
холодной водой, и все бесплодно, сделался настоящим скелетом...» 6 октября:
«...принимаю холодную ванну, после которой бегаю по улицам или по двору в теплой
шубе в ясный солнечный день, бегаю до того, что подкашиваются ноги, й едва-едва
согреваюсь». 27 октября: «Грудь слишком наболела...» На этой записи, увы,
никитинский «скорбный лист» не кончаетдя.
1859 г. прошел для него не легче. Доктор Павел Михайлович Вицинский старался
использовать все возможные средства: распухшие, покрытые красно-синими пятнами
ноги измученного Ивана Саввича на ночь обертывали дрожжами, пичкали его
35
гомеопатией, меняли диету – помогало, но не надолго. Никитин спустя два года благо-
дарно– писал доктору, переселившемуся к тому времени в другой город: «...я Вас не
забыл потому, что не в моем характере забывать близких мне людей. А Ваши заботы о
моем здоровье?» Вообще к своим лекарям-спасителям поэт относился душевно и
доверчиво. Сменившего П. М.. Ви-цинского врачевателя Михаила Владимировича
Болхови-тинова он характеризовал как «умного человека».
В периоды кризиса ему дорого стоили часы вдохновения. «Мы не раз были
свидетелями кровохаркания и полнейшего физического изнеможения, которые
являлись у Никитина после минут, драгоценных для всякого художника», – вспоминал
де Пуле.
Поэт стоически переносит телесные муки, в письмах эта неприятная тема всегда
затрагивается вскользь, ибо, по его словам, «к чему же утомлять– чужое внимание пе-
чальным вытьем?..». Он трезво и смело смотрит на своё нёсчас'тье, старается скрыть
.горечь положения грубовато-шутливой фразой/юмор иногда выходит не веселый, даже
жутковатый, но Таков его истинный, а не фальшиво-хрестоматийный портрет.
Искренно беспокоясь о здоровье добрых знакомых, сам уставший от схваток с недугом,
он, как бы между прочим, без надрыва, пишет, «что в один прекрасный день понесут
Вашего покорнейшего слугу в сосновом ящике на новоселье! А кладбище со мной по
соседству; решительно не встретится трудности в переселении...». Это взгляд воина
перед неравной битвой.
Никакой мизантропии, никакой плаксивости и растерянности, наоборот, он
оптимистически сохраняет надежду: «Итак, будем жить. С боя возьмем радость, если
она не дастся добровольно, не то – и без нее обойдемся, точно как обходится нищий
без вкусных блюд». В том же письме еще и балагурит, сообщает о бытовых пустяках,
передает милые поклоны. 27 октября 1858 г., сказав мимоходом друзьям о
продолжающемся домашнем аде, тут же добавляет: «...жаловаться на судьбу – не в
моем характере...» Милостыню от нее он не принимает, надеется только .на себя:
«...будем биться с невеселою долей...»'Поразительная сила духа! Врач говорит, что у
него нет правого легкого, а он усмешливо храбрится, не верит: «...должно быть, врет».
Никитин – аскет, что, однако, не мешает ему быть снисходительным к людским
слабостям, ободрять других в их житейских неурядицах и драмах. У него дома с
Саввой Евтеичем нелады, а он по-братски успокаивает нижнеде-вицкого приятеля И. И.
Брюханова, поссорившегося со своим отцом; он сам изнемогает от болей, а в письме
по-сыновьи утешает слегка занемогшую помещицу А. А. Плотникову («...каждый член
Вашего милого семейства должен жить долго, очень долго...»); он сам еле дышит от
приступов в груди, задыхается в тисках долгов, но, случайно узнав о смерти дальнего
родственника – портного Тюрина, казнится своим мнимым равнодушием и хоронит