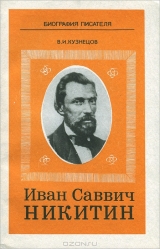
Текст книги "Иван Саввич Никитин"
Автор книги: Виктор Кузнецов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
крайней мере, поэтическое чургтво»-
"~ а сути и тоне статьи Чернышевского необходимо разобраться. Критика
«Современника» была направлена в первую очередь против"консерватора Д. Н.
Толстого, вернее, его предисловия. Рецензент почти не скрывает своего сар-
кастического отношения к нему; вступительную статью он иронически аттестует как
«прекрасное предисловие», часто подчеркивает: «граф Д. Н. Толстой», «как нас;
уверяет граф...», «Гр[аф] полагает...» – везде непременно с титулом! И в заключение с
плохо скрываемым политическим подтекстом: «...так оно (мнение Д. Н. Толстого. – В.
К) прекрасно и умеренно высказано и такими благородными чувствами внушено».
Фигура благонамеренного издателя заслоняет в статье Чернышевского самого поэта, и
наблюдательному читателю это не трудно увидеть.
Абстрактные ссылки Чернышевского на холодность к поэту «публики» имели,
скорее, общественный, даже политический смысл, нежели конкретно-эстетический.
Под «публикой» разумеются радикально-демократические читатели, не случайно
критик многозначительно оговаривается: «...публика – очень тонкая и верная
ценительница всяких, поэтических и не поэтических, дел» (выделено нами. – В. /(.).
«Ныне уж не та стала наша публика», – настойчиво повторяет Чернышевский, и было
бы упрощением думать, что и вправду он имеет здесь в виду возросший
художественный вкус российского «среднего» читателя; «не та» -общественная мысль
после Крымской войны, «не та» политическая атмосфера, чтобы «правый» 'граф Д. Н.
Толстой ныне ее определял, рисуя идиллическое состояние духа крепостных «сельских
жителей».
Несомненно, эти скрытые «подводные камни» словесности во многом повлияли на
резкость тона Чернышевского. К тому же не следует и абсолютизировать оценки еще не
имевшего сравнительно большого опыта критика. И. Тургенев и Л. Толстой именно в
1856 г. предъявляли к нему серьезные претензии.
С никитинской книгой 1856 г. связана и внетворческая история, которая, возможно,
повлияла на восприятие личности автора. Ему долго не могли простить подношения
первого сборникаАлександру ГГ и особам царской фа м и -лии с "соответствующими
эпистолами. Идея «подарка» исходила 6т~~графа ДГ~Й. Толстого, который, кстати, и
не собирался на этот счет спрашивать мнения Никитина. Еще до выхода книги из
печати Д. Н. Толстой 11 января 1856 г. «инструктировал» поэта через Н. И. Второва:
«Скажите ему, чтоб он немедленно прислал мне письма к Государю, царствующей и
вдовствующей императрицам, Наследнику и Константину Николаевичу (великому кня-
зю.– В. К.). Я поднесу им экземпляры от его имени: авось что-нибудь дадут. .»
Последнее житейское «авось» плюс очевиднре соображение «его сиятельства»
19
предстать перед царским двором покровителем «самородка из низов» – основные
мотивы всей этой затеи.
До царя рказалось высоко, но некоторые члены августейшей фамилии откликнулись
– воронежскому поэту-мещанину были пожалованы приличные подарки. Никитин
никак не ожидал такого благосклонного внимания и пребывал в смятении. Его
племянник Л. А. Никитин позже вспоминал, как эта церемония происходила. Сам
воронежский губернатор в сопровождении чиновников явился на гюстоЮГМн'ДЬбр к
возмутителю провинциального спокойствия. £го долго искали и наконец обнаружили
на сеновале, что всех несколько сконфузило. Оправляя поддевку и стряхивая
прилипшую солому, окончательно растерявшийся поэт принял высочайшие подарки и
сказал что-то* невразумительное, в ответ на громкую тираду губернатора. ^На том
церемония и завершилась. Иван Саввич не любил о ней вспоминать, но болезненный
критический выпад «Современника» долго не забывал. Он был против навязывания
художнику чужого видения мира, против субъективно-одностороннего толкования
Пушкина, какое, встречалось в «Современнике», против " крайностей в литературных
оценках. Пытался ответить Никитин и на главный упрек Чернышевского – слабую
связь его поэзии с «горькою действительностью»: «Попробовал бы г. рецензент
"пройти по уши в грязи по той самой дороге, по которой идет автор-мещанин, я
послушал бй тогда, как он воспел эту грязь и скоро ли взялся за пенье!»
Критика «Современника» не пришлась по сердцу Никитину, но она пришла
вовремя, заставив его пересмотреть свои смутные представления о роли и назначении
поэзии, увереннее выбрать свою дальнейшую дорогу. А. П. Нордштейн
свидетельствовал, что после этой встряски Никитин не сник и однажды в дружеском
кружке, когда речь зашла о его «избиении» журналом,, грохнул кулаком – да так, что
стол затрещал, – и сказал, что у него есть талант!.
Прошло некоторое время, страсти улеглись, и отходчивый поэт уже не воспринимал
статью в «Современнике» так драматически, как по свежим следам. Холодный крити-
ческий ушат все-таки подействовал освежающе.
тревоги и радости
Не скоро поэт выбрался из Воронежа погостить в семействе помещиков
Плотниковых. Удерживал постоялый двор, мучило расстроенное здоровье. А тут вдруг
несчастье: умер друг-сверстник Иван Иванович Дураков, о котором в бйо-
2 Заказ 819
вз:
графии Никитина, к сожалению,* почти не осталось следов. В печальную минуту
поэт признался: «...Я только теперь оценил его ко мне любовь, бескорыстную
преданность, всегдашнюю готовность служить почти рабски..-»
Убитый горем поэт в память о рано сгоревшем от чахотки друге написал «Новую
утрату»:
Все чудится – я слышу милый голос, Все жду, что друг отворит дверь... Один
остался я теперь, – На сжатой ниве позабытый колос!
Беда в одиночку не ходит: внезапно умер и другой добрый приятель Ивана Саввича
– И. И. Малышев, журналист-краевед, помощник Н. И. Второва по изданию местных
исторических материалов, сын известного в городе доктора И. А. Малышева,
лечившего поэта А. В. Кольцова. Стало еще сиротливее...
Одиночество – пронзительный ^никитинский мотив. Поэт постоянно ощущал
недостаток творческого и еще более житейского общения. Рядом были мудрый и
чуткий Н. И. Второв, честный и импульсивный И. А. Придорогин,, порядочный и
суховатый М. Ф. де Пуле, но встречи с ними случались редко, а Никитину хотелось
20
общения дружески-семейного, свободного "от невольных условностей и сковывающего
сознания «неровни».
Знакомство с Плотниковыми пришлось Никитину по душе: глава семейства,
Вячеслав Иванович, господин степенный, обходительный, несколько старомодный, но
не кичли-вьгй; с Иваном Саввичем приветлив и доброжелателен. Хозяйка
дмйтриевской усадьбы, Авдотья Александровна, женщина набожная, хлопотунья по
домашним делам, мастерица по части пирогов и всяческих солений и в то же время
охотница до. стихов (однажды Никитин спрашивал ее: «Нравится ли Вам Некрасов?»).
С ними живет ее брат Павел Александрович, всецело занятый сельским хозяйством и
мыслями о том, как бы подешевле нанять работников и подороже сбыть уродившуюся
рожь. Иногда наезжала в Дмитриевку Варвара Никитична Бегичева, сестра известного
писателя Дмитрия Бегичева, автора романа «Семейство Холмских», Она давно
отказалась от мирской суеты, приняла имя Смарагды и усердно служили игуменьей
женского монастыря. С Плотниковыми она состояла в родстве, ее почитали за
рассудительность и мягкость нрава. «Ваше милое семейство, – пишет Плотниковым
Никитин,–поистине стоит всего лучшего: оно в целом и
порознь умеет как-то вносить с собою всюду теплый свет ласки, добра и мысли».
О Наталье Плотниковой, любимице семьи, речь особая. Что греха таить, когда
Никитин в первый раз выбрался в Дмитриевку в мае 1856 г., у него перед глазами стоял
наивно-прелестный образ этой девушки. В ее обществе Иван Саввич расцветал, болтая
по-французски, нарочно коверкая произношение, напропалую шутил («находит
планидами», – говорил Иван Саввич).
Прослышав о приезде модного поэта в Дмитриевку, туда приезжали соседи
Плотниковых, дабы поглазеть на Местную знаменитость и себя показать. Никитин
сердился, глядел бирюком и целыми днями не показывался из отведенной ему комнаты,
ворча, что на него съезжаются смотреть, «как на какого-то дикого зверя» Вообще
состояние его духа часто скакало от взрыва почти мальчишеской беспричинной
веселости до отчаянной угрюмости.
В августе у Натальи Вячеславовны был день рождения, и поэт посвятил ей
стихотворение «Как голубь, кротка и нежна...». Всего одна строфа, правду сказать,
довольно-таки банальная. Никитин не ограничился столь скромным опусом и скоро
создал новое послание – «В саду». На этот раз бдительный папаша, дабы не искушать
невинность дочери, предупредил подношение и спрятал сочинение милейшего Ивана
Саввича в ящик письменного стола. Наталья и ее гувернантка случайно прослышали о
том и вечером, когда все уже хорошенько откушали, натанцевались и теперь
прогуливались, любуясь устроенной в саду иллюминацией, .пробрались в кабинет
Вячеслава Ивановича и изъяли «запретный плод», а затем изучали его при свете
фсжарика. Так позже рассказывал о сем романтическом приключении один из
родственников Плотниковых.
Комментируя почти 40 лет спустя этот сентиментальный сюжет, зять Натальи
Вячеславовны В. П. Малыхин свидетельствовал: «То обстоятельство, что Никитин
просил позволения у отца Натальи Вячеславовны посвятить и прочесть ей стихи... дает
право предположить, что его чувство к Наталье Вячеславовне не было чувством
простой вежливости». *
Профессор А. М. Путинцев, посвятивший много своих работ Никитину, восстал
против такой версии. Оговорившись, что первой любовью поэта была Аннушка
Тюрина (очень неубедительная и надуманная история), он создал свою красивую
легенду. Согласно ей, Иван Саввич, хотя и заглядывался на Наталью, тем не менее был
очарован ее подружкой – учительницей Матильдой Ивановной Жю-но. Таинственная
молодая иностранка, живая, смешливая, бойкая, и влюбленный в нее русский поэт —
21
все складывалось в пользу привлекательности такого сюжета. В качестве главного
аргумента приводилось стихотворение Никитина (В альбом М. И. Жюно):
И дик и невесел наш север холодный,
Но ты сохранила вполне ^
Горячее сердце и разум свободный
В суровой чужой стороне...
А. М. Путинцев склонен относить Матильде и ряд дру^ гих стихотворений'Ивана
Саввича. Доказательства ученый строил весьма зыбкие, ошибался в фактах. Он не знал,
к примеру, что загадочная швейцарка вовсе не уезжала из Воронежа на родину,"а
служила позже у родственников Плотниковых и умерла в 1884 г.
Писем М. И. Жюно или каких-либо документов, связанных с ней, не сохранилось. В
жизни поэта она промелькнула светлым холодноватым лучом и больше не возникала,
kte его посланий к Плотниковым не заметно, что он действительно был влюблен в нее:
приветы-поклоны, упоминания об изучении французского языка, разные бытовые
мелочи .'. – и ни одного хотя бы намека на сердечное чувство.
Еще больше запутало эту историю сохранившееся в архиве поэта загадочное
стихотворение «На память И. С. Н.». Это послание в свое время вызвало целое
«следствие» в интимной биографии Никитина, породило десятки гипотез. На наш
взгляд, автором самодеятельной прощальной элегии («В саду, которого мне больше не
видать^..») была Наталья Плотникова. В этом нас убеждает сравнительно-
стилистический анализ стихотворения и писем Никитина к Плотниковым, в которых
фигурирует имя молодой хозяйки Дмитриевки.
Весна 1856 г. оставила чуть приметный отпечаток в лирике Никитина. Это была
пора его лучших надежд – увы, несбыточных.
Поник я в тоске головою, Под песни душа замерла... Затем, что под кровлей чужою
Минутное счастье нашла...
{В альбом Н. В. Плотниковой)
Лирический герой Никитина жадно ищет сердечной радости, но не находит
ответного зова. Он, как всегда,
обращает свой взгляд к природе, великой и недоступной человеку, гибнущему от
общего зла и собственного несовершенства:
Гляжу и любуюсь: простор и краса...
В себя заглянуть только стыдно: Закиданы гр'язью мои небеса,
Звезды ни единой не видно!.. ( («Рассыпались звезды, дрожат и горят...»)
Поэты – современники Никитина, создавая идеал жен-щинь^ поднимались над
обыденным, бытовым, нередко; как Аполлон Майков, уходили в сконструированный
идеальный мир', убегали в далекое прошлое – будь то овеянная мифами мудрая
Греция или дивная Италия. Иван Саввич в любовной теме прикован к прозе бытия, его
фантазия скована собственной трудной судьбой – оттого-то его произведения почти не
знают светлой интимной музыки. «Никитинская лирика любви, – писал Сергей
Городецкий, – это лирика несчастной любви».
Не девичьи «ланиты», не прелесть «очей», не «ножка дивная»,, а верная подруга и
заботливая мать, согласие: в доме – вот о чем его песня:
Первый гром прогремел. Яркий блеск в синеве,
В теплом воздухе песни и лега; Голубые цветки в прошлогодней траве
Показались на свет из-под снега.
Пригреваются стекла лучом золотым;
Вербы почки свои распустили; Й с надворья гнездо над окошком моим
Сизокрылые голуби свили!
(«Первый гром прогремел...»)
22
Тем же семейным настроением согрето стихотворение «Гнездо ласточки», где
контраст «элементарного» счастья «певуньи» с утробным существованием
ненасытного мельника достигает подлинного драматизма.
Много позже поэт-народоволец П. Ф. Якубович, испытавший влияние Никитина, в
своей книге «В мире отверженных» поведает, как начальник тюрьмы прикажет разо-
рить сотни гнезд ласточек, приютившихся под стрехами острога. Нравственно-бытовой
план никитинского стихотворения П. Ф. Якубович возведет в план социальный, поли-
тический, противопоставив человечность и деспотизм.
В начале поэтического пути Никитин подражал Кольцову, стремился исследовать
любовную страсть («Измена» ц др.)> н0 скоро он отказывается от заимствованных об^
разов и интонаций. Вечная тема раскрывается им в гар-' монии природы и душевного
порыва, его чувство стыдливо; оно – предощущение, предвосхищение, он не
столько .любит, сколько грезит о любви:.
В чаще свиста переливы, Стрекотня и песен звуки. Подле ты, мой друг стыдливый...
Слава Богу! миг счастливый Уловил я в час разлуки!
(«В небе радуга сияет...»)
Никитин не мастер диалектики любовного переживания, ег@ народное сознание
сокровенного целомудренно, оно не йриемлет интриг и потому чисто и доверчиво.
Одно из его самых замечательных ранних произведений о любви – «Черемуха».
Оно появилось в печати сяустя более прлувека после его написания – факт, говорящий
о том, что поэт не придавал большого значения интимной теме в своем творчестве.
Обаяние «Черемухи» в фольклорной основе, в мастер>-сжш развитии Никитиным
народно-песенной традиции, в слитности чувств человека с природными явлениями.
Здесь есть движение лирического сюжета, переливы ощущений, тонко найденная
интонация:
Много листьев красовалося На черемухе весной, И гостей перебывалося Вплоть до
осени сырой.
Издалека в ночь прохладную Ветерок к ней прилетал И о чем-то весть отрадную
Ей, как друг, передавал.
«Но пришла зима сердитая...», отцв'ела красавица, как ©тцвела девичья любовь:
Все к нему сердечко просится, Всё его я жду, одна; Но КО мне, знать, не воротится,
Как к черемухе, весна...
Трудно комментировать такое – все равно что подвергать спектральному анализу
вечернюю зарю или объяснять химический состав благоуханного цветка.
Никитин в интимной лирике редко поддается всепоглотающей любви – страсти,
его эстетика и этика сродни народной философии, в– которой нет искусственного мудр-
ствования, умничания, ибо, по выражению поэта:, «вся прелесть в простоте и правде».
Любовь для Никитина всегда единственная, он боится растратить .это душевное
состояние на прихотливую чувственность. Он максималист в слове и поступке по
сравнению со многими поэтами, рисовавшими привлекательный моральный фасад
мироздания, но порой лично входившими в него с черного хода. В. Е. Чешихин-
Ветринский в статье о Никитине полемически замечал: «...его нравственная,
стоическая философия – явление совершенно новое сравнительно с довольно
расплывчатым нравственным укладом в личности ^Кольцова». И утверждал:
«Потомство ему верит!» Можно и не согласиться с автором такого заявления, но нельзя
отказать ему в осознании рысоты завещанного никитинского идеала человека.
Собственно «амурной» лирики у Никитина почти нет, ранние стихотворения
лишены эмоционального полета, рационально-рефлективны и отягощены собственным
горьким опытом («День и ночь с тобой жду встречи...», «Чуть сошлись мы – друг
друга узнали...» и др.).
23
Перед нами драма несбывшегося, трагедия внутреннего одиночества,
усугубленного тяжким бытом, утратой дру^ зей и близких.
Не успел Никитин пережить большие и малые беды – новое огорчение: Воронеж
покинул Н. И. Второв, переехавший на службу в Петербург.
Поэт пал духом: «Грустная будущность! – хмурится он в письме к другу. – Но что
же делать! Видно, я ошибся в выбранной мною дороге».
...И деревня Дмитриевка уже не глядела столь приветливо. Наталья Плотникова
скоро стала Домбровской.
Жизнь продолжалась... У Плотниковых Никитин познакомился с их соседкой и
родственницей, милой двадцатилетней девушкой, непохожей на своих уездных подруг:
начитана, самостоятельна в суждениях, скромна и естественна, но все это в ней Иван
Саввич увидит позже.
Теперь же он был сдержан, недавние* хоть и. неглубокие сердечные ссадины
давали себя знать и удерживали от глупых юношеских порывов.
...Любовная песня осталась недЪпетой. Но зрела иная, правдивая и выстраданная.
«пахарь»
Шла Крымская война. Героически защищался Севастополь... Поздними вечерами,
умаявшись от дворницкой суеты, Никитин сочинял стихи про «битву роковую»,
«богатырский меч», «донцов воинственное племя», «кичливое волненье» Англии,
«запятнанную честь» Парижа. Николай Иванович Второв деликатно сдерживал
праведный гнев Ивана Саввича, указывая ему на внутренние, российские заботы, на
недовольство мужиков своим рабским nof ложением», на попытки истинных патриотов
изменить к лучшему обстановку в России. Поостыв, Никитин прятал подальше свои
стихотворные тирады, и, как правило, они не доходили до журналов. Но вновь не смог
удержаться от нахлынувших чувств, когда в конце -ноября 1855 г. через Воронеж
проследовал курьер с радостным сообщением о взятии русскими турецкого города
Карса. Поэтическая натура не выдержала, и в никитинской тетрадке тут же появилось
громкое, дышащее восторгом «На взятие Карса». «Как ему не стыдно писать такие
вещи!» – сказал Второв друзьям, не решаясь, видно, прямо упрекнуть автора и тем
самым оскорбить его искренний порыв. Никитин узнал о возмущении друга и забросил
свое одописание.
Крымская кровавая эпопея кончилась для России бесславно. «...Севастополь ударил
по застоявшимся умам», – писал историк В. vO. Ключевский. Раздались голоса о
необходимости либеральных реформ, появились всякого рода «записки», авторы
которых призывали покончить с крепостным правом. Заметнее других прозвучали
«Голоса из России», пришедшие из Лондона усилиями А. И. Герцена и Н. П. Огарева. С
глаз Никитина тоже будто спали пелена. «После битвы с внешним неприятелем, —
пишет он, 25 марта 1856 г. А. Н. Майкову, – пора нам, наконец, противостать врагам
внутренним – застою, неправде, всякой радости и мерзости».
Поэт включается в противостояние общественных сил и пишет стихотворение,
которое вызовет бурную противоречивую реакцию и разделит круг его друзей и
знакомых на два лагеря. Он создает своего знаменитого «Пахаря»:
С ранней зорьки пашня черная Бороздами подымается, Конь идет – понурил
голову, Мужичок идет– шатается...
Уж когда же ты, кормилец наш, Возьмешь верх над долей горькою? Из земли ты
роешь золото, Сам-то сыт сухою коркою!
Труден хлеб земледельца, на каждом шагу его подстерегают то .непогода, то
прижимистые купцы; заканчивая скорбный монолог, поэт восклицает:
Где же клад твой заколдованный, Где талан твой, пахарь, спрятался? На труды твои
да на горе Вдоволь вчуже я наплакался!
24
Никитин опасался за «Пахаря», предчувствуя сопротивление казенных
литературных надсмотрщиков. «Жаль, если цензура не пропустит. . – беспокоился он
в письме к А. А. Краевскому. – Я, как умел, смягчил истину; не так бы нужно писать,
но лучше написать что-нибудь, нежели ничего, о нашем бедном пахаре».
Приглядывавший за «поведением» «Отечественных записок» цензор запретил печатать
стихотворение, недовольный его «мрачным колоритом». Лишь через год «Пахаря»
/далось опубликовать в «Русской беседе».
Никитин не первый обратился к теме русского земледельца. Двадцать лет назад
прозвучала «Песня пахаря» Алексея Кольцова. Но в ней рисовался трудовой крестьян-
ский праздник, мужику было «весело на пашне». Никитинское видение пахаря иное:
усталое прячется солнце, в подсознательной памяти крестьянина то град, то жара... В
ритме «Пахаря» монотонность и тяжесть; краски поля поблекли, им соответствуют и
словесные тона – тускловатые, прозаически-будничные.. Всего в девяти строфах
целая мужицкая эпопея?
Критики «Пахаря» вновь напомнили его автору о Кольцове. Действительно,
аналогия естественная, да и как ей не. быть, если Никитина так многое роднило с его
старшим собратом: схожесть судьбы, общие знакомые (А. Р. Михайлов, П. И.
Савостьянов, И. А. Придорогин и др.), родные места, даже литературный авторитет у
них был один – Белинский. Свои симпатии к Кольцову Иван Саввич выражал не раз;
кольцовский «Лес» был его любимым произведением, восхищался он и «Косарем».
Удивительно, что до сих пор не выяснено, встречались ли они в Воронеже.
Идейно-художественное родство поэтов-земляков отмечалось многократно. Важнее,
думается, указать на их отличие. Его помогает выяснить одно глубокое замечание Бе-
линского: * «...влияние великого поэта заметно на других поэтов не в том, что его
поэзия отражается в них, а в том, что она возбуждает в них собственные их силы: так
солнечный луч, озарив землю, не сообщает ей своей силы, а только возбуждает
заключенную в ней силу. .» Пример Кольцова действовал на Никитина вдохновляюще,
но автор «Пахаря» «откланяйся» поэтической ..манере своего земляка уже на раннем
этапе творчества.
Никитин отличается от Кольцова, как вечерняя заря от утренней, не потому, что
последняя краше, – каждая хороша по-своему, и тем более не потому, что он «суме-
речный» поэт (как раз к «утреннему» мотиву он обращался охотнее). Никитин
рациональнее, эпичнее, сдержаннее, в его лирическом стихе меньше полутонов, он
жаден до целого так же, как озябшему не до красивого платья, а голодному – не до
деликатесов. Это не значит, что в своей художественной системе он беднее. Он иной по
стилю мышления, тематическими привязанностям, лирической стихии сюжета,
композиционному построению.
И если говорить о чьем-то влиянии в «Пахаре», то, наверное, Некрасова, да и то с
оговорками. В пору, о которой идет речь, им еще не были написаны «Размышления у
парадного подъезда», «Песня Еремушке», «Железная дорога» и другие произведения,
ставшие народными.
В письме к Второму от 20– сентября 1857 г. Никитин делится приятной новостью:
«Некрасов у меня есть, не утерпел – добыл, – сообщает он о приобретении «Стихо-
творений» издания 1856 г. и добавляет:– Да уж как же я его люблю!» Это не
единственное свидетельство внимания к «музе мести и печали». Симпатию к ней
внушал Никитину авторитетный для него А. Н. Майков, писавший воронежцу 20
октября 1854 г. из Петербурга: «Одна только душа здесь* есть поэтическая – это
Некрасов...» Иван Саввич мог знать о нем из доверительного источника. Вот как
вспоминал об этом литератор' Ф. Н. Берг: «Еще в воронежском кружке... мне привелось
наслушаться много разных толков о Некрасове. Глава; если можно так сказать, этого
25
кружка Н. И. Второв был в родстве с одним юным студентом, жившим вместе с
Некрасовым на одной квартире и поддерживавшим оживленную переписку с своим
родственником... Старые письма его, довольно длинные, неоднократно прочитывались
местами вслух – в них полушутливо-полусерьезно обрисовывались крайняя нужда и
лишения молодых людей». Мемуарист рассказывает, что некоторые стихотворения
Некрасова во второв-ском кружке заучивались наизусть. Симпатии Второва к поэзии
главы «Современника» несомненны, в архиве сохранились его собственные списки
произведений Некрасова, в частности «Родины», а в каталоге второвской библиотеки
значится некрасовский сборник 1856 г. Очевидно, что свою любовь к поэту Второв
передавал и Никитину.
Но в кружке воронежских интеллигентов были и противники Некрасова. Один из
самых– ярых – А. П. Норд штейн, «человек хладнокровный, но любящий и понимаю-
щий», как характеризовал его близко знавший А. Н. Майков.
Никитин питал самые дружеские чувства к НорДштей-ну, почитая его за
«благороднейшее существо». Но их поссорил «Пахарь». 26 апреля 1856. г. конфликт
уже обозначился: «...в стихотворениях ваших, – заявляет Нордштейн в письме к
«милому Ивану Саввичу», – вы изменили и взгляд и лад и стали упорно писать какие-
то некрасовские едкие сарказмы».
25 марта 1857 г. Нордштейн высказался вполне* «Я опять о «Пахаре». В нем не
предмет коммунистский, а мысль коммунистская», затем следует целая программа
славянофильско-эстетского толка, бичуются Герцен и его сторонники как заклятые
«враги России»,
Нордштейн со свойственным ему прямодушием й поверхностностью суждений
(«...я человек небыстрого ума», – аттестует он себя) выразил те идеи, которые в более
изящном философском оформлении старался привить Никитину А. Н. Майков.-В
одном из писем он поучает своего воронежского ученика: «...произведения партии,
своего времени, живут лишь минуту и умирают... Пусть вокруг нас кипят и враждуют
страсти; наш мир – художество...»
А что же Никитин? Он уже не тот робкий стихотворец, который два-три года назад
послушно внимал, своим наставникам. Жаль, что его письма к Нордштейну не со-
хранились, но все-таки корреспонденция последнего позволяет судить о позиции
автора «Пахаря».
Поначалу Никитин сопротивляется в шутливо-дружеском тоне, но, по мере
усиления нападок доброжелателя, его защита становится все более серьезной и
твердой. Он не разделяет патриархально-славянофильских теорий своего оппонента, не
соглашается с тем; что «Запад гниет». Расхождения между взглядами Никитина и
Нордштейна становятся настолько непреодолимыми, что последнему пришлось
признать: «Общие интересы для нас исчезли...»
«не читать – значит не жить»
Рост поэта совершался стремительно, и требовались только благоприятные
обстоятельства, чтобы из стихослагателя он стал поэтом. Такой духовной эволюции
помогли книги.
Не любивший рисоваться Никитин, признавался А. Н. Майкову, что круг его чтения
до появления в свет первых поэтических опытов был довольно узок и не отличался
какой-либо системой. «Но в продолжение почти двух годов, покамест печатались мои
стихотворения '(имеется в виду сборник 1856 г.—£. /С.), – замечает поэт, – я про-
читал довольно книг и книг хороших; в голове у меня просветлело...» Книги стали его
университетом, мечту, о котором пришлось оставить.
В процессе духовного возмужания ему помог Второв й его богатая библиотека.
Любовь к книге Николай Иванович Второв унаследовал от отца Ивана Алексеевича, не
26
чуждого литературных занятий, составившего солидную коллекцию печатных изданий
и списков бесцензурных произведений. И. А. Второв слыл весьма образованным
человеком, лично знал Пушкина, Жуковского* Крылова, Рылеева, Дельвига, о встречах
с которыми он, конечно, рассказывал сыну. Большого капитала он детям не завещал, но
зато завещал городу Каз1ани свое ценное книжное собрание, позже ставшее основой
местной публичной библиотеки. Часть литературы перешла к сыну. Он ее усердно
пополнял, особенно во время службы в Петербурге, а когда переехал в Воронеж,
библиотека Н. И. Второва была здесь, пожалуй, одной из лучших. Сохранился
подробный каталог книг Н. И. Второва, им написанный.
Во второвской библиотеке Никитин мог иметь доступ к сочинениям русских
авторов от Радищева до Некрасова; пользовался он и прекрасными личными фондами
А. П. Нордштейна, помещиков Потапова и Плотникова.
Постепенно у Никитина складывалась и своя домашняя библиотека. Приобретя или
получив в подарок какую-нибудь книгу, он устраивал, как говорил Н. И. Второв,
«радостный гвалт». «...Не читать – значит не жить» – эта афористичная никитинская
формула определяет сущность его культурного облика. Причем читать не все подряд, а
лучшие образцы русской и зарубежной словесности, ибо «литературные осадки», по
его выражению, недостойны внимания.
Портрет поэта-читатедя будет неполным, если не рассказать о его пристальном
интересе к нелегальной и запрещенной литературе.
...В ноябре'*1858 г. до Ивана Саввича дошли тревожные вести из Петербурга. В
одну из поездок в столицу его друга И. А. Придорогина подвергли внезапному обыску
По предписанию III Отделения эту акцию совершал полковник корпуса жандармов
Ракеев, тот самый, который когда-то тайно сопровождал тело Пушкина в псковские
Святые Горы и который позже будет арестовывать Н. Г. Чернышевского.
Многоопытный Ракеев искал на петербургской квартире Придорогина
«искандеровский элемент» и бумаги, позволившие бы уличить «красного» купца в
связях с А. И. Герценом. Жандарм обратил внимание на письмо из Воронежа штабс-
капитана Н. С. Милашевича. «Что значат, помещенные в письме слова: «Да привезите,
Христа ради, то, чего русские подлецы боятся?» – спросил растерявшегося
Придорогина грозный чин. Выяснилось – «Колокол».
Хранящееся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции дело
№ 365 III Отделения собственной императорской канцелярии «О воронежском купце
Иване Алексеевиче Придорогине» раскрывает все перипетии этой истории, в которой
^амешан и Иван Никитин. На 113 листах с жандармской педантичностью исследованы
все возможные пути «Колокола» в Воронеж и все возможные каналы информации из
губернского города в Лондон.
Началось все с того, что в. номере' «Колокола» ,от 1 декабря 1857 г. появилась
довольно большая по размеру статья «Высочайшие путешественники at home», где
неизвестный автор рассказал о пышной поездке великого князя Николая Николаевича
на конный завод в Хреновое, близ Воронежа. Его высочество сопровождал местный
губернатор Н. П. Синельников. «Исступленное желание лихо прокатить е. в. (его
величество. – В. /С.), – говорилось в статье, – овладело разнообразным чиновным
лакейством на всем протяжении пути великого князя». «Колокол», конечно, вряд ли бы
заинтересовался дорожными приключениями брата Александра II, если бы поездка эта
не имела губительных последствий для воронежских крестьян. Чтобы ублажить члена
царской фамилии, ретивый Н. П. Синельников приказал согнать на строительство
дорог и мостов весь окрестный трудовой люд. Крестьяне были вынуждены бросить
свои жалкие хозяйства, голодные семьи (год выдался крайне неурожайным) и с







