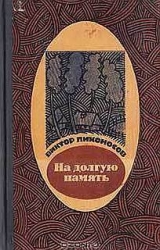
Текст книги "На долгую память"
Автор книги: Виктор Лихоносов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 9 страниц)
Физа Антоновна точно оправдывалась и себя, казалось, уверяла заранее, что у сына не должно случиться плохое в семье.
– А я с квартирантками живу. Как ночь – к ним в окошко парни лезут. По койкам разлягутся, и… стыдно говорить при Жене, я б выразилась. Каждый день плачу. Сегодня бы ему на пенсию идти.
– Что ты плачешь, – сказала Физа Антоновна, – ты хоть пожила, а мы и не жили. Детей родили, а мужей не видели.
– Как услышу, где похоронная музыка, бегу бегом, провожаю, на мох илу упаду, слезами оболью.
– И ей тошно бывает», – думал Женя.
– Детей у нас не было, я прожила в неге на коленках у Демьяновича просидела, жизнь прошла шуткой.
Она медленно скребла вилкой клеенку и смотрела в одну точку понурившись.
– Я его никогда не забуду, – сказала она спокойно и взвешенно, – но отвыкать отвыкаю.
Это было так ужасно и так естественно, что человек от всего самого близкого отвыкает.
– Помру – чтоб похоронили как положено. Рядом с ним положили.
Ее затрясло, она в минуту общей женской слабости получила как бы право на рыдания, на бесконечное сочувствие себе, тем более желала этого сочувствия, что все ей обычно не верили.
– Места нет, – сказала Физа Антоновна. – Впритирочку к твоему Демьяновичу лежат.
– В одну могилу опустите.
– А это если райисполком разрешит.
– А вы Демьяновича откопайте, сторожу пятерку в зубы, притопчите Демьяновича и меня на него положьте. Обниму я его ручками, «милой мой Демьянушка, сколько я тебе новостей принесла: дед Гришка помер, Никита Иванович замерз. Дом наш пустой стоит». Помнишь, Женя, как ты придешь, он меня за руку: «Ну, Женя приехал, пойдем сходим». Как красиво было. Красиво, дружно жили, или мне кажется. Давайте по первой, – пригласила она, подняв рюмочку с водкой.
«Удивительная», – подумал Женя и чокнулся, и когда тянулся к ее рюмке, глядел, слушал ее ласку, опять топкая жалость просочилась в его душу.
– Выпейте, выпейте, – настаивала Демьяновна.
– Кто пьет, кто не пьет.
– Всяко бывает: грабли и то стреляют. Вот Никита Иванович, отец твой, – показала она пальцем, – кто мог подумать, что так его бог приберет. Тебе мать, наверно, не рассказывала целиком, или писала, когда ты на первом курсе был, да мало, а я, она не даст соврать, – я из мертвецкой его везла.
Физе Антоновне не хотелось слушать об этом, однако она перетерпела.
– Я мертвецов не боюсь. Другие платочки с нашатырем прикладывают, в обморок падают, а я ничего, валю между ними как на рынке. Что мы делали, Физа, в воскресенье, я чо-то забыла. Не то у меня сидели, – соврала она, – не то я белила у тебя. Или нет: мы ж капусту возили на базар! На тележке моей. Я пристроилась к знакомой торговать пивом, себе балончик нацедила, Никите поднесла, он еще капустой закусывал. И чо-то быстро мы, Физа, расторговались, однако и часу не стояли, народу перло больше, чем всегда. И он, Женя, после базару на следующий-то день на работу пошел, получка обещалась. Он к вечеру подцепил с дружками, ночь-полночь – ею негу. Мать твоя ко мне, я к ней: «Пришел?»
«Ну баба, – поражался Женя. – Правда, брехня – все вместе».
– Уж и коров позакрывали, на ночь потянуло холодком, ветер. Полегли, ты, кажется, говорила Физа, якобы не спала. И тут ровно постучали! Громко, несколько раз! Толик дома был? Ну да, был, это он после смерти, когда мать его заболела, поехал и в армию попал, был, был, я еще ставни закрывала, он с ведрами к колонке бежал. «Толик, ты хорошо закрыл? – попытала у него. – Отец, видно». – «Да нет, мам, вам послышалось. Ветер!»
В другой раз. Опять, да громко-громко. Она, мать-то твоя, Женя, – и тут Демьяновна сердечно заплакала, и не было никакою сомнения, что переживала за Физу, – выходит этак, распахнула дверь, уже собралась отчитывать: «Где бродишь На ночь не оставили?» – и глядит: никого! Пустое крылечко, двор пустой, думает, может, по нужде зашел в огород, нет и нет, да неужели ошиблась? Ведь слышала, как стучали. Хоть бы один раз, а то два. Ну и легла опять, какой уж сон. А Никита Иванович к тому времени уже мертвый лежал. Это он и стучал. Ровно с того света, где Демьянович мой.
Нелепая смерть, а подумать хорошенько, так этим и должно было кончиться рано или поздно. Всей жизнью к этому шел».
– Возле сапожной будки нашли… Какой леший его туда занес – неизвестно. Лужа вот этак, и он в луже скрючился, замерз, врачи говорят, ноги судорогой схватило, он, может, и звал кого, да темно, уже с работы люди прошли. А деньги, – десятку-то он пропил – остальные тесемочкой обмотал и в карманчик в брюки засунул, ровно чувствовал, сроду не прятал, и милиция брюки передала Физе, она стала потом стирать – 85 рублей-то тесемочкой перевязаны. Нет Никиты Ивановича, такая ему смерть пришла, от судороги. Товарищи выпили на его денежки, а он же знаешь какой: нате, берите, я богаче всех! – они выпили и бросили, нет бы довести, видно же, человек плохой. Вот тебе и так и сяк, и жизни сок и тихо сыплется песок.
– Как жил, так и помер, – без чувства сказала Физа Антоновна. Она была недовольна Демьяновной.
Проводила Физа Антоновна Никиту Ивановича хорошо, отметила, как полагается, и девять, и сорок дней, и полгода, и год, и, может, некоторые не помянули так заботливо самых своих близких людей, но с годами все с большей досадой вспоминала несемейную натуру Никиты Ивановича. Жалко всякой смерти, и она никогда не желала ему несчастья, и горько и громко плакала над его гробом – пускай бы жил, но раз уж случилось, раз уж не воротишь, то не грех и признаться, что хорошего она за ним мало видела. А Женя, наоборот, очень долго его вспоминал, чего-то не хватало ему без Никиты Ивановича, но никогда не говорил об этом матери, не возражал на ее слова: «А чо хорошего мы с ним видели?»
Да, материны слова запали: «А чо хорошего мы с ним видели? В твоем костюме положили, когда пришлось».
Наверное, юное желание любить всех безраздельно прошло. Слова, вздохи сочувствия за стаканом вина – все это минутное, временное.
– Надо жить как бежит, – сказала Демьяновна и пригласила поднять рюмки, запела: «Ох мороз, мороз…» Никто ее не поддержал.
Так тихо еще никогда не было за столом. Постарели женщины, постарели. А Женя слушал, думал и молчал. Мать была довольна, что он теперь рядом. Чего ей еще? Жизнь, считай, прошла, плакать бесполезно.
Вошли две соседки, Демьяновна усадила их как дорогих гостей, побежала на кухню и принесла рюмки, между делом шутя и матерясь, и наконец села, нюхнула табачку, не наливала, отвлекалась разным и минут через десять вдруг склонила голову на грудь, потом медленно, со стоном свалилась на пол, раскинула руки, закатила глаза. Женщины перепугались, кинулись ее шевелить, растирать, совать ей в зубы деревянную ложку, насилу переложили ее на кровать. Она пришла в себя, и тогда, успокоившись, женщины надумали расходиться.
– Может, «скорую» вызвать? – спросила Фиш Антоновна. – Где болит?
Но Демьяновна мычала и дергала ногой. В мгновение ока поймала рукой Физу за юбку и хитро моргнула: мол, останься с Женей, пусть они вываливают, а ты погоди.
«Вот и жалей, вот и прощай ее», – думал Женя, незаметно покинув дом, ничего страшного не чувствуя к Демьяновне, однако весь во власти последних ощущений от жизни, когда так ясно стало, что любить всех подряд, как в юности, уже не может, и незачем.
«Жизнь прошла с шуткой», – вспомнилось.
Золотой вечер повисал над улицей. Золотой, задумчивый, в те же окна пускал свой незаметный свет, и вечный круговорот солнца еще сильнее напоминал, что Женя отбегался: другие дети пришли.
«А мать моя все-таки несчастнее других, – почему-то больно подумал Женя на тонком болотном мостике. – Несчастнее других. А уж как она была ласкова, добра, смиренна… Наверно, когда бросали бы в нее пылающую головешку, она кричала бы: «Руки, руки береги!» Да не наверно, а точно. Нелегко доброму сердцу на свете. Вот был Толик, звал мамкой, сорвался после смерти Никиты Ивановича и писем не пишет. При встрече, может, и заплачет, и подарок сунет, а вот не пишет, своя мамка плохая, бросала-мучила, а простилось, родная кровь… Какое детство прожили, а не переписываются. Бывало, бегали, отца слушали, и как вышел Женя с чемоданчиком за ворота, в институт собрался, Толик подошел, поцеловался в губы и совершенно по-родственному заплакал, отвернулся, по глазам было видно, сколько пережили вместе, и жалко было расставаться. Годы текут, забылось чувство, ни разу ведь не встречались с тех пор».
– Ты заметил, как Демьяновна притворялась? – спросила мать в горнице. – Ну ты ей хоть кол на голове теши – она свое. Аж стыдно за нее.
– Ма-ам! Да только ли Демьяновна. Дурили тебя и будут дурить. Сколько вас ни учи, вы все такие же: посердились да забыли. «Да я чо, я ничо», – оправдываешься перед всеми. Тебе ли оправдываться? Перед тобой должны оправдываться.
– А чо ж ты хочешь, мать одна, что ли, будет жить? Так, сынок, тоже нельзя.
– Зачем одна? От себя, конечно, не уйдешь. Но люди Горазды погонять других. Они знают: а, с Физой Антоновной можно, она простит. Я и сам в тебя. Пора уж погордей стать.
«Кого прощать, кого любить… – думал Женя перед сном в кладовке. – Это сейчас самое главное: кого прощать, кого любить…»
Да, умиление прошло. Братец, мой братец, богатый Абрам, подари мне, братец, три милостыни… Братец, мой братец, светлый Лазарек, скинь мне с персток воды, помочить усы… Братец, мой братец, богатый Абрам, была б моя воля, а то воля Божия…
Никита Иванович, Никита Иванович… Годы украсили его, но хотелось вспомнить его такого, каким он был. По крайней мере, в последний раз, на проводы в институт. Оп чувствовал, наверное, частую свою вину перед детьми, и в темный и теплый вечер, вытащив стол и табуретки под окно, долго беседовал, рассказывал о своем детстве, о войне, а потом наставлял Женю на дорогу:
– Я тебя уже ничему не научу, могу только подсказать. Я надеюсь, Женя, что эти последние слова будут хоть и пьяные, но хорошие. Учись, сейчас всем дорога открыта. Между товарищами будь самый хороший. С меня пример бери, я тумак, без грамоты, а меня любят товарищи. Ты пойми: личное свое дело считай ниже достоинства, чем государственное. Правду отстаивай. Как я, – лизпул он языком. – О, смеешься, а ты знаешь, как отец на собраниях выступает? Пыль столбом! Президиум не успевает воду им графинчиков наливать. А кто я? Простой мужик, выпить люблю. Хо-го, кричат, сейчас Никита Иванович завернет, сейчас, сейчас пульнет чо-нибудь. Вот видишь, – показал он на Толика в надвинутой по глаза фуражке, – вот. Замечаешь, нет? А-алеша Огурцовский! А почему? Фуражка такая. Чо с него ждать? С тебя будет больше спросу. Давай! А будет кто за душу брать – в рот ему сайку с маслом.
– Папк, – сказал Толик, – хватит, смотри, комар в бражку сел.
– И думает выпить! Не-ет, ему здесь не обломится. Женя, давай по маленькой, тебе уже можно.
Они чокнулись и поцеловались.
– Какие мы никакие, – сказал Никита Иванович у поезда, – а ты но забывай нас, не бросай.
– Да нет… не забуду… – пообещал тогда Женя сквозь слезы.
Июнь 196… г.
Дорогая Парасковъя Григоровна, сообщаю тебе, что Женя мой отучился и приехал домой насовсем. Жена его тоже вот-вот подъедет, позовем мы бабушку нашу, она еще жива, еще сама корову доит, теперь бы жить да радоваться, сердце мое успокоилось, но здоровье уже не то… Сейчас вечер, Женя ушел к друзьям, а я тебе хочу послать длинное письмо, пропишу тебе, милая моя Паша, про всех родных и, знакомых, – кто жив, кто помер, как, чего, почему…
1968 г








