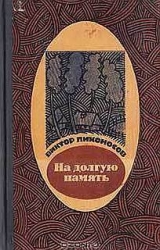
Текст книги "На долгую память"
Автор книги: Виктор Лихоносов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Глава восьмая
Тому, кто связал себя так или иначе с землей, тихо снится счастливая осень.
На покосе, в предвестие первых желтеющих пятен по лесным уголкам, Женя и видел свою мать озабоченно-счастливой.
Никите Ивановичу производство выделяло траву далеко в лесу. Помнит Женя приготовления к отъезду.
Физа Антоновна закупала хлеб, крупу, дешевую колбасу, сворачивала в одеяло рабочую одежду, старалась расторговать за остаток дней молочко.
Жене и Толику отец готовил маленькие литовки.
Хозяйство оставляли на соседей. Дружили домами не первый год, еще с дней войны, и навечно врезалась в память эта скорая готовность к помощи и сочувствию, эта птичья теснота уличного круга. Беднее были – как-то лучше выручали друг друга, потом уже, когда понаставили каменных домов, повырастили детей, стали потихоньку завидовать и порой ссориться. А тогда любо было глядеть на оборы в дорогу – на покос ли, на картошку.
– Если что, – поспевала Демьяновна, – я корову привяжу и подою.
– Да ладно уж, – довольно отказывалась Физа Антоновна, – Мотя подоит, я на нее оставлю все, тут, если захочешь, распоряжайтесь вместе. У кого когда время будет. Молоко пейте, придет кто купить – налейте, а чо останется – отдавайте этим, что баба у них слепая, у них детей много.
– Не сомневайся. То ты не знаешь меня, – махала Демьяновна. – Я лишнее все пораскидаю. Приедете – одни степы. Дай вам Бог.
– Ой, да хоть бы трава хорошая попалась. Шутка дело – такую даль забираться. Да, не дай Бог, дожди польют.
Они целовались, крестились.
Уезжали с росой, на ранней зорьке. Женя просыпался позже всех: дальняя дорога, которой он радовался с вечера, заспанному была нежеланной. «Вставай, сынок, вставай, – толкала мать, обычно дававшая понежиться, – вставай, там доспишь». Никто потом его так не жалел, и никогда не звучал так ласково голос. Сама она вроде бы и не спала. Удивительно, когда вообще спят русские женщины. Всю юность поражала его женская неутомимость. Куда бы ни поспешил – всюду впереди тебя были женщины.
Еще не доили коров, и солнце еще тонуло где-то в море на востоке. Никита Иванович, тяпнув для бодрости стаканчик, орал: «Ой вы гуси, гуси молоды-ыя-я» – и, посадив мать в кабину, лез в кузов к ребятам. «А веревку ты взял? – спрашивала Физа Антоновна. – Держите бидончик крепче, молоко выльется».
– Ой вы гуси, гуси молодыя!
Вот никогда уже не повторится это, по собраться им вместе не только в такое утро перед покосом, но и вообще в доме. Женя долго видел детскими глазами поэзию там, где взрослые просто жили, старались и торопили дни. О чем он жалел? О своих годах? О возрасте, когда обо всем только догадываешься? О простоте душевной, которую он потерял, или, наконец, о дороге за Криводановкой и трех тополях, одиноких на зеленой равнине, возникавших вдалеке то слева, то справа, манивших к себе, да так и пропавших?
На пути их стояла древняя Колывань. Падали от ее домов луговые тропы к большой реке, зноем дымились леса, конца-краю не было зеленому сибирскому небу. Жизнь обещала заглохнуть за последними рядами деревни, за стадами коров и полянок, но детское воображение ошибалось: под горою, точно прибитая, темнела на голубой воде облинявшая пристань.
– Ну, бабоньки, – говорил Никита Иванович в кузове деревенским пассажирам, – на бензинчик, на бензинчик. Дорого не берем, брали бы больше, да милиция не позволяет. По рубчику с рыла.
Женя и Толик отворачивались, стыдно же было просить за провоз на казенной машине. Отец весело ждал, пока бабки и женщины развязывали платочки с мелочью, и все приговаривал что-то про невесту, которую кто-нибудь подыскал бы ему для ребят.
– На четушку бензинчика уже есть, – усмехался Никита Иванович и давал команду ехать до ближайшей деревни, и часа через два объявлял, прыгая из кузова прямо на крыльцо магазина без окон:
– Остановка «Сельское по»!
– Никита Иванович, здорово! – тыкал его в бок какой-то косой мужик в кожаной фуражке.
– Здорово, как жизнь? – спрашивал с ходу Никита Иванович, словно ненадолго разлучался с мужиком.
– Ничего.
– Ну, «ничего» у нас дома много. Воруем потихоньку? Колхозной курице голову хряп – и в сумку? Десять лет, и порядок! Больше не обманываем Советскую власть. Кто соломку в лапках тащит, кто мешок муки везет. Известно. Старенька, достань там огурчиков, угости, у них в деревне такого нету. Хе-хе. Живем ничего, кто с базара, а мы на базар.
– Никита, ты куда собрался, ты думаешь чо-нибудь или нет? У каждого угла будем…
– Старенька, у тебя там мелочешка не найдется?
– Да откуда я наберусь?
– Пригодится, – моргал он жене по-деловому, но она-то знала, что все впустую. – Я мимо не лью.
– Не льешь. Поворачивай тогда назад.
– Да хватит тебе уже! – брал его за руку Толик. – Мам, не давай ему. Жара, голову печет, поехали.
– А это без сопливых. Я сказал, а ты подумай. Ладом подумай. Когда свои будут, вот и поучишь, а на отца, знаешь…
– Да поедем, Никит, что пустое молоть.
– Дай с человеком поговорить, успеем. Пусть трава подрастет.
Женя толкался возле него и не спешил, хотя до потемок еще было ехать и ехать, провожая глазами мостики и поселения, и босых девчонок, к которым уже странно влекло его. Он как-то побаивался, никогда не приближался к ним и заметил, что деревенские больше насмешницы, шепчутся меж собой и прыскают, обсуждая. Он уже тогда был, как и мать его, против того, чтобы о нем подумали плохо, и уже тогда сказывалось в нем нехраброе отношение к женщине, так мешавшее ему в молодости, когда прекрасные незнакомки неслись и неслись мимо.
Физу Антоновну отвлекли свои мысли. В дальней дороге, на воздухе невольно думается о прожитом. Всходил перед ней образ Паши, Парасковьи Григоровны, как она подписывалась в конце длинных, без запятых, строк, давней ее подружки, оставившей Кривощеково после войны. С нею еще в деревне сошлась Физа Антоновна, в одни месяц, на масленицу, вышли они за братьев Ивана и Василия, в одной комнате жили на заработках в Донбассе, гуляли, крестили детей и не разлучались в Сибири, особенно когда проводили мужей на войну. И сны если виделись, то непременно с участием Паши, и это с ней она якобы ехала в поезде, отстала и кричала потом вслед поезду: «Там чемодан, а в чемодане костюм, такого костюма я вовек не наживу!»
«Помню, на крещенье приезжают меня сватать братья отцовы. На серой лошади. Поставили лошадь к соседу, взяли свою булку хлеба (повязана была белым платком), оба подвыпимши, с палочками, как и положено. Ох, давно как было. Постучались, заходят. «Здравствуйте». Ну здравствуйте. Мама рассердилась, не принимает гостей, то есть сватов, не проводит их в комнату. Потом кой-как пробурчала «проходите». Они положили хлебы на стол и стали объяснять, зачем явились. «У вас, говорят, девушка есть». Мама: «Я, – мол, – не отдам, она у меня молодая, я, – мол, – ей еще и приданое не сготовила». – «Ладно, сами наживут». Мать ни в какую. Когда пришли в третий раз, то мама была уже помягче, запросила с жениха большой калым. У него в дому того не было, просто чтоб отвязаться, может, какими судьбами отстанут. Ушли сватовья, и вздумали мы через неделю уйти убегом.
Зашли к соседу вечером поздно, и оттудова отец твой не пустил меня домой. И мы собрались, соседка нас благословила, мы пошли по огородам, по садам. Пришли к его дому, были сестры, и брат ого лежал на печке. «Вот так бы и давно», – говорит. Три дня не являлись, конечно, я маму крепко обидела своими неприятностями. Потом на четвертый день пошли мириться. Мама сидит у печки, поздоровкались, я разделась и заплакала. Мама и говорит: «Рано плачешь. Это только цвет, а ягод еще нет. Раз посамоволиничала, так не плачь». Иван уговаривает, называет мамой, «давайте помиримся, простите нас». Он был боевой, смелой. Мама встала, пошла в другую комнату, пододелась и вышла опять на кухню, мы сразу попросили у нее прощения и поклонились в ноги, поцеловали ее».
В покойном окружении вечного неба, прижавшись спиной к борту, Физа Антоновна мысленно обращалась к Паше с письмом, отвечала на ее последнее, майское, в котором она помнила каждую строчку. В уме письмо легко складывалось, не надо было царапать пером по бумаге и в безмолвной речи с ее несколько жалобным женским тоном и желанием оказать побольше начистоту она делилась такими общими для обеих историями и переживаниями, что, казалось, видела и слышала в этот момент Пашу возле себя и знала, чем бы Паша ответила, потому что не одну зиму просидела с ней вечерами у растопленной печки.
Пока она так мысленно писала, сникшее лицо ее с напухшей у брови бородавкой грустнело, губы шептали, глаза видели что-то далекое, ей одной ведомое, и, разбуженная вдруг чем-то внешним, она не сразу привыкала к обычному состоянию. Не так уж часто выпадали в ее житье-бытье минуты, чтобы ненадолго всколыхнуть забытую пору и удивиться, будто не с нею это и было. Думают в разные часы друг о друге люди, и если бы те, о ком думают, знали об этом сейчас же! А может, и знают, чувствуют иногда, ведь не случайно бытуют в народе поверья, что в несчастных или в каких-то памятных случаях отдается в организме некое волнение и явно проступает то в снах, то в мыслях. Может, и Паша ее сидела где-нибудь сейчас и вспоминала, или, болела, или нервничала от чужой обиды. Самое главное – иметь рядом человека, которому всегда охота пожаловаться в печали. Без такого человека трудно, она убедилась. Перехватить денег, попросить накваски под варенец, перетаскать сено, покараулить дом пли посмеяться в хорошем настроении – кого-нибудь сыщешь. Но для доли душевной – очень редко. И Паши вот не было уже сколько лет. Время пролетело как в песне, которую они, бывало, тянули вдвоем в застолье, и все надежды перенесли они теперь на своих деток. Дети росли, чего по видели в них посторонние? уже от матери не скрывалось. Физа Антоновна где-то отчетливо сознавала, как не просто будет ее сыну на своем веку. Вот сидит он сбоку, вместе с Толиком, неродным, а привычным, сидит еще ребенок, счастливый восьмиклассник, все с книжкой, и худо ли, бедно, сидит возле матери: она и поругает, и погладит. А вырастет, попадет к чужим людям, да, не приведи господи, в далекую сторону, – кто последит за ним, кто посторожится, кто вовремя пожалеет? И она только и будет гадать: где он? что с ним? обедал ли? Небо кололо звездами, и непонятно было, когда доедут до места.
А место, где они косили несколько раз подряд, всем очень нравилось. «Курорт! – восклицала мать. – Настоящий курорт».
Вот какое-то утро какого-то дня. Белый дым еще ползает над прудом за домиком, в котором спят на полу ребята. После матраца жестко лежать на соломе, но сон все равно сладок, и снятся уже пацанва с улицы и девушка, доившая вечером корову.
– Подымайсь! – будил громкий голос. – Спать, что ли, приехали. Уже все девки заждались. А ну-ка по-военному, ёхор-мохор. Лошадь ждет, мать завтрак сварила.
Отец сдергивал одеяло и щипал за попку. Ребята вскакивали и выходили на росистые ступеньки крыльца.
– Бегом, бегом, пока девок нет, – гнал Никита Иванович. – Вон за угол. Жалеешь ты их, мать, разбаловала. Вот так женятся и будут обед в постели встречать.
– Им только и время понежиться. Еще успеют намаяться.
От пруда топко текла прохлада, круглые его берега блестели травой. Мошки вихрились над сонной водою, чуть тронутой первым широким отсветом восточного неба. Никто не угадает, что таится под этим ровным сверкающим покровом, только у края чувствуешь, опустив ногу, жидкую землю, а через шаг, через два падаешь вниз головой. Пруд мигом становится живым, шелково-скользким, мальчик пугается омутов, пиявок и, не добравшись к другому берегу, поворачивает и плывет к колышкам.
У телеги возился с низенькой худой лошадью дурачок Коля.
– Садись с нами, Коля, – с преувеличенной серьезностью звал Никита Иванович.
– Благодарю, – отвечал Коля. – Я съел две поллитры молока и даже обожрался.
Тело еще томится ленивой ночной негой, рот сух, не хочется кусать хлеб, ничего не хочется: стоять бы просто и думать неизвестно о чем. Коля ни на кого не обижался, существовал в своем одиночестве и был ровен, не понимал своего несчастья. Никакая женщина не пошла бы за него, она ему и не нужна была, он жил лесом, лошадьми, работой и той простотой, в которую уже никто прочий не мог окунуться. Кто же был счастливее? Женя считал себя счастливее, потому что стоял и вспоминал упрямую беловолосую девочку из соседней школы, девочку, которую Коля, наученный мужиками, непременно бы обматерил. Женя сочинял свои разговоры с ней, водил ее по каким-то местам, привлекал ее собою, забывая и свою униженность в ее доме, и грубость, обманывал самого себя, щедро дарил ей слова, еще не замечая, что слова не его, а из книг, из уст тех, на кого он хотел быть похожим. Вот так до определенного времени обязательно хочется быть на кого-то похожим. Женя стеснялся, когда ребята заставали его в стайке с лопатой, на большой перемене ел хлеб с салом где-нибудь в уголке. Чужие семьи вроде бы имели всякие возможности: разъезжать по городам, заниматься музыкой, посещать оперные премьеры, судить о знаменитостях, как о равных. И знакомые были у них другие, нежели у его матери, – какие-то сдержанно-величавые, церемонные, предупредительные и удивительно похожие один на другого, а доброта и похвала их в отношении Жени всегда как бы спускались сверху, и Женя почитал себя среди них совсем незавидным, потерянным. С чувством смущения: возвращался мальчик домой и тогда тяготился на время шутками Демьяновны, ее плохим тоном и невоспитанностью. Порою он подмечал, что и мать тоже стесняется, когда на базаре подходил кто-нибудь из культурных родителей его товарищей к прилавку, разборчиво тыкал вилкой в мясо или приглядывался, достаточно ли чистый стакан, в который мать накладывала ложкой варенец, отрывая всем поровну жирненький кусочек пенки, особо любимой такими покупателями, и помня по родительским собраниям лицо женщины в пальто с дорогим воротником, не осмеливалась затронуть, что она, мол, узнала ее, только позабыла, как звать-величать, спросить же неловко, как будто торговля собственным молоком отнимала у нее право на равное общение. А Женя, если бывал тут же, готов был провалиться сквозь землю. Отчего бы? Оттого, что он жил не в казенном доме с ванной и мягкими диванами на втором этаже, с телефоном в углу, по которому звонили очень занятые важные люди, а на улице среди запаха коровьей стайки? Оттого, что его ласково, но снисходительно называли в той семье «простым милым Женей», и мама девочки, открыв первый раз на звонок дверь, кликнула дочь, назвала имя и добавила: «Как видно, из простых?» Оттого, что мать всегда произносила неправильные простоватые слова и не следила, как там, за Жениной грамотой, потому что ничего не понимала в науках, да и некогда было? Оттого ли, что он с пеленок не знал Пушкина и Баха и мог похвастаться только унылыми бабьими песнями, вроде «Сронила колечко со правой руки»? И зачем-то же стремился, летел темной душой в эту таинственную среду, зачем-то старался быть в ней приятным!
Оп помнил, как был на покосе последний раз. Никита Иванович брал тогда в помощники Демьяновича. Демьяновичу некуда было девать свои отпускные дни, по курортам не ездил, выпивать не любил, сидеть же с утра до вечера дома душа тоже не выносила, тем более что жена его совсем распустилась, шастала по дворам, смеялась да плясала, и никакого сладу с ней не было. Она уже давно надоела ему, прогнал бы или отлупил принародно, забился бы от стыда сам куда-нибудь, но в жизни всегда что-нибудь мешает, к тому же годы шли к старости, детей не водилось, куда же податься и на кого бросить Демьяновну? По дому он справлялся один. С каких пор еще приучила Демьяновна мужа обедать в столовой, на работу уходить с куском сала, и ужин не всегда поспевал к его приходу. Он подметал в ограде, поливал в огороде, встречал корову, что-то закапывал, пристраивал и постепенно привык к одиночеству, строжился для порядка («я тебя выпорю!»), но рука не поднималась, только порой неделями не разговаривал с ней, сидел вечерами у соседей, чаще всего у Никиты Ивановича.
«Ты бы ей поднес раза два под глаз, – советовали мужики. – Она тебя за тряпку считает».
«Ее ничем не возьмешь. Такая уродилась. Пес с ней. Хватится, да поздно будет. Наверно, сразу надо было учить».
На покосе, на вольном воздухе, Демьянович становился неузнаваем. Наверно, в работе только и наслаждался Демьянович. Крупный, сильный мужчина, он ворочал за четверых, и этим немножко унижал ленивого соседа Никиту Ивановича и даже подшучивал над ним, на что у Никиты Ивановича не находилось почему-то достойных ответов. Едва садились подле костра возле чашки с картошкой, вступал в свое Никита Иванович, и Демьянович уже снова был тих, скромен и неуклюж. Он как бы ничего не знал, не жил вроде бы еще, и всякие истории его века казались ему такими же странными и новыми, как Жене и Толику.
Чаще другого вспоминали войну.
– Там у них, Демьянович, особенно у немцев, кладбище как музей. Скульптуры, каменные гробы, идешь – ну точь-в-точь по музею. И цветы, цветы, деревья. Не жалко и лежать. У нас этого нет. Матушка-Россия закопала, фотокарточку прилепили, как дождь пошел – смыло, крест опустится, бурьян, ограду из труб сварят: лежи, Никита Иванович! А дороги какие! Ну, правда, и земли-то там мало, у нас до Колывани сколько, – область, а до востока еще сколько! Широка Россия, отступать некуда! Кто сказал? – выкрикнул он и облизнул языком губы.
– Кутузов.
– Я!
Демьянович смиренно слушал и, чтобы подавить смущение, часто кашлял в кулак. Он не воевал, ему давали броню как лучшему мастеру на заводе.
– Да-а… – крякал он, – да, конечно… Нам бы надо не так жить. Земли вон сколько. Я в эти подробности не умею вдаваться, ну я лично после войны ждал большего.
– Сомнения нет! – поддерживал Никита Иванович. – Но главное, Демьянович, не теряться. Худо-бедно, а сено опять в огороде. Надо себе самому мнение создавать, тогда легче жить. Нет у тебя ничего, а ты считай, что всего навалом. Сердцу веселей.
– Ну а что, Никита Иванович, – спрашивал Демьянович, как лектора, словно меньше всех понимал обстановку жизни, – война-то будет? Вон в Корее, видишь…
– Не… – отводил рукой его опасения Никита Иванович. – Нема делов. Наши тоже не моргают. Не думаю. Сейчас такая те-ехника, всем по мозгам дадим. Вон, знаешь, в ту войну еще, сто лет назад, один адмирал писал, в Севастополе, говорят, его слова висят: «Преклоняюсь, – дескать, – перед мужеством русского солдата, пусть поищут такого в других нациях со свечой!» И верно. А куда денешься? Так. Я не видел, чтоб солдат болел! У меня язва желудка была, ни хрена не чувствовал! Не, Демьянович, не бойся, еще попьем водочки.
Сколько бы ни слушал Женя мужиков за вечерней беседой, и тогда и после, всегда во шикало в нем чувство спокойствия и гордости. Мужики! Мужики на покосе у костра, на завалинке, в буфете у стоек, на стадионе, в компании после какого-нибудь горячего дела! Боже мой! Есть ли что прекраснее на свете их слов, грубых шуток, историй, их смешной мгновенной щедрости на нетрезвый лад, внезапных признаний друг другу! Как тесно иногда может жить человек!
Может, тогда и воспитался Женя.
Никого давно нету на той поляне, где они сидели заколотили избушку, никто не топчет тропу, лес шумит, отмирают его старые стволы, и грустно там без человека. Сколько вот так оставляет за собой человек земли, подавив ее ненадолго и никогда к ней не возвращаясь. Уголок тот, где он дышал, работал и думал, умирает для него, хотя все там живет, пахнет и не кончается в своем обновлении. Человек уходит на другую дорогу, и некогда ему вспоминать. А когда вернешься, поглядишь, погорюешь – ведь не спросишь у немой природы, узнала она тебя, нет? Быть может, земля помнит твое тело, да не скажет. Быть может, где-то носится еще в листве странная мелодия, она же звучала тогда в тебе. Может, болит еще у сучка рана, когда ты срывал ветки. Неужели нельзя возвратиться назад всем своим существом? Он всюду потом навещал старые места – только бы поглядеть, только бы убедиться, что они не исчезли. Издали, как во сне, грезилось, будто их не было. А они были, и была сенокосная пора, и последний стог на широкой поляне, который они утаптывали с Толиком. Демьянович кидал самые грузные навильники, Никита Иванович поспевал вслед за ним и, отходя, по-жеребячьи орал, вызывая смех.
– Ладом, ладом топчите! Подчистую. Вот так, старенька, – поворачивался он к Физе Антоновне, – а ты говорила – не хватит. Хватит! Кому другому, а нам по горло. Сейчас бы голоса прозрачные, Демьяновну бы сюда, мы б запели! Уж так уж!
Он кинул вилы в сторону и принялся танцевать, дурашливо ломаясь и высовывая язык, как во дворе в хорошие дни.
Солнце садилось, лило потухающий свет где-то за их домом с закрытыми ставнями и прохладной тенью от сухого крыльца с высокой стойкой. Опрятный развесистый воз сухого, с цветами, сена покачивался под топтавшими его наверху детскими ногами. Еще далеко было везти, следить, как бы не растряслось оно по дороге и не перевалилось набок. Воображение Никиты Ивановича играло вовсю. Что ему дожди, ему, шоферу первого класса! Он уже шел из бани под горку, с мокрым веником в сетке и полотенцем на шее, отрыгивал и пускал в нос запах пивка, еще от первого магазина любовался желтой верхушкой стога на своем огороде.
А стог еще лежал на машине. Демьянович, пока Никита Иванович прижимал вилы под мышкой и дымил, отряхивал сено со всех сторон, подчищал внизу, выдергивал руками пучки и никуда не спешил, готов был и завтра еще косить, сгребать и выбирать по лесу на затяжку бревно.
– Скорей, скорей, – подсказывал Никита Иванович.
– Тебе лишь бы как, – гневалась Физа Антоновна, но в глазах вечно не было волевой строгости. – Один уж раз отмаяться.
– Да кого там! Двух коров прокормить можно.
– Трех.
Наконец побросали наверх фуфайки, обвили литовки тряпками, Никита Иванович отошел полюбоваться назад и сказал: «Ну слава богу», а Физа Антоновна попросила:
– Подождите. Еще веников наломать.
Плечо у нее побаливало, прижали ее как-то в очереди к дверям, и устала порядком, тоже с удовольствием залезла бы на мягкое сено и помчалась домой, но надо, надо довести до конца, за нас никто не постарается. Ломая березовые ветки, она напоследок разогрелась, почти счастливая вынесла зеленую охапку и сказала:
– Если б ребятам не в школу, и не уезжала бы!
Оставив мужиков курить и разговаривать, она пошла к стану сама, где уже Толик топил летнюю печку и дымом разгонял комаров.
– Да-а, – повторял Никита Иванович, наполняя в тихой, обдувающей свежестью темноте стакан, – вот это мы дали! Какой воз! Красавец! На базар вывезти – три-четыре тыщи с закрытыми глазами дадут. Вы как хочете, а я допью. Чтоб коровка двадцать пять литров в день, и нема делов. Сено уже в огороде.
– Ты сперва привези, поставь.
– Утром в семь ноль-ноль дома как штык. Поедем в ночь.
– Кто это в ночь едет? Утречком на зорьке и поедем.
– Как звать? – схватил он за локоть Физу Антоновну. – Перед начальством не спорить. Начальство за вас думает. Повалитесь на верхотуре и спать, не все вам равно. Едем! Отец, сыны, спит и думает, как помножить тангенс на котангенс, чтобы у вас мотня была застегнута.
– Не болтай! – ударила его Физа Антоновна.
– А чо я. Я математически выражаюсь.
– Выпивши поедешь, права отберут.
– На всех не угодишь. Это, Демьянович, в позапрошлом году едем с картошки, останавливает меня товарищ в фуражке: «Почему за рулем пьете?» – «Я за рулем не пью, я вылажу». Повели в участок. Я права скинул Физе, вышел. «Документы». – «Документы на проверке. Нету документов. Не верите? Обыщите!» Уморил от и до. Ржа-али. Однако на поллитру пришлось дать. Сатира и юмор.
Немножко отдохнули, Женя и Толик искупались в теплом пруду, кричали, как лешие, звали к себе дурачка Колю и, когда обсохли, натянули штанишки и рубашки, жалко стало встречать расставание с деготной густотой леса, с костром, со спутанными, пущенными Колей в ночь лошадьми, тоже кормилицами, с самим Колей. Они потрясли его черствую руку, месяцами державшую вожжи, и сложили ему в мешочек остатки консервов, жира, хлеба и спички, сторожу мать отдала стаканы, ложки, бидончик под молоко, со всеми поцеловались и, покачиваясь, задевая сеном листву, поехали на длинную, ускользающую вперед струю света от фар.
Ребята не впервые заставали в дороге темную ночь на отцовской машине. Ночью, наедине со всем миром, было даже интереснее, и они часто просили забрать их с собой. Действительно: наедине со всем миром. То раскинешь ноги в кабине и слушаешь старую песню горластого отца, то прячешься от ветра в кузове – один или с угрюмым попутчиком, и всегда видишь звезды, как на воде, стекающее к земле небо, черноту затаивших все живое полей. Крестами протянется неогороженное кладбище, и не подумаешь еще, что тебе тоже когда-то лежать под холмом, как всем, кого ты знал и кого не видел. Нету пока смерти для тебя, она назначена кому-то, ты еще не взял от земли отпущенной тебе доли, еще не обмахивали тебя на свадьбе веником по голове, и не били перед молодыми наутро посуду, и не собирали тебе узелок на войну.
Ехали без остановок, лишь иногда машина на минуту тормозила, Физа Антоновна спрыгивала на землю и окликала лежавших в сене Демьяновича и детей:
– Не дует вам? А то укутайтесь одеялами.
– Нормально, ёхор-мохор, – кричал, подражая отцу, Толик.
Отец пел не переставая и, чтобы слышнее было наверху, высовывал голову за стекло. Женя лежал на спине и глядел на звезды, искал Большую Медведицу. Сперва ее загораживал от него Демьянович, но Женя посунулся, провалился затылком в ямку и лежал так, растворяясь в неподвижном перед глазами пространстве, таком странном и далеком от всего того, что ведает человек на земле. О чем думал Демьянович, глядя туда же? О чем думал Толик? Кто узнает? Спина Демьяновича закрывала им ветер, но вдруг она колыхнулась, вскрикнул вдруг Толик, и в короткой тишине тюкнулись с глухим звоном о твердое ведра и вилы.
Женя открыл глаза и снова увидел спокойное небо с высокими звездами. Ведра и грабли валялись около, и под руками была земля. Он пошевелился, привстал с болью в коленке и обрадовался, что жив.
– Ой-ей, ой-ей, – плакал материн голос, – ребята убились! Толик, Женя, где вы?
– Здесь, мам, – хромая, пошел Женя навстречу. Мать общупала его. – А Толик! То-олик! А Демьянович живой?
Толик уже стоял вдалеке, прижимая локоть к животу.
– Ну, целы? – вышел Никита Иванович и склонился искать Демьяновича. Того отбросило дальше всех. – Демьянович! Сильно убился? Ты слышишь, ты живой, целый? И как я не заметил! – бил он себя по ляжке, переживая и чувствуя стыд. – Не рассчитал немножко. Ну давай, берись за меня, давай подниму.
Демьянович встал, туго разгибая спину.
– Говорила тебе, поедем, как люди добрые ездют – с утра!
– Кто мог подумать, кто ж мог подумать, что так выйдет! Ну ничего, ну слава богу, живы. Где у меня папиросы? Паразиты, дорогу не могут выстлать, голову некому оторвать, сукиным сынам.
Он пошел, матерясь и горюя, осматривать дорогу, по которой надо было ехать, плевался и винил кого-то. Ночь, еще такая прекрасная несколько минут назад, равнодушно светила над полями звездами. Грустно стало с чего-то. Отдалились куда-то мечты, встреча с домом, трезво стало и пусто.
«Не хотелось же мне ехать, как чувствовала», – думала Физа Антоновна. Демьянович молчал в стороне. Толик соображал, как будут поднимать машину. Женя хотел нарушить тяжелое молчание и не мог.
Впереди выпирал мост через узкую речку, сбоку к нему поднималась ровная мягкая дорожка в два следа. Никита Иванович газовал напрямую. Торопился.
Апрель 196… г.
Добрый день, веселый вечер. Письмо твое, Женя, меня крепко огорчило, распечатала, обрадовалась, что большой лист написан, стала читать, на третьей странице остановилась, не могла больше слов видеть, как забилось в груди, появилась материнская обида, стала вспоминать, скольких лет ты остался без отца, как ты, мой сыночек, быстро вырос, я никогда не ожидала, что ты скоро женишься, я так плакала, мне казалось, что я для тебя буду уже не такая родная. Пишу письмо, а сама строчек не вижу. Я знаю, Женя, что это неплохо, ну не плакать не могу. Если у тебя так дело складывается, то я тебя, сынок, благословляю родительским словом вступить в законный брак с тем другом, который останется на всю жизнь. Желаю я вам счастья и любить друг друга всегда и везде, хотя я и поплакала, но не могу против жизни, так что уж я против ничего не имею. В тот день, когда ты писал, я себе места не находила, ровно чувствовала. Жалко, что не смогу приехать, недостатки наши мешают, да и дом с хозяйством бросить не на кого, и далеко ты забрался. Если ничего не стрясется, увидимся. Желаю быть вам счастливыми на многие лета… Деньжат пришлю.








