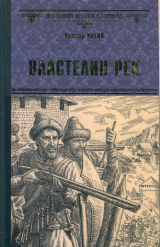
Текст книги "Властелин рек"
Автор книги: Виктор Иутин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)
Отложив грамоту для короля Юхана, он принялся перечитывать выдержки из второго письма для папы Григория (первое письмо, в коем он докладывал о своей поездке в Московию, иезуит отправил в Рим еще до приезда в польский лагерь под Псковом).
Подобно шпиону, он указывал в послании все, что мог запечатлеть о Русском государстве – перечислил наиболее важные города, описал, как и из чего московиты сооружают крепостные укрепления, рассказал о войнах Иоанна с татарами, чем предположил, что русский царь охотно вступит в союз против гурок-мусульман. Поссевино писал также о том, что Московия – важное место для распространения католичества, ибо отсюда удобно будет посылать миссионеров прямиком в Азию, сердце мусульманского мира…
Кроме того, Поссевино в послании упомянул о том, что крестьяне платят подати своим господам и отдельно – самому Иоанну, потому народ едва справляется со своей непосильной работой. Зато пошлины относительно невелики, потому так много иностранных купцов стремится продавать свои товары в Московии…
Послание это иезуит будет дописывать снова и снова, постоянно дополняя его. И в планах пока – описать детали будущего большого посольства в Москву, дабы обратить эту несчастную страну в католичество: сколько следует отправить послов, как им одеваться, какие подарки и книги следует с собой везти…
Поссевино отложил письменные принадлежности и потер онемевшие от холода руки. Какая морозная ночь! Быстрее бы, быстрее уехать отсюда…
Но дел было еще довольно много. Польский и русский государи упрямились, как ослы, оттягивая решение о начале мирных переговоров. Впрочем, иезуит настаивал, дабы Баторий не отступал ни на пядь, твердо стоял на своих условиях, и чем большее разорение он принесет державе Иоанна, тем на более выгодные для Польши условия пойдет великий князь. Тем не менее Баторий и его советники не доверяли Поссевино, даже сторонились его. Ничего! Антоний знал, что рано или поздно он добьется своего.
ГЛАВА 9
Из Александровской слободы, куда, по обыкновению, осенью уезжал государев двор, потянулись в Москву боярские поезда. Ноябрьские дни уже были коротки, и когда мутное солнце, ненадолго появляясь, вновь пряталось за горизонт, наступала непроглядная мрачная тьма с утробно завывающими в ней злыми ветрами. Никита Романович Захарьин много повидал на своем веку, но даже сейчас ему было не по себе. Он, укрытый бобровым опашнем, задумчиво глядел в темноту через мутное оконце возка. Сидя напротив, опершись на плечо рядом сидящего брата, дремал его сын Михаил. Другой сын, Федор, не спал, с тревогой глядел на изможденного отца. Видно было, что такие поездки все труднее даются пожилому боярину. К тому же пол года назад произошло то, что очень подкосило здоровье Никиты Романовича – умерла его супруга Евдокия Александровна.
С ее смертью разом потишел и помрачнел большой дом Захарьиных. Княгиня скончалась без мучений, просто однажды не проснувшись утром. Причащали и соборовали ее уже мертвой. У гроба новопреставленной стояли ее многочисленные дети, коих она сама выносила, родила, воспитала. Они утешают друг друга и со слезами глядят на мать, пурпурносерую, так не похожую на себя – в последние годы Евдокия Александровна огрузнела, а теперь, в гробу, казалось, распухла еще сильнее, что едва помещалась в него. Ни свечи, ни густой дым ладана не могли перебить уже отчетливо ощутимый сладковатый запах тлена. У изголовья стоял, опустив голову, осунувшийся Никита Романович, с болью и любовью глядя на искаженное смертью одутловатое лицо дорогой ему супруги.
Хоть и держался он с достоинством, но боль утраты скрыть он не мог никак. Он даже опасно заболел, слег надолго, и все боялись, что умрет, не выдержит. Сыновья сумели взять на себя обширное хозяйство, дочери хлопотали по дому и вокруг больного отца. Но Никита Романович заставил себя встать на ноги раньше, чем выздоровел, – не мог он отдаться болезни и необходимому ему отдыху, когда страна была уже на пороге своей гибели.
Вести были печальные – после утраты Нарвы, обеспечивающей выход к Балтийскому морю, шведы осадили Ивангород, крепость, строенную на ливонских рубежах Иваном Великим. Говорят, гарнизон сдался едва ли не сразу из-за своей малочисленности. Потерять цитадель своего великого деда для Иоанна было особенно унизительно. И вместе с тем событие это было особенно страшным – шведам открывалась прямая дорога на Новгород. Именно о помощи сему городу говорили нынче бояре с государем и наследником, прибыв в слободу. Кроме того, обсуждали вести из-под Пскова, за коими сейчас судорожно следила вся страна.
Обсуждали и переговоры Поссевино с Баторием. Бояр интересовал ответ Батория на предложение Иоанна о встрече их послов в Ям-Заполье (переданное в недавнем письме государя иезуиту), и царь велел дьяку зачитать пришедшее из-под Пскова послание иезуита:
«…Король Стефан ничего не захотел отвечать на твое предложение, говоря, что оно делается для того, чтобы оттянуть время, <…> но если бы ты согласился на справедливые условия мира, то он сам соизволил бы одобрить прочный и надежный мир – и никакой другой. Но в то время как я вёл об этом переговоры, в наш лагерь прибыли новые солдаты и были привезены новые запасы пороха и орудийных ядер, потому что раньше было принято решение во второй раз осуществить решительную попытку штурма самого города Пскова. Я постарался уговорить его не делать этого до настоящего времени, во-первых, ссылаясь на авторитет вели-кого первосвященника, во-вторых, выступая как бы поручителем перед королем Стефаном в том, что ты исполнишь безо всяких хитростей и промедления то, что ты обещал мне сам <…> так, чтобы у остальных христианских государей никогда не могло возникнуть подозрении относительно честности твоих обещании, и, кроме того, что ты скоро пришлешь обратно ко мне моего секретаря с ответом…
…В противном же случае. я слышал, будет не только величайшее кровопролитие теперь или ранней весной, но сам король вторгнется на самом широком пространстве в твои мирные земли и опустошит их, о чем я тебе и раньше писал. И я снова хочу сказать твоей светлости, чтобы ты знал: никогда у тебя не будет недостатка ни в расположении великого первосвященника, ни в моем усердии. Знай, что мне удалось с большим трудом добиться того, чтобы отослать тебе это письмо, но я отправил еще и другое письмо в Швецию, чтобы благодаря моему посредничеству появилась возможность вести переговоры о мире со шведским королем, что, я надеюсь, будет полезно и для твоего достоинства, и для твоего спокойствия.
Да исполнит тебя Господь своей милостью и обильными небесными дарами.
Из лагеря короля Стефана под Псковом. 22 октября 1581 года».
– Я знал, что от этого папского холопа не будет никакого толку! Он, наверное, не приступил к переговорам о мире ни разу, все ждет, когда государь признает первенство латинян! – негодовал потом Никита Романович, изливая накопившуюся желчь при сыновьях на пути в Москву. Досталось и государю.
– Снова он велел войскам бездействовать! Никакой военной помощи Новгороду не будет, все охраняет лишь дороги на Москву! Он снова никому не верит и теперь отказывается слушать даже своих воевод…
– Но Псков, с Божьей помощью, держится, – слабо возразил тогда Федор.
– Ежели шведы возьмут Новгород, то отрежут от государства весь север, и тогда Москву ничто не спасет!
С метущим липким снегом вернулись Захарьины в Москву. Город стоял пустой, мрачный. Копыта коней чавкали по грязи. Кое-где, заметенные порошей, лежали обломки сорванных с крыш кровель.
Никита Романович сходу торопился взяться за свое домашнее хозяйство, оставленное в руках сыновей на время его отъезда. В низкой тесной горнице, за небольшим стольцом, сидел он, вычитывая грамоты и, близоруко щурясь, подносил бумагу ближе к свету. За окном протяжно и утробно завывал ветер, что-то гремело ему в ответ.
Боярин, дочитывая бумагу, сворачивал ее, подвязывал шнурком и складывал в резной старинный ларец. Сыновья все сделали по уму, недаром строжил их отец, обучая хозяйскому делу. Стало радостно и спокойно на душе, впервые за долгое время. Сейчас Никита Романович даже забыл о тревожившей его буре, которая словно была предзнаменованием какой-то страшной беды.
Довольный работой сыновей, боярин чуть откинулся назад в своем кресле, опустил веки. Ежели бы не эта проклятая война, уверенно ведущая Россию к гибели, если бы не царевич Иван, коему при восшествии на престол необходима будет помощь мудрого дяди, одного из немногих при дворе, кому он всецело может доверять, то боярин давно ушел бы в монастырь! На покой… Замаливать грехи. И свои, и грехи братьев, и самого государя.
Никита Романович уже оканчивал дела, когда в горницу заглянул сын Федор и, с тревогой глядя на отца, доложил ему о прибытии государева гонца. Мгновенно почуяв недоброе, боярин велел привести гонца к нему, и когда облепленный снегом государев посланник вошел и, поклонившись, протянул свиток грамоты, скрепленный царской печатью, Никита Романович, сведя у переносицы брови, лично приняв свиток. Торопливо срывая печать, он приказал стоявшему в дверях Федору, указывая гонца:
– Вели накормить.
Едва дверь тихо закрылась, Никита Романович тут же принялся читать.
«…В день, когда вы от нас уехали, Иван-сын разнемогся и нынче болен… Нам, покудова Бог не помилует Ивана-сына, ехать отсюда невозможно…»
Федор, вернувшись к отцу, с тревогой глядел, как мрачнеет его лицо. Никита Романович, комкая грамоту, перечитывал ее вновь и вновь. Через несколько дней государь и царевич Иван должны были прибыть в Москву на большой собор, созванный для обсуждения условий грядущего мира с Польшей, в присутствии митрополита, епископов, бояр, окольничих, купцов и служилых людей. И Никита Романович прекрасно помнил день отъезда из слободы, помнил, что Иван был по обыкновению здоров. Никогда еще государь не откладывал свои поездки из-за своих болезней, и уж тем более из-за хвороб своих сыновей. Теперь же в своем послании Иоанн зовет боярина обратно к себе. Что же произошло там, в слободе?
В спешке Никита Романович велел закладывать сани и звать лекарей. Тревожная суматоха охватила боярский дом.
– Отец, еду с тобой! – как о давно решенном деле, заявил Федор. Никита Романович, накидывая на плечи теплый опашень, недобро поглядел на сына и молвил:
– Здесь ты нужнее. Неведомо, что за беда случилась в слободе… Опасно! Тебе доверяю хозяйство, сестер и братьев твоих. Александра кликни, со мной поедет…
Федор бросился за дверь исполнять отцов наказ. Слуга, закончив обряжать боярина, отступил в с торону. Никита Романович. седобородый, матерый, высокий, стоял посреди горницы, уже готовый отправляться в путь. Кратко взглянул на слугу, и тот понял, тут же исчез за дверью. Оставшись один, боярин, тяжело ступая, подошел к укрытому полумраком киоту, и из десятков различных икон взгляд его тут же упал на икону Знамение, подаренную ему царевичем год назад. Здесь было тихо и покойно, а снаружи, за стеной, грозно гудел ветер. И боярин вдруг ощутил какую-то свою беспомощность перед тем, что неотвратимо грядет. И стало страшно.
– Господи! Убереги от зла в пути, дозволь без препон добраться туда и спасти Ивана! Господи, обнеси и дай ему сил победить хворобу! Не отбирай у Руси единственной ее надежи!
Прошептав молитву, Никита Романович трижды перекрестился, прикоснулся губами к иконе и, отступив, двинулся к дверям, повесив седовласую голову…
Поезд боярина, в котором кроме него ехали лекари и слуги, довольно быстро добрался до слободы. Ехали без остановок, на ямах меняя лошадей и тут же отправляясь далее.
Слобода стояла такая же темная и пустая, как Москва. Никиту Романовича насторожили запертые ворота города и обилие выставленной стражи. Казалось, слобода была в осадном положении. Закрыв город, словно боялся Иоанн, что вся держава узнает о болезни наследника. Едва возок подъехал к крыльцу государева терема, Никита Романович выскочил наружу и кинулся к крыльцу. Стражники, узнав его, поспеши-ли раскрыть перед ним двери. И, к своему изумлению, он тут же встретил Бориса Годунова. Скромным кивком поприветствовал боярина придворный. За его спиной появились еще двое – кажется, они тоже были из клана Годуновых. Никита Романович остановился, с недоверием взглянул на них. Это были противники Захарьиных, те, кому удалось подчинить себе царевича Федора и его двор, и боярин хорошо понимал, что, ежели царем станет Федор, им и быть у власти…
– Не спеши, – молвил Борис, глядя прямо в очи Никите Романовичу, – в покоях Ивана Иоанновича сейчас государь, диакон и лекари, боле никого пускать не велено…
Видя, как лицо боярина начинает искажать гнев, столь стремительно всколыхнувшийся из-за дорожной устали, Годунов поспешил добавить миролюбиво:
– То приказ самого государя. Ему уже доложили о твоем приезде. У Богдана Вельского и Афанасия Нагого везде здесь глаза и уши, причем у каждого свои слухачи…
И Никита Романович прочитал в его твердом взгляде – «не враг я тебе!»
– Я привез лекарей, – молвил боярин, умерив свой пыл.
– Государь ведает, – кивнул Борис, не отводя взора.
– Ответь мне, – Никита Романович вдруг осекся и шумно сглотнул скопившуюся мокроту в пересохшем горле. – Ответь… Что с Иваном?
– Ты скоро сам все узнаешь. Одно скажу – царевич вельми плох…
Это то, чего Никита Романович боялся услышать. Он увидел уже черные пятна перед глазами, почуял, как ослабли ноги, и кровь отхлынула от лица. Он так и стоял, молча глядя на Бориса.
– Мне приказано устроить тебя и твоих слуг. Тебе надобно отдохнуть, боярин.
– Зачем государь вызвал меня? – против его воли выпалил уставший от долгой дороги и бессонницы разум Никиты Романовича. Борис не ответил – доверив гостя своим родичам, сам исчез в темных переходах дворца.
Позже Никите Романовичу все же удалось попасть в покои царевича. Государь уже удалился к тому времени, и стража пропустила боярина.
Темно, пахнет свечами и целебными снадобьями. Иван лежит в полумраке, укрытый по грудь плотным шерстяным покрывалом. Никита Романович подступил ближе, глядя в этот родной для него с давних лет лик, черты коего уже начали заостряться, костенеть. Глаза его закрыты, голова искусно перевязана. Казалось, Иван уже ничего не слышит – ни шагов вошедшего к нему дяди, ни тихой молитвы диакона, что монотонно, без остановки читает у его изголовья Евангелие.
Увидев все это перед собой, Никита Романович понял, что царевич умирает. Иного не дано. Смерть уже здесь, незримо стережет уготованную ей новую жертву, ждет свыше указанного ей часа. Видения и тени из прошлого появились перед глазами боярина, и вмиг стало горько, страшно…
Еще не осознавая, что Захарьины лишились раз и навсегда могущественного покровителя, коего так долго растили и готовили к самодержавному венцу, Никита Романович, пятясь, вышел из покоев, едва не толкнул нечаянно стоявшего в дверях стражника и, ускоряя шаг, двинулся прочь, силясь перевести дух.
Позже он узнал от своих лекарей, что кроме сильного ушиба головы у царевича открылось нутряное кровотечение. Иван уже изошел кровью настолько, что впал в беспамятство и не приходил в себя. И, к ужасу для себя, Никита Романович все понял – государь сам избил своего сына в припадке гнева. Помнил он, как страшно царь изувечил Мстиславского несколько лет назад, тот чудом остался жив. Ведал он, что государь и с сыном часто был в ссоре и все меньше мог совладать со своей яростью. Видимо, после заседания думы меж царем и наследником вновь произошел спор из-за военных действий, и, видимо, Иоанн вновь поднял руку на сына, но не сразу осознал случившееся. Немного позже один из лекарей тайно поведал боярину, что на теле царевича обнаружены были сочащиеся крупные язвы – признак «французской болезни»[10]10
Так на Руси называли сифилис. «У Царевича Ивана определен третичный люэс» – цитата из экспертной справки Академии наук СССР от 1963 года при исследовании останков царевича Ивана Иоанновича.;
[Закрыть], и из-за этого полученные им увечья оказались смертельными. Лекарь добавил, что сие великая тайна и при дворе она никому не известна. Боярин кивнул и отблагодарил лекаря набитым монетами кошелем.
Еще одно тревожило Никиту Романовича – от горя слегла в болезни беременная Елена, жена царевича. Боярин велел лекарям своим, дабы содеяли все, но спасли ребенка в чреве ее, что скоро должен был появиться на свет. Ежели царевича спасти невозможно, то пусть хотя бы живет его будущий сын, надежда царского рода…
Но и этому не суждено будет исполниться. Царевичу Ивану оставался всего день жизни. И Елена, узнав о его смерти, не сможет выносить дитя и сама выживет лишь потому, что сумеет выкинуть плод. Разом рухнуло все, что Захарьины возводили для царского трона и для будущего России. Разом рухнула надежда спасти уже угасающую династию Рюрика…
Иван ещё был жив, а по земле среди торговцев, иностранцев и придворных уже пошел слух о том, что безумный царь убил своего сына, и пересуды эти невозможно было остановить, хотя говорили о гом по углам, перешептываясь. И позже многие в своих воспоминаниях опишут это скорбное событие по-своему, порой в таких подробностях, будто видели все своими глазами. Слух об избиении царем Елены, ставшим причиной ссоры царевича с отцом, появился, едва стало известно о выкидыше молодой вдовы. Позже Поссевино в своем втором послании папе красочно опишет этот эпизод, который надолго станет «самым правдивым» и «достоверным» для историков, исследователей и писателей. Однако были (и есть) и те, кто отрицали подобные факты и верили в то, что царевич скончался от хвори. Столетиями споры не утихают, и сейчас уже ничто не сможет рассказать нам о том, что произошло в ноябре 1581 года в Александровской слободе…
Посреди ночи Иоанн вновь приходит к сыну, и, едва завидев его, тут же исчезают, словно растворяясь во тьме, лекари, слуги. Кланяется, уходя, диакон, прекратив свое монотонное чтение. Тяжело передвигаясь и стуча посохом, Иоанн опускается в кресло, что стоит рядом с ложем царевича. Властитель, державший в страхе всю страну и своих многочисленных врагов, сейчас выглядел разбитым жалким стариком. Трясущейся рукой он дотронулся до холодной длани сына, покоящейся у него на груди. Погладив ее, Иоанн, наклонился к нему, прислушался. До уха донеслось слабое клокочущее дыхание царевича.
Пелена слез вновь застилает взор, и царь, сокрушенно опустив голову, скулит и всхлипывает, ладонями размазывает слезы по своему лицу.
– Сыне! Услышь меня! Услышь… Прости меня, грешного душегубца! Прости меня… Сыне…
Посох его со звоном падает на пол, тут же робко заглянули в покой слуги, но они спешат исчезнуть вновь и тихо закрыть за собой двери.
Дрожащая рука Иоанна тянется к перевязанной голове сына, гладит его убранные назад волнистые локоны.
– Господи! Помоги! Не отбирай его у меня, Господи! Не карай… – сквозь рыдания бормочет Иоанн и задыхается в очередном приступе плача. Переведя дыхание, он поднимает вверх глаза и молвит слабым голосом:
– Отбери у меня все за грехи мои! Все! Я грешен! Я! Покарай меня, не его! Господи… Отбери жизнь у меня, пса недостойного, жизнь, Мономахов венец, все отбери! Но пусть он живет! Пусть…
Но Господь глух к мольбам царя. Дыхание Ивана все слабее, государь слышит это, и, дав волю себе, завыл вновь, спрятав лицо в руках.
И слуги, что робко стояли за дверями покоев, услышали крик государя и, крестясь, вжимали головы в плечи:
– Настя… Посмотри, что я содеял! Настя… Я погубил нашего сына… Господи!
Утром с колокольни Распятской церкви мрачно и утробно бил колокол, сообщая жителям слободы, а вслед за ними и всей стране, о смерти царевича Ивана. Постепенно перед собором собралась толпа. Кто-то падал на колени прямо в месиво грязи и снега, мужики крестились, снимали шапки, бабы плакали, причитали:
– Что же ныне будет? Как мы теперь?
Двор облачился в черное. В покоях царевича многолюдно, душно, пахнет свечами и ладаном, вновь звучит голос читающего Евангелие диакона. Иван лежит обмытый, обряженный в рубаху, шитую красным шелком. Лик его с крепко сомкнутыми глазами и ртом спокоен и величественен. Вместо повязки на голове – писаный венчик, в покоящиеся на его груди руки вложена икона. Придворные и священнослужители стеной стоят вокруг ложа, изредка слышны вздохи и всхлипывания. Никто не смеет переговариваться, все молчат или оплакивают усопшего. Здесь же, опустив голову, стоит Никита Романович, а рядом с ним – его сын Александр, с любопытством вглядывающийся в каменные лица блюстителей трона – Нагих, Щелкаловых, Вельских. Елена, вдова царевича, едва войдя в покой и увидев мертвого, тут же побледнела и начала заваливаться назад, благо, ее подхватили и, лишенную чувств, унесли.
Облаченный в черный кафтан, более похожий на рясу, Иоанн, горбясь, сидит в кресле подле одра, одной рукой он сжимает полы укрывающего тело царевича покрова, другая цепко держит посох. Он уже не рыдает, лик его будто окаменел, а потухшие глаза, словно мертвые, недвижно глядят перед собой в пустоту.
В покои входит тот, коему волей судьбы пришлось занять место наследника, тот, коего никогда не готовили к правлению, и тот, кто этого никак не желал – царевич Федор. За ним вереницей входят гордо поднявшая голову жена Ирина и другие Годуновы. Нагие и Захарьины тяжело глядят на них исподлобья – всем им, ближайшему окружению нового наследника, доведется править отныне. Только ежели сам государь не воспрепятствует этому, ведь Ирина так и не понесла за все эти годы… Да, даже сейчас, у тела умершего царевича, вельможи думают об этом, и Ирина, с достоинством оглядывая всех, видит это в их глазах и едва борется с охватившим ее волнением.
Царевич Федор несмело приближается к ложу, такой жалкий и несуразный, по лицу его ручьем текут слезы. Он мыслил еще утром попросить отца сделать наследником кого угодно, только бы не его, Федора, никак не желавшего власти, но понял, что не осмелится. Он хотел что-то сказать отцу, тихо шепнуть на ухо слова поддержки, обнять, но, увидев взор Иоанна, все так же устремленный в пустоту, не посмел этого сделать, да и оробел от прикованных к нему пристальных взглядов придворных. Иоанн так и не поднял глаза на вошедшего сына, и Федор, весь съежившись, отступил в общую толпу, стоявшую тенями в густом дыме ладана.
Иоанн, тяжело переживавший смерть сына, ни на день не оставлял государственных дел. Покинув покои умершего сына, государь принял Андрея Щелкалова, доставившего ему послания от Поссевино и самого Батория.
Иезуит писал: «…Я позаботился о том, чтобы письма твоей светлости тотчас были прочитаны королем Стефаном, которого я еще раньше, приведя многочисленные доводы и сославшись на авторитет великого первосвященника, склонил к тому, чтобы он больше не проливал христианскую кровь и не думал, взяв Псков, устроить среди его жителей большую резню. Однако никакими доводами его нельзя было убедить вывести войско из твоих владений прежде, чем не установится настоящий и прочный мир. Он часто с уверенностью говорил мне, что если не получится мира, то он этой зимой оставит в здешних местах войско во главе с главнокомандующим, великим канцлером королевства польского Яном Замойским, в Великих Луках поставит Филона Кмиту с большим отрядом воинов, а в других соседних крепостях – прочих воевод. Сам же он отправится в Литву, чтобы набрать ещё больше войска, а затем ранней весной поведет его в твои внутренние области. Поэтому, насколько быстро прибудут твои великие послы на то место, которое ты указал мне для сбора послов, и предложат те условия мира, которых от них ждут, настолько меньше будет опустошений и кровопролития, и ты восстановишь во всех своих областях желанное и действительно необходимое спокойствие…»
Выслушав послание, Иоанн, задумавшись, огладил седую бороду. Щелкалов пристально глядел на него, силясь понять, способен ли убитый горем государь принимать сейчас столь важные решения, внимательно ли он выслушал содержание грамоты? Но царь, помолчав, велел прочесть послание Батория.
«От великого государя, милостью Божьей, Стефана, короля польского и великого князя литовского, русского, прусского, мазовского, самогитского, ливонского, государя трансильванского и пр. – Иоанну Васильевичу, государю русскому и великому князю Владимирскому, Московскому, Новгородскому, Казанскому, Астраханскому, Псковскому, Тверскому, Пермскому, Вятскому, Болгарскому и пр.
Со своим гонцом ты передал нам письма, в которых пишешь, что святейший великий первосвященник и пастырь Григорий XIII прислал к тебе своего нунция Антонио Поссевино. Он известил тебя письмом о тех делах, о которых он говорил с нами ради заключения мира. И ты ради христианского мира отослал своих послов на съезд, который должен состояться между Порховом и Заволочьем, на великолукской дороге у Яма Запольского, и дал им подробный наказ решать и утверждать все дела. Также ты послал с ними охранную грамоту, показывая свое желание, чтобы твои послы вели дело с нашими послами на этом съезде. И ты обращаешься к нам, чтобы мы послали на это место своих послов с такой же грамотой, и чтобы на этом съезде и нашим и твоим послам вместе с патером Антонио Поссевино можно было бы обо всем говорить и все решать. Но этого не может быть до тех пор, пока между нами с тобой не установится крепкой братской любви и дружбы…
И вот теперь, раз ты прислал к нам своего гонца, мы по нашему стремлению к христианскому миру отсылаем наших послов на то место, которое ты назначил, – в Ям Запольский, между Порховом и Заволочьем, даем им полномочия и предоставляем возможность принимать решение во всех делах, относящихся к миру, улаживать всё остальное, довести всё до окончательного завершения и закончить так, чтобы был мир. Мы пошлем с твоим гонцом такую охранную грамоту, какую ты хотел иметь: чтобы послы свободно могли прибыть туда и свободно возвратиться оттуда, куда захотят. А что касается твоих слов в письме о том, чтобы мы отошли от Пскова и удержали наше войско от кровопролития, то об этом же настойчиво просил у нас и патер Антонио Поссевино от имени великого папы. А мы, высоко ценя это, как и подобает, указали, что именно мы сможем сделать в этом случае, заботясь между тем о том, чтобы не повредить ни нам самим, ни нашим действиям. Но при этом главным образом было решено следующее: чтобы послы твои как можно скорее поторопились, получив полную свободу действий в наказе, на назначенное тобой место и поставили такие условия, которые мы смогли бы принять. Мы, со своей стороны, отправляем туда же без промедления наших послов, к тебе же тотчас отсылаем твоего гонца.
Из нашего лагеря под Псковом. 16 ноября 1581 года от рождества Христова…»
Щелкалов, сворачивая королевскую грамоту, раболепно глядел на государя, ожидая его приказов. Не обернув к Щелкалову взора, Иоанн молвил:
– Сегодня же назначим послов и распишем полномочия. Надобно скорее начать переговоры о мире.
Сказав это, Иоанн перекрестился и бросил также крестящемуся Щелкалову:
– Теперь ступай, оставь меня…
На следующий день весь двор отправился в Москву, дабы придать царевича земле. Медленно движется траурный поезд. Плывет над тянущимися повозками установленный на носилки закрытый гроб, укрытый черной парчой. Конная стража, растянувшись, плотно обступила возки, лошади оступаются в снегу, напрочь заметшем за ночь дороги. Иоанн, усаживаясь в сани к укутанной в шубу жене, лишь на мгновение оборачивается, дабы узреть свою слободу, долгие годы служившей его главным станом. Царь покидал ее, чтобы больше никогда не вернуться сюда, в место, где в гневе он лишил жизни собственного сына…
Ближе к Москве пути успели расчистить, и задолго до въезда в столицу тут появились толпы скорбящего люда. Вскоре Иоанн велит остановить сани и в распахнутой шубе и с непокрытой головой, на глазах всей свиты и замершей при виде его толпы, пошел пешком за гробом сына, спотыкаясь и оступаясь в снегу. Следом, переглянувшись, спешились и его придворные, тоже двинулись пешком, но поодаль, на почтительном расстоянии…
Задолго до этого скорбного дня Иоанн выбрал особое место для своего погребения в стенах родовой усыпальницы московских Рюриковичей. У восточной стены Архангельского собора, за престолом ризницы предела Иоанна Предтечи, царь приказал вытесать нишу, соорудив там горнее место. Здесь, за алтарем, поодаль от своих родичей, уставший от власти царь возжелал упокоиться. Здесь же он похоронит своего старшего сына…
В день похорон к Иоанну подошла овдовевшая Елена и, пав в ноги, объявила ео слезами, что примет иночество в Новодевичьем монастыре.
– Государь, матушка осталась у меня больная и братец младший, Феденька. Молю, не оставь их, позаботься. Сие единственная моя просьба…
– Ни о чем не беспокойся, дочь моя, – отвечал Иоанн мягко, огладив невестку по щеке. Елена глядела на него снизу вверх, и в глазах ее читалось многое – и трепет, и страх, и ненависть к нему, убийце Ивана, и великая скорбь. Не отрывая от него этого безумного взгляда, Елена припала губами к руке Иоанна:
– Благодарю тебя, государь…
Вскоре Иоанн созвал Боярскую думу. Обведя всех тяжелым, изможденным взглядом страдавших от бессонницы и частых слез очей, он молвил:
– За грехи мои Бог покарал всех нас и призвал сына нашего, Ивана Иоанновича. И ныне долг мой, долг самодержца, позаботиться о своем преемнике…
Бояре Иван Мстиславский, Никита Захарьин, Федор Трубецкой, Борис и Дмитрий Годуновы, Афанасий и Федор Нагие, дьяк Андрей Щелкалов и казначей Петр Головин, разодетые в шубы, безмолвно, не шевелясь, глядят на государя, ждут. Иоанн медлит, рассматривает их, словно силится уловить потаенную мысль каждого.
– Ибо власть может и не перейти к младшему сыну нашему, Федору Иоанновичу, – бросает он и видит, как насторожились бояре, замерли. Трудно было не заметить вмиг побагровевшего лица Дмитрия Годунова. Сидевший рядом с ним Борис был невозмутим, сосредоточен. Иоанн озвучил ту мысль, кою думал каждый в те дни – как Федору, слабоумному и недалекому, вверить власть? О том думал Иоанн. Также он ведал, что сын не хочет этой власти, коя может стать для него опасной. Что после смерти Иоанна помешает этим могущественным вельможам свергнуть или убить его, отобрав Мономахов венец? Лучше уж сразу отдать им эту власть, дабы пресечь зарождающуюся смуту.
– Посему прошу вас поразмыслить, кто из знатнейших в державе подданных моих возможет принять бремя вышней власти! Я же готов буду тотчас уступить ему свой престол и удалиться на покой в монашескую обитель. Может, тогда Господь смилостивится и сохранит нашу державу! – наконец произносит царь.
Молчат бояре, переглядываясь меж собой, не осмеливаясь дать ответ государю. Многие из них помнят, как однажды Иоанн уже пытался оставить трон, но его просили остаться, а тех, кто возжелал сделать царем удельного князя Владимира Старицкого, были казнены. Ныне он вновь отрекается от власти, но все знают, для чего. Дабы ни у кого не было и мысли подумать о том, что царем может стать не царевич Федор, а кто-то иной.








