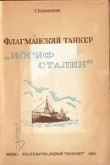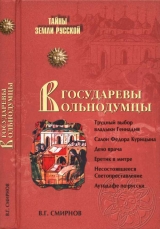
Текст книги "Государевы вольнодумцы. Загадка Русского Средневековья"
Автор книги: Виктор Смирнов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
Глава 7. Трудный выбор владыки Геннадия
И яко лев пущен бысть на злодейственные еретики.
Иосиф Волоцкий
Митрополит Геронтий не забыл измены Геннадия Гонзова во время освящения Успенского собора. Придравшись к тому, что тот разрешил братии Чудова монастыря принять пищу до вкушения Богоявленской воды, он велел заковать Гонзова и посадить в ледник, и выпустил его только по личной просьбе великого князя. Освободив сидельца, который уже готовился предстать ко Господу, великий князь стал ждать подходящего случая, чтобы в пику митрополиту Геронтию возвысить Геннадия Гонзова. Вскоре такая возможность ему представилась.
Новгородская кафедра вдовствовала уже несколько лет. После того как архиепископа Феофила упрятали в монастырь, Иван Васильевич мог сразу поставить на его место своего человека. Но великий князь славился своей медлительной постепенностью. Он не стал отменять сложившуюся столетиями традицию выборов новгородского владыки и предпочел разыграть выборный фарс, причем все три кандидата были москвичами, отобранными лично великим князем. Выиграл в этой «беспроигрышной лотерее» инок Троицкого монастыря Сергий, однако его жребий оказался несчастливым.
В Новгород Сергий приехал в сопровождении, а точнее сказать, под надзором приставленных к нему боярина, казначея и дьяка, зорко следивших за соблюдением Сергием «московского курса». Новоиспеченный владыка умудрился в короткое время настроить против себя всю новгородскую паству. Обозрев раки с мощами новгородских святых, он обозвал их «смердовичами» и всячески демонстрировал презрительное высокомерие в отношении новгородских церковных обычаев. Затем Сергий торжественно освободил великого князя от принесенной им клятвы не отбирать имущество у граждан и не выводить людей из Новгорода. Этим шагом владыка вызвал к себе всеобщую ненависть не только мирян, но и всего новгородского духовенства. Враждебная атмосфера, окружавшая Сергия, вскоре достигла такой концентрации, что это сказалась на его психическом состоянии. Разум его помутился. Полураздетый, в поношенном подряснике, архиепископ целыми днями сидел рядом с нищими на паперти у ворот Софийского собора, тупо уставившись в одну точку. Приходя в себя, Сергий слал в Москву слезные прошения об отставке, ссылаясь на то, что новгородцы чародейством отняли у него рассудок. Получив, наконец, разрешение вернуться, Сергий тотчас выздоровел и еще многие годы жил в своем монастыре, с безопасного расстояния посылая проклятия ненавистным новгородцам.
Снова встал вопрос о новгородском владыке, и теперь, отбросив игры в демократию, московский государь самолично поставил на новгородскую кафедру того самого Геннадия Гонзова, который поддержал его в достопамятном споре с митрополитом Геронтием. В формуле присяги, произнесенной Геннадием, впервые появилось выражение: «по велению господина нашего великого князя всея Руси».
Иван Васильевич надеялся, что Геннадий Гонзов станет противовесом строптивому Геронтию, а в перспективе – его преемником. Таким образом, новый архиепископ сразу попал в двусмысленное положение. Он ехал как ставленник Москвы во враждебный город, но при этом был неугоден московскому митрополиту, то есть своему непосредственному начальнику. К тому же Гонзов был первым архиепископом, назначенным светской властью, и как ходили слухи, назначенным «по мзде». Называлась даже уплаченная им великому князю сумма – 2 тысячи рублей.
12 декабря 1484 года Геннадий был хиротонисан во епископа Новгородского и Псковского с возведением в сан архиепископа. Приехав в Новгород, Гонзов обнаружил, что некогда богатейшая епархия находится в жутком состоянии. Многолетнее безвластие, огромные конфискации земель и казны, насильственные выселения самых состоятельных прихожан лишили Софийский дом львиной доли доходов. Среди духовенства царило уныние. Лишенная пастыря паства пребывала в состоянии разброда и шатания.
Однако плачевное состояние епархии не смутило нового владыку. Геннадий Гонзов обладал сильным характером и цепким практическим умом. Он происходил из боярской семьи, но светской жизни предпочел иноческую. Еще отроком он оказался на знаменитом острове Валаам, где его духовным наставником стал один из основателей Соловецкого монастыря старец Савватий. Суровая жизнь на Валааме под водительством строгого учителя закалила Геннадия, а затем, уже сделавшись игуменом почти придворного Чудова монастыря, он научился политичному общению с властями.
С первых же дней новый владыка начал твердой рукой наводить порядок в епархии, опираясь на поддержку великого князя в лице его новгородских наместников. Но в отличие от своего предшественника Геннадий действовал с осторожной твердостью, учитывая, по возможности, местные традиции и стараясь не оскорблять чувства новгородцев. Введя в богослужение молитвы за великого князя, он соблюдал древние новгородские обычаи и по примеру республиканских владык взял на себя постройку третьей части возобновляемой городской стены.
Помимо прочих неурядиц, Геннадий обнаружил в своей епархии различные толки. Верующие спорили, следует ли на всенощной петь: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже!» или «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже!» Принимавшие первый способ «трегубили» аллилуйю, а принимавшие второй – «сугубили». Сугубившие опирались на то, будто аллилуйя в переводе значит «Слава тебе Боже», хотя на самом деле аллилуйя означает: хвалите Господа! Они укоряли своих противников в том, что те, произнося аллилуйю вместо трех раз четыре раза, четверят Троицу и, таким образом, впадают в ересь. Ожесточение между партиями дошло до того, что трегубившие, составлявшие большинство, запрещали на рынке продавать съестные припасы сугубившим. Книжники или так называемые «философы», державшиеся трегубия, обвиняли своих противников в том, что свое сугубие они позаимствовали у латинян-католиков. Чтобы положить конец этому спору, Геннадий поручил переводчику Дмитрию Герасимову, ездившему за границу, исследовать: действительно ли в западной церкви двоят аллилуйю? Герасимов привез ответ, что по воззрению западной церкви все равно, что двоить, что троить аллилуйю.
(Вопрос об аллилуйе так и «завис», перейдя в грядущие столетия, чтобы, соединившись с другими разногласиями такого же формального толка, взорваться церковным расколом, которому будет суждено стать величайшей трагедией в истории Русской православной церкви. – В.С.)
Много хлопот доставил Геннадию Псков. Воспользовавшись длительным безвластием в новгородской епархии, псковичи снова попытались от нее отложиться. Они наотрез отказались пускать в свои храмы новгородских «переписчиков», посланных Геннадием, и не приняли владычного наместника. Подобные попытки Псков предпринимал в прошлом уже не раз. Еще при покойном владыке Ионе возник острый конфликт вокруг вдовых попов, которых псковичи обвинили в сожительстве с наложницами, из-за чего, по мнению прихожан, их молитвы не доходили до Господа. Тем не менее архиепископ Иона оставил вдовых попов на их приходах за дополнительную мзду дому Святой Софии, чем вызвал бурю возмущения псковичей. Зная об агрессивных намерениях Ивана Васильевича в отношении Новгорода, псковские власти решили тогда заручиться его поддержкой, чтобы заполучить собственного владыку. Однако они горько ошиблись в своих расчетах, Иван Васильевич целиком поддержал Иону, а псковичам, словно в издевку, вместо владыки прислал в подарок… верблюда. Этим шагом дальновидный Иван Васильевич нейтрализовал новгородского владыку, и вполне вероятно, что преемник Ионы Феофил вспомнил об этом эпизоде, когда перед битвой на Шелони приказывал своему полку не вступать в сражение с московскими войсками, а биться только с псковичами. После покорения Великого Новгорода, в котором псковичи воевали на стороне великого князя Московского против своего «старшего брата», псковские власти посчитали, что в благодарность за это великий князь теперь-то уж точно поддержит их в конфликте с новым архиепископом. Однако их ожидало новое разочарование. Иван Васильевич всецело поддержал Гонзова, и не только потому, что тот был его назначенцем, но и по принципиальным соображениям, ибо он являлся противником всякого сепаратизма, равно светского и церковного.
Приструнив псковичей, Геннадий впредь постарался не выпускать из поля зрения ненадежный город. Он помнил, что именно здесь зародилась ересь стригольников. Истовые в вере, псковичи были нетерпимы к мздоимству и прочим грехам духовенства, и теперь владыка опасался, что стригольническая ересь может сюда вернуться. Но оказалась, что другая ересь, куда более опасная, свила гнездо буквально под самым его носом. Наткнулся на нее архиепископ Геннадий, можно сказать, случайно.
…С отъездом из Новгорода ересиарха Захарии Скары, а затем и первых «пришельцев врат» Алексея и Дениса, ересь в Новгороде не то чтобы заглохла, а как-то выродилась. Лишившись своих наиболее образованных членов, кружок вольнодумцев постепенно превратился в тайное сборище хулителей традиционного православия и церковных порядков. Дело усугубилось русским пьянством.
На очередной еретической сходке священнослужители Григорий, Герасим, Гридя, Наум и Самсон сильно напились и перессорились друг с другом. Скандал получился шумным, о нем прознал владыка Геннадий и потребовал виновных к ответу. Испугавшись доноса своих собутыльников, один из еретиков, поп Наум, сам поспешил выложить владыке все, что знал о ереси. Он передал также богослужебные тетради, по которым молились еретики, и среди прочих так называемую «Псалтырь жидовствующих». Этот сборник иудейских молитв, с изъятыми пророчествами о Христе, был русским переводом Махазора. ( Махазор– годичный цикл молитв, песнопений и правил литургии на основные иудейские праздники: Рош ха-Шана, Иом-Киппур, Песах, Суккот и др. – В.С.)
По доносу Наума еретики глумились над иконами, кололи их на растопку для печей, «спускали на святые образа дурную воду», то есть мочились на них, привязывали кресты на шею воронам и т. д. В своем иконоборческом вандализме еретики вели себя подобно язычникам, которые избивали палками «провинившихся» божков.
Потрясенный архиепископ Геннадий написал о случившемся митрополиту Геронтию и великому князю. Первым отреагировал государь. Он приказал Геннадию «беречься, чтобы то лихо по всей земле не распростерлось», и поручил ему вместе с великокняжеским наместником начать расследование. Были арестованы названные Наумом поп Гридя, его сын Самсон, поп Герасим и дьяк Борисоглебский. После допроса подозреваемых отпустили на поруки до конца розыска. В ту же ночь все четверо бежали в Москву под защиту Алексея и Дениса.
Бывшие новгородские священники к этому времени сделались в Москве важными особами. Оба были вхожи ко двору великого князя и часто общались с ним самим и его ближайшим окружением. Приняв прибежавших из Новгорода сообщников, Алексей и Денис обвинили Геннадия в усердии не по разуму и попытались замять дело о ереси. Митрополит Геронтий, ненавидевший Гонзова, готов был их поддержать.
Однако Геннадий не успокоился. Не получив под держки митрополита, он разослал тревожные Послания другим епископам: сарскому, суздальскому и пермскому. Писал, что «в Новгороде открылись еретики, которые держат ереси маркианскую ( отвергающую Троицу), мессалианскую ( отвергающую церковную обрядность) и саддукейскую (отвергающую будущую жизнь. – В.С.) и всячески скрываются, называя себя православными христианами». В подробностях описав еретические надругательства над иконами, Геннадий просил епископов ходатайствовать перед государем и митрополитом, чтобы «делу исправление чинити», ибо «та прелесть здесь распростерлась не токмо во граде, но и по селам. А все от попов, которые еретиками становились в попы: да того ради и в попы ставят, чтобы в свою ересь привести».
Именно Геннадий первым определил ересь как «жидовскую». Термин «жидовствующий» был широко распространен в антиеретической византийской литературе. По мнению Иоанна Дамаскина, все ереси, родившиеся после победы христианства, имеют корни в иудаизме, то есть все еретики после третьего века новой эры виноваты в «жидовствовании». При этом «жидовствующий» не всегда значит «верующий в иудаизм», или христианин, обратившийся в иудаизм. Обвинение применялось намного шире. Оно означало ересь вообще, уклонение от истинного христианства.
Послания Геннадия возымели действие. В 1488 году Собор Русской православной церкви рассмотрел дело о беглых новгородских еретиках. Всех названных, кроме Гриди Борисоглебского, на которого не было других улик, кроме показаний Наума, признали виновными в поругании икон. По приказанию великого князя еретиков подвергли градской, то есть светской казни – наказанию кнутом. Как пишет московская летопись: «Тою же весной биша попов ноугородских на торгу кнутом, приела бо их из Новгорода к великому князю владыка Геннадий, что пьяни поругались святым иконам». Как повелось, все имущество еретиков переходило в собственность великого князя.
Казалось бы, архиепископ Геннадий мог торжествовать. Он добился соборного осуждения ереси, его поддержали великий князь и митрополит, ему вернули бежавших в Москву еретиков для продолжения расследования. Однако было нечто, мешавшее Геннадию праздновать победу. Он понял, что в сети попала всего лишь мелкая рыбешка, а весь руководящий центр еретического сообщества находится в столице.
Продолжая допросы еретиков, Геннадий дознался до их высоких покровителей: «Спросили мы Самсонка: ведаешь ли, что говорят на Москве? И Самсонка молвил: ведаю, как не ведать. Ходили все запросто к Федору Курицыну, дьяку великого князя. Ходят к нему Алексей протопоп, да Истома, да Сверчок, да Ивашко Черный, что книги пишет, да поучаются на православных. Да приехал с Федором Курицыным угрянин, Мартыном зовут. Ино Курицын начальник тем злодеям».
Таким образом, из показаний насмерть перепуганного попа Самсонки вытекало, что во главе ереси стоял фаворит великого князя, посольский дьяк Федор Курицын, человек, который фактически управлял всей внешней политикой России!

Скорее всего, архиепископ Геннадий и сам был не рад такому открытию. Будучи искушен в придворных делах, он знал, какое влияние имеет Курицын на великого князя. Знал он и о связях дьяка при дворе наследника престола и его супруги Елены, за которыми стояли могущественные бояре Патрикеевы и Ряполовские. Не стоило сбрасывать со счетов и бывших новгородцев, Алексея и Дениса, постоянно общавшихся с государем в Успенском и Архангельском соборах. Таким образом, открыто ополчившись против Курицына и других московских еретиков, Геннадий Гонзов разом приобретал в Москве множество врагов. Да каких врагов! Хуже того, он мог лишиться поддержки самого государя. Именно это последнее обстоятельство более всего огорчало Геннадия. По натуре он вовсе не был оппозиционером и в Новгород ехал искренним сторонником великого князя, которого считал своим благодетелем.
Сигнал, полученный Геннадием из Москвы, был прямым и недвусмысленным: наводи порядок в своей епархии, а в столичные дела не мешайся! Эта команда исходила от непосредственного начальника Геннадия – митрополита Геронтия. Кстати сказать, митрополит уже одряхлел, и Гонзов, как архиепископ крупнейшей и древнейшей епархии, теперь уже мог реально претендовать на его место. При том, конечно, условии, что он будет вести себя правильно и ни в коем случае не вызовет неудовольствие Державного, от которого теперь зависели все назначения на высшие церковные посты.
Здравый смысл подсказывал Геннадию, что розыск надо прекратить, ограничившись наказанием новгородских еретиков и постепенно спустив дело на тормозах. Но на этот раз владыка поступил вопреки этому самому здравому смыслу! Что же заставило Геннадия поступить таким образом? Может быть, с ним сыграл злую шутку неистребимый новгородский дух, который удивительным образом менял людей, превращая вчерашних москвичей в новгородских патриотов, а послушных конформистов в яростных, оппозиционеров?
Что ж, три года в Новгороде и впрямь не прошли для Геннадия бесследно. Став владыкой необозримой новгородской епархии с ее бесчисленными монастырями и храмами, он получил в свое распоряжение колоссальные богатства. Даже обедневшему Софийскому дому могла позавидовать не только любая архиерейская кафедра, но и сам московский митрополит. Гонзов успел сблизиться с новгородской паствой и, вероятно, по-иному стал смотреть на многие вещи. И все же, думается, причины поведения архиепископа Геннадия лежали глубже.
Нет, здравый рассудок не изменил владыке. Наоборот, этим своим дальновидным трезвым умом Гонзов смог первым оценить масштаб угрозы, надвигающейся на Русскую православную церковь.
И угроза эта исходила не от кучки вольнодумцев, и уж тем более не от пьянственных попов, использовавших иконы на растопку и «спускавших на них дурную воду». Угроза исходила от человека, который задумал подмять под себя церковь, забрать ее богатства, упразднить монашество, поколебать главные устои православия. Этим человеком был великий князь Московский и всея Руси Иван III. Геннадий успел хорошо изучить государя и знал, что тот ничего не делает зря. И если он держит возле себя еретиков, значит, собирается использовать их в качестве тарана, которым разобьет здание церкви, подобно тому, как нанятый им итальянец Аристотель Фиораванти разбил недостроенный Успенский собор, чтобы построить его заново, но уже по-своему. Прибрав к рукам все русские земли, великий князь теперь хочет сделать то же самое с Русской православной церковью, превратив ее в своего покорного вассала.
А вот с этим Геннадий Гонзов смириться никак не мог. При всей своей лояльности и даже угодливости по отношению к светской власти, владыка Геннадий был прежде всего человеком церкви и превыше всего ставил ее интересы. На кону стояли сами основы православия, и у владыки просто не оставалось иного выбора. Вот так вполне расчетливый и осторожный новгородский архиепископ в одночасье превратился в непримиримого оппозиционера. Его союзниками могли быть только его сотоварищи – архиереи, да и то не все. И, тем не менее, Геннадий вступил в противоборство не только с еретиками, но и с их высокими покровителями. Так началась эта сложная шахматная партия с непредсказуемым исходом.
Глава 8. Салон Федора Курицына
Душа самовластна – заграда ей вера.
Ф. Курицын
Новгородский попик Самсонка не солгал: еретики действительно собирались в богатом московском доме Федора Курицына, превратившемся в штаб-квартиру ереси. Присутствие высокопоставленных лиц, а также явное благоволение со стороны великого князя служили приманкой для тех, кто хотел стать ближе к престолу. Здесь бывали богатые и влиятельные люди, иноземцы, придворные.
Ядро сообщества представляли два посольских дьяка (Федор и Иван Курицыны), личный переписчик великого князя (Ивашка Черный), секретари московского митрополита (дьяки Истома и Сверчок), настоятели главных придворных соборов (протопопы Алексей и Денис), духовник невестки великого князя (Иван Максимов), придворный астролог (Мартин Былица), бывший протопоп Софийского собора (Гавриил). Люди, как видим, либо сами облеченные властью, либо близко к ней стоящие. Впоследствии круг этих лиц расширится, пополнившись такими фигурами, как митрополит Московский и всея Руси (Зосима), настоятель древнейшего и богатейшего Юрьева монастыря (Кассиан), а также несколькими состоятельными московскими купцами (Игнат Зубов, Семен Кленов и др.). Так что попытки советских историков изобразить еретиков идеологами «антифеодального движения» вряд ли стоит всерьез оспаривать. Вполне очевидно, что этих людей соединяло нечто другое, нежели переживания о судьбах угнетенного крестьянства. Более того, как мы увидим в дальнейшем, при их непосредственном участии был сделан первый шаг по введению в стране крепостного права.
Бесспорным лидером еретического сообщества, как по своему интеллектуальному уровню, так и по сосредоточенному в его руках «административному ресурсу», являлся сам хозяин дома Федор Васильевич Курицын. Правой рукой Федора, его alter ego, то есть «другим я», был его родной брат Иван по прозвищу Волк, который также входил в число наиболее приближенных к великому князю людей. В качестве посла по особым поручениям Иван Волк много колесил по Европе, участвовал в важнейших переговорах, используя дипломатическую «крышу», занимался вербовкой русской агентуры среди иностранцев. Как личность Иван Волк во многом повторял своего брата. Он был таким же страстным книгочеем, знал несколько языков и пробовал себя в писательстве. В ересь Иван впал, вероятно, тоже под влиянием Федора. Забегая вперед, скажем, что трагическая развязка в судьбе Ивана Волка Курицына наступила в тот момент, когда он лишился старшего брата.
Салон Федора Курицына просуществовал как минимум десять лет. Первоначально «мудрования» еретиков вращались в основном вокруг религиозно-философских вопросов, но постепенно они все больше смещаются в политическую сферу, а само сообщество вольнодумцев превращается в подобие тайной ложи, тесно связанной с мощной дворцовой группировкой, образовавшейся вокруг Елены Волошанки.
До нас дошли немногие труды еретиков, но даже по ним складывается впечатление, что их деятельность была подчинена некоему единому плану. Сам Федор Курицын разрабатывал новое философское воззрение, которое должно было прийти на смену традиционному мировосприятию русского человека, покоящемуся на православных ценностях. Это мировоззрение изложено, а точнее сказать, закодировано Курицыным в его знаменитом «Лаодикийском Послании» – одном из самых загадочных литературных произведений русского Средневековья [4]4
Фактически это единственный уцелевший памятник, написанный собственно еретиками. Другие их тексты до нас не дошли, что чрезвычайно затрудняет исследование их мировоззрения. – Примеч. ред.
[Закрыть].
Первая часть «Послания» представляет цепочку афористических изречений, расположенных по определенной системе – каждая новая фраза начинается со слова, которым заканчивается предыдущая фраза:
Душа самовластна, заграда ей вера.
Вера – наказание, ставится пророком.
Пророк – старейшина, исправляется чудотворением.
Чудотворения дар мудростью усилеет.
Мудрости – сила, фарисейство – жительство.
Пророк ему наука, наука преблаженная.
Сею приходим в страх Божий.
Страх Божий – начало добродетели.

Загадку этих лаконичных строк пытались разрешить многие ученые. Больше всего вопросов вызывает первая строка: «Душа самовластна, заграда ей вера». У слова «заграда» есть два определения: преграда и защита. Если вера в Бога – это преграда души, то перед нами атеист. Если вера – это защита души, то перед нами человек, пытающийся найти свой путь к Богу. Но в любом случае очевидно, что идея «самовластия души» особенно дорога автору «Лаодикийского Послания». Эта идея была равно присуща и иудеям-караимам, и приверженцам каббалы, и гуманистам эпохи Раннего Возрождения. Все они считали, что душа человека не подлежит никакой опеке, над ней не должно быть чужой воли, мешающей ему думать и чувствовать, как ему хочется. Следуя этой идее, ее носитель рано или поздно должен был войти в противоречие с церковью, отрицая ее роль в качестве посредника между человеком и Богом.
Весьма красноречива и следующая фраза: «Вера – наказание, ставится пророком». По сути дела она означает, что устанавливает веру не Бог, а пророк; следовательно, Христос был пророком, а не Сыном Божьим. Пророку свойственны чудотворение и мудрость; сила мудрости – в жизни по-фарисейски, этому и учит пророк; рождающийся от его науки страх божий – начало добродетели: «сим вооружается душа». Что до «Поучения пророков», которые порождают «Страх Божий» – то это всего лишь способ держать в повиновении темную массу.
В этой цепочке силлогизмов разум фактически противопоставляется вере. Чем разумней человек, тем меньше нуждается он в вере, и наоборот, расширяя сферу разума, он сокращает пространство веры.
Вторая часть «Лаодикийского Послания» – это уже упоминавшаяся «литорея в квадратах» – особая таблица, состоящая из двух рядов букв в алфавитном порядке. В ней даны грамматические комментарии, исполненные некоего темного смысла. Это своеобразная алфавитная мистика, имеющая сильный привкус иудейской каббалы.
Третья часть «Послания» представляет собой зашифрованную «простой литореей» подпись Курицына («Феодор Курицын диак»). Здесь он называет себя «переведшим «Послание», хотя никаких оригиналов этого литературного памятника до сих пор не обнаружено. И эти два обстоятельства – зашифрованная подпись и попытка скрыть свое авторство – наводят на мысль о том, что Курицын понимал еретический характер своего произведения и решил таким образом перестраховаться, поступившись авторским тщеславием.
Но Федора Курицына волновали не только и даже не столько общефилософские вопросы. Он глубоко задумывался о природе власти. Отзвуки этих размышлений слышны в «Сказании о Дракуле-воеводе», написанном им под впечатлением от поездки в Валахию.
Каким же увидел Дракулу глава еретиков Федор Курицын? В его описании Дракула – это «диавол на троне, он зломудр», но жестокость его может служить и для искоренения зла. «И только ненавидя в своей земли зла, яко кто учинит кое зло, татьбу, или разбой, или какую лжу, или неправду, той никако не будет жив. Аще ли великий болярин, иль священник, иль инок, или просты, аще и великое богатство имел бы кто, не может искупити от смерти, и толик грозен бысть».
В словах Курицына явственно чувствуется оттенок восхищение Дракулой, а также уверенность в том, что его свирепая жестокость с государственной точки зрения – вещь необходимая и даже полезная. Но тогда возникает вопрос: точно ли Курицын был гуманистом, каким его обыкновенно рисовали советские историки, или, подобно своему государю, он был просвещенным макиавеллистом, для которого политическая цель может оправдать любые средства ее достижения?
«Сказание о Дракуле-воеводе» – это не просто сборник анекдотов о средневековом садисте. Сажая людей на кол или вбивая им в голову гвозди, валашский воевода, по мнению Курицына, стремится установить в своей стране закон и справедливость. А если вспомнить, в какое время была написана повесть, то становится очевидным и ее политический контекст. В России, как и в Европе, заканчивались времена феодальной раздробленности. Наступало время централизованной власти, и жестокость оправдывалась этой властью как способ наведения единого порядка.


С годами философские размышления и вовсе отступают для Федора Курицына на второй план. Он уже не рассуждает о свободе, воле. Вольнодумец и еретик становится фактическим идеологом самодержавия. Именно Федор Курицын первым на официальном уровне озвучил идею божественного происхождения самодержавной власти русского государя. В 1488 году во время торжественного приема в честь имперского посла думный дьяк зачитал составленную им декларацию, начинавшуюся словами: «Мы Божию милостью государи на своей земле изначально от Бога».
С этого момента идея неподотчетности монарха своим подданным ляжет краеугольным камнем в фундамент русского самодержавия. Пройдет еще сто лет, и слова Курицына: «Без грозы немочно в царство правды ввести» сделает своим девизом внук Ивана III Иван Грозный, который будет строить свое царство на крови и далеко превзойдет в свирепости валашского воеводу. В письме английской королеве Елизавете Грозный попрекал ее заигрыванием с народом и гордо заявлял: «Наша власть от Бога, а не от многомятежного людского соизволения». Эта идея так глубоко внедрится в умы и всех последующих отечественных монархов, что даже последний царь Николай II написал в анкете: «Род занятий – Хозяин земли русской». При этом надо помнить, что монархия и самодержавие – это вовсе не одно и то же. Конституционные монархии, основанные на подчинении закону и монарха и подданных, оказались более жизнеспособны, нежели самодержавные, некоторые из них существуют и до сих пор.
Нет сомнений, что, разрабатывая идеологию русского самодержавия, Федор Курицын выполнял прямой заказ великого князя. Для Ивана III «божественное» происхождение его власти являлось не только подтверждением его высокого статуса в одном ряду с европейскими монархами, но и оправданием для любых беззаконных действий, в том числе клятвопреступлений, присвоения собственности своих подданных, бессудных расправ с неугодными.
Столь же очевидно проступает «государев заказ» и в трудах другого видного еретика – Ивана Черного. Черный был не простым переписчиком, по сути дела он формировал великокняжескую библиотеку. Его главным трудом стал «Еллинский летописец» – огромный хронографический свод, содержащий изложение всемирной истории от Навуходоносора до византийского императора Романа. Иван Черный не просто переписывал «Летописца», он фактически редактировал его, опуская одни тексты и выпячивая другие. На полях книги сохранились пометы, сделанные рукой Черного, так называемые глоссы, зашифрованные «пермской полусловицей» – старинной азбукой, непонятной для обычного читателя. В них, выражаясь пушкинскими словами, «то кратким словом, то значком, то вопросительным крючком» явственно проступает позиция переписчика.
Заказчиком книги был великий князь, о чем сам Черный пишет в предисловии. Обратим внимание, что сделан этот заказ был в 1485 году, когда Федор Курицын еще находился в крымском плену. Получается, что инициатором еретических «мудрований» в Москве был не Курицын, как принято считать, а сам великий князь! Выбор им «Еллинского летописца» был далеко не случаен. Свод являл собой апологию самодержавной власти, и вся история народов представлена в нем как результат деяний их правителей. Но этим задача переписчика не ограничивалась. Иван Черный заботливо вооружает великого князя теологической аргументацией в готовящемся наступлении на церковь. Кроме «Еллинского летописца» он черпает ее и в «Сборнике Библейских книг», в «Книге пророчеств», а также в сочинениях против монашества, где говорится, что «монахи отменяют законную женитьбу и пьюща и едуща жулят и младых детей гнушаются». Цель очевидна – скомпрометировать сам институт монашества и оправдать будущую секуляризацию монастырских владений. Стоит отметить, что в поисках аргументов против монашества Черный ссылается и на иудейскую традицию, по которой монашеское безбрачие считается неугодным Богу, ибо евреи обязаны продлевать свой род. Православные иконы и храмы государев писец уподобляет ветхозаветным кумирам и капищам, а православное духовенство – «лжепророкам». Бог для него – это любовь, и для того чтобы любить Бога, верующим не нужны посредники в лице церкви.