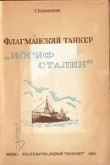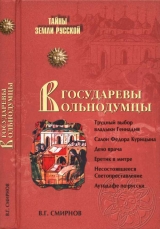
Текст книги "Государевы вольнодумцы. Загадка Русского Средневековья"
Автор книги: Виктор Смирнов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Замечательна редакция этого Слова: нигде не упоминаются поименно Алексей поп и другие еретики; нет ожесточенных нападков на их «скверну»; кроме того, во многих местах Иосиф благодушно обращается к своему читателю, называя его: «любимче». Из этого ясно, что Слово это вошло в книгу Иосифа на ересь новгородских еретиков без изменения первоначальной редакции.
Послание к иноку иконописцу
Все эти три Слова: пятое, шестое и седьмое препровождены были Иосифом вместе с Посланием к одному иноку-иконописцу, вероятно, Феодосию иконнику, о котором упоминают жития Иосифа и сам он в Послании к Третьякову.
В Послании этом Иосиф говорит, что, исполняя просьбу духовного брата, он посылает ему то, что может послужить на пользу: «Яко ныне мнози лестьцы изыдоша в мир, Новгородских глаголю еретиков глаголющих, яко не подобает покланятися иже от рук человеческих сотворимым вещем»…
В Послании Иосиф передает содержание трех Слов; но первым ставит то, которое стоит в «Просветителе» шестым; вторым то, которое там поставлено седьмым, и наконец, последним ставит Пятое слою «Просветителя». Первое и последнее (6-е и 5-е) он предлагает как нужные для прений с еретиками, на второе (7-е) указывает как на потребное всякому христианину, не имеющему многих книг. «Обаче да ведает твое боголюбие, – прибавляет Иосиф о своих сочинениях, – яко не моее мысли суть сия, но от многих божественных писаний избрах и вмалех многое совокупих, тебе послах. Вем бо яко неимаши ты у себе многих книг». Остальное содержание Послания к иноку иконописцу – беседа о памяти смертной и притча о духовном врачевстве, заимствованная из рассказов старчества.
По истечении семи тысяч лет еретики воспользовались одним поколебавшимся верованием и стали доказывать несостоятельность отцов церкви. Тогда Иосиф в опровержение учения их и для успокоения людей, ожидавших кончины мира с наступлением восьмой тысячи, написал свои Восьмое, Девятое и Десятое слова на еретиков новгородских. Слово на «глаголющих, яко седмь тысящь лет скончася и Пасхалиа прейде, а второго Христова пришествия несть… писания отчьская суть ложна. Слово на… глаголющих: чего ради несть второго пришествия Христова, а уже время ему быти? Апостоли убо написаша, яко Христос родися в последняя лета… апостольская писания ложна суть. Слово на… хулящих писаниа Святого Ефрема и глаголющих яко ложна суть писания его». Эти три Слова составляют одно целое. По заключительным словам каждого из них видно, что они составляли одно Слово, по объему равное седьмому и уже в последствии разделенное на три Слова, но без изменения первоначальной редакции.
В этих трех Словах, как видно из самого заглавия их, Иосиф опровергает учение еретиков о ложности апостольских и отеческих писаний. Но кроме того, ему нужно было успокоить поколебавшееся верование многих православных, которые думали, что с окончанием писанной святыми отцами Пасхалии, истекшей с 7000 годом, наступит кончина мира. С начала Иосиф поучает (слово 8-е), что нам не следует пытать о том, что Бог от нас скрыл, потом доказывает, на основании свидетельств из Евангелия и толкований на него Златоуста, что время кончины мира и Второго Пришествия от нас сокрыто. Еретики предлагали сжечь писания святых отцов за то, что помещенное в них пророчество о семи тысячах лет не сбылось. Так думают только те, говорит на это Иосиф, которые не хотят потрудиться «в ширине божественного писания» и в след за тем разбирает места из святых отцов, на основании которых составилось ложное верование в кончину мира по истечении 7000 лет от Адама. Оказывается, что ни один из отцов церкви не говорит о семи тысячах, а говорят они все о семи веках. Иосиф излагает учение, что век в священном писании не означает ни ста лет, ни тысячи, и указывает на ложное верование тех, которые в прежние времена, с истечением десяти столетий по Рождестве Христове, ожидали кончины мира. Последнее мнение основывалось, говорит Иосиф, на том, что ангел в Апокалипсисе связал сатану на тысячу лет. После краткого рассуждения об опасности «самомышлением» объяснять непонятные места Св. Писания, Иосиф выписывает отрывок из сочинения «премудрого оного старца, иже книгу написа, глаголемую зерцало». Отрывок этот состоит из разговора «госпожи души» и «рабыни ее плоти» о времени «скончания». Из него видно, что старец, писавший «зерцало», не разделял верования, что с седьмою тысячью настанет конец миру. «Познавай убо яко Святый старец, иже и сиа написавый, бяше в лето шесть тысящное и шестьсот третие, отселе за четыреста лет». Затем Иосиф разбирает происхождение верования в кончину мира с истечением известного срока. Иные, говорит он, основываются на мясопустном Синаксаре Никифора Ксанфопула, который, не сославшись ни на пророка, ни на апостола, ни на другого святого писателя, утверждал, что в Писании сказано: по истечении семи тысяч будет Второе Пришествие. «Безсловесно убо есть, еже приводити на свидетельство неведомые вещи», – заключает Иосиф. Другие основывают это же верование на том, что Пасхалия святыми отцами написана только на 7000 лет. На это Иосиф объясняет («пишут исторические словеса»), что до первого Вселенского собора совсем не было Пасхалии и что только на нем св. отцы уложили, когда творить Пасху, и написали миротворный круг на 532 года и границу таким образом, что оный круг, подобно лунному, обращается до бесконечности. А другие, продолжает Иосиф, написали «плохую Пасхалию до шеститысячного лета», вследствие чего и стали ждать кончины мира по истечении шести тысяч лет, т. е. в конце VII века. Мнение это подкреплялось тем, что мир создан в шесть дней, а в седьмой Бог почил от дел своих. Когда это верование не оправдалось, стали думать, что конец миру наступит по истечении тысячи лет от Рождества Христова, и тогда изложили Пасхалию до XI века. Впоследствии стали предполагать, что «седморичен век сей» и что продолжится он до 7000 года от Адама, вследствие чего и Пасхалию изложили только до этого срока, Иосиф утверждает, что все эти домышления оттого и не крепки, что не основаны на свидетельстве Божественного Писания.
Рассмотрев все писанное апостолами о кончине мира (слово 9-е), Иосиф долго рассуждает о том, почему человеку нельзя и не должно размышлять о тайнах Божиих. Говоря о том, насколько худо естество человека, он приводит выдержки из книги Иова.
Но вместе с поколебавшимся верованием в семитысячный срок поколебалось мнение о кончине мира и о Страшном суде. Еретики преимущественно хулили писания св. Ефрема Сирина, писавшего о последних временах и Страшном суде. Тысяча сто лет прошло, говорили еретики, с тех пор как писал Ефрем, а Второго Пришествия все нет. В Десятом слове Иосиф излагает учение о Втором Пришествии. Он начинает, как всегда, с Ветхого Завета и выписывает из книг Моисеевых и пророческих многие тексты; затем обращается к Евангелию и Апостольским Посланиям и на основании их доказывает, что Святой Ефрем писал истину и что нет разногласия между учением его о конце мира и свидетельствами Ветхого и Нового Завета о том же предмете. Иосиф укоряет еретиков за то, что они разбирали писания Святого Ефрема, не сравнивая оных со Священным Писанием. В конце Десятого слова Иосиф на основании евангельских и апостольских свидетельств подтверждает то, что писал св. Ефрем о Страшном суде и антихристе.
Одиннадцатое слово на еретиков новогородских писано в защиту иночества
Это обширное Слово подразделено на 4 главы, из которых каждая соответствует особому доводу еретиков против монашества. В последней главе, доказывая, что иноки не гнушаются пищи, Иосиф объясняет многие древние ереси и в одном месте говорит о Магомете: и «Моамефь, иже Агаряны прельсти, повелееват во своих богохульных списаниях вина никакоже вкушати, не чисто убо то глаголет быти».
Из Одиннадцатого слова видно, насколько Иосиф был монах в душе и как близка сердцу его была самая символика иноческой одежды.
Двенадцатое слово на еретиков новогородских, «глаголющих: яко аще еретик будет святитель и аще не благословит или проклянет кого от православных, последует его суду божественный суд»
Оно дословно схоже со второй половиной Послания к Нифонту. Слово это лишено той литературной обработки, какою отличаются обличительные Слова Иосифа: нет ни вступления, ни связи с последующим Словом. От второй части Послания к Нифонту оно отличается тем, что в нем выпущены все обращения Иосифа к епископу; кроме того, изменен самый порядок расположения частей сочинения: ссылки на отцов церкви, встречающиеся в Послании все в одном месте, разбиты таким образом, что две из них помещены в самом начале Слова. В Слове недостает примера из жития Симеона Дивногорца, но зато в нем находим недостающие в Послании четыре выдержки из церковных правил о еретике епископе (Карфагенского собора правило, – правило Григория Аграгантийского, седьмого Вселенского собора 4-е и Устиниана царя новых заповедей – 9-е).
Двенадцатое слово встречается весьма редко в числе шестнадцати Слов «Просветителя».
Послание ли Иосифа к Нифонту оказало свое действие, или поступки самого Зосимы были тому причиной, только 17 мая 1494 года митрополит лишился своего сана. Правдивый современник летописец говорит, что митрополит был отрешен за пьянство и нерадение. До нас же дошла грамота Геннадия в Москву, где говорится, что «отец наш митрополит своее ради немощи остави престол». Очевидно, что опасаясь подорвать значение такого великого сана, церковь прикрыла нечестие Зосимы…
Зосима сведен был в отсутствии Федора Курицына, который в марте послан был в Литву по поводу сватовства Елены Ивановны за великого князя Литовского Александра.
Курицын был третьим лицом в этом посольстве. Другие двое были – князь Василий Иванович Косой, сын князя и боярина Ивана Патрикеева, двоюродного брата великого князя Ивана Васильевича и князь Семен Ряполовский зять Патрикеевых. Отношения Курицына к Патрикеевым могли начаться издавна: отец Федора Григорьевича и брата его Ивана – Волка Курицыных, Григорий Романович Курица, потомок Ратши и родич Челядниных, был боярином великой княгини Марии, супруги Темнго, в то время как сестра Темного уже была замужем за князем Юрием Патрикеевичем.
Престол Русской митрополии, по сведении Зосимы, оставался праздным целых шестнадцать месяцев. В январе 1495 года мы видим на первом месте в Москве Симона, Троицкого игумена
С монастырем Сергия преподобного связывали Ивана III не одни предания, дорогие для правнука Димитрия Донского и сына Василия Темного: долголетняя дружба его с игуменом Троицким Паисием, которого он желал видеть митрополитом, была новой живой связью между Иваном и монастырем Сергия. Незадолго до вызова Симона, Троице-Сергиевского игумена, в Москву Иван Васильевич оказал новую льготу этому монастырю.
В переведении туда Зосимы из Симонова монастыря можно видеть своего рода милость, оказанную сведенному с престола митрополиту. Это перемещение Зосимы могло состояться по возвращении Патрикеева и Курицына из Литвы.
В сентябре 1495 (7004) года совершилось посвящение Симона. В октябре князь великий отправился надолго в Новгород, взяв с собою 13-летнего внука своего Димитрия, отец котораго, великий князь Иван Иванович, умер за шесть лет до того. Мать Димитрия Елена Волошанка также имела отношение к Федору Курицыну, который ездил послом сватать ее за великого князя и в 1482 году привез ее из Валахии в Москву. Когда образовалось соперничество Елены и Димитрия, с одной стороны, а Софии и Василия – с другой, к первым примкнула боярская партия, к последним люди новые, которые в государствование Ивана III съехались во множестве на службу московскую.
В Новгороде архиепископ Геннадий встретил великого князя с внуком за городом, со всем собором, с архимандритом и игуменами, и это в то время, когда великий князь поддерживал еретиков. Возможность открытой борьбы с тайной ересью не существовала, несмотря на то что Иосиф еще в 1492 году вызывал бойцев на исповеднический подвиг.
Расположение великого князя к внуку вызвало интригу Софии против внука, в пользу царственного юноши Василия. Но еще не был объявлен наследник, и около великого князя видим людей той и другой партии: Челядниных, Кутузовых вместе с Патрикеевыми и Курицыными. Челяднин и князь Василий Косой с Иваном III в Новгороде и оттуда посылаются им на Камскую землю. В августе 1497 года великий князь Иван III со всем семейством делает встречу сестре своей Анне Рязанской: и около него София и Елена, Василий и Димитрий-внук.
Примирительный образ действий великого князя имел влияние на то, что ни один из иерархов не подавал голоса против еретиков. Не могло быть неизвестным, что Курицын еретик, когда еще в 1490 году Геннадий заявил о нем, что он первый печальник и заступник еретикам. Геннадий держал себя осторожно и, наказав еретиков новгородских, усердно занимался своей паствой, делами псковскими, переводом Библии и прочими делами, ознаменовавшими жизнь этого замечательного человека.
Как же смотрел на ересь и как держал себя в отношении к еретикам Симон, митрополит?
Вероятно, так же как Геннадий. Не без ведома митрополита еретик Зосима приобщался на орлеце в монастыре Сергия преподобного.
В конце 1497 года открылся заговор против Димитрия-внука, и великий князь положил гнев на супругу и сына и опалу на их приверженцев, и вслед за тем посадил на великое княжение внука.
У нас нет никаких современных свидетельств о том, что враги ереси, в то время как разыгрывалась на Москве драма соперничества двух политических партий, примыкали к Софии и Василию.
Из позднейших событий и свидетельств мы знаем, что те, которые боролись с ересью, сильно сочувствовали Василию и его партии и в свою очередь пользовались расположением этого великого князя и его друзей. Расположение к Василию во время борьбы партий видно из следующего свидетельства летописца современника: «По диавольскому навожению и лихих людей совету, всполеся князь великы Иван Васильевичь на сына своего князя Василиа да и на жену свою на великую княгиню Софью» и т. д. Но не расположение к одной партии не есть еще вмешательство в дела партий. И если митрополит не преследовал ереси, то тем более нельзя было от него и всего освященного собора ожидать вмешательства в дела великого князя. На венчании внука, на этом нововведенном обряде, который совершал митрополит с приличными торжеству речами, мы видим собор архиереев и в числе их Нифонта, епископа Суздальского, которого за пять лет до того вызывал Иосиф Волоцкий на подвиг исповеднический. Но нет в числе их ни Прохора Сарского, ни Иоасафа Ростовского, к которым в первые годы борьбы с ересью обращался с Посланиями Геннадий. Прохор оставил свой епископский стол еще в 1493 году, а Иоасаф ранее.
Ровно через год по венчании внука опала постигла князя Ряполовского и родственников великого князя Патрикеевых. Наместник московский, князь Иван Юрьевич Патрикеев, и сын его Василий Косой, враги Софии и Василия, едва избежали смертной казни – участи Ряполовскаго. По ходатайству митрополита, отец пострижен был у Троицы, сын отослан в Кириллов-Белозерский монастырь, где принял имя Вассиана и там сделался учеником монаха Нила Майкова, впоследствии основателя пустыни на Соре реке. С опалою, постигшею Патрикеевых (в феврале), совпадает пожалованье Василия Ивановича в великие князья Новгорода и Пскова (марта 21).
С возвышением Василия Ивановича начинается эпоха соборов о церковном устроении, на которых деятелем был и Иосиф Волоцкий.
Среди самих православных во второй половине XV столетия возникли разномнения. Краткий обзор их здесь объяснит несколько вопросов, разъединявших умы в то время. Некоторые из таких вопросов были возбуждены и решены так или иначе на соборах, созванных в первые годы XVII века.
В 1479 году возник спор о хождении вокруг церкви, о котором мы говорили выше. Вслед за тем занял умы вопрос о том, нужно ли двоить или троить аллилуйю? Геннадий спрашивал письменно об аллилуйи Димитрия старого (толмача). Толкуя в своем ответе архиепископу (1486) самое слово «аллилуйа», толмач допускает и двоение и троение этого молитвенного возгласа. Но мне ее помнит, говорит он тут же, что и у нас о том спор бывал между великих людей.
Рядом с этими разномнениями существовал разлад еще более сильный в местных религиозных верованиях. Еще в 1471 году митрополит Филипп подозревал новогородцев в намерении отпасть от правой веры.
Новогородцы, как известно, хотели иметь свою независимую от Московской митрополии иерархию.
Несомненно, что местночтимые в Новгороде святые, до присоединения Новгорода, не чтились в Москве, а московских чудотворцев не признавали в Новгороде. Когда Геннадий уже в сане архиепископа приехал в Новгород, ему нужно было вводить в Новгороде чествование московских святых. Всенародно во время крестного хода Геннадий воспел каноны московским чудотворцам Петру, Алексию и вновь прославленному Ионе. Первый Новгородский архиепископ – москвич, избранный и поставленный на Москве, по известию Новгородской летописи, не с должным благоговением отнесся к почитаемому новгородцами за Святого святителю Моисею и в свою очередь за то пострадал: ему стали являться древние новгородские святители и вслед за тем «прииде на него изумление», говорит новгородский летописец: «овогда видяху его в Евфимиевской паперти в одной ряске сидяща, овогда же видяху его в полдни у святой Софии седяща водной ряске и без манатии, и свезоша его болна к Троицы в Сергиев монастырь». Московская летопись, приводя известие об удалении того же архиепископа, говорит, что новгородцы отняли у него ум волшебством, причем связывает это волшебство с св. Иоанном Новгородским, о котором отзывается без уважения, говоря, что он на бесе ездил.
Сам великий князь Иван III, который по религиозному побуждению давал жалованные грамоты на села монастырям, отнял половину имений от церквей и монастырей новгородских. За то он не был принять милостиво Новгородской святыней, судя по сказанию о пламени, исшедшем из гроба Варлама Хутынского.
По понятиям москвичей, ангелы сопутствовали Ивану III, когда он шел на Новгород, а «прелестник диавол» вошел в «окаянную Марфу». С таким воззрением на Новгород написаны:
«Словеса избранна от святых писаний, о правде и о смиренномудрии, еже сотвори благочестия делатель, благоверный великий князь Иван Васильевичь всее руси, ему же и похвала о благочестии веры; даже и о гордости величавых мужей Новгородскых, их же смири Господь Бог и покори под руку его, он же благочестивый смиловася о них, Господа ради, и утиши землю их». Само собою разумеется, что новгородцы имели противоположный москвичам взгляд на благочестие Ивана Васильевича и на ту роль, которую представлял во взятии новгородском лукавый враг дьявол.
В усилении Москвы побежденные ею видели возникновение последнего царства и связывали идею об этом царстве с идеей о кончине мира и антихристе. Другие, наоборот, видели в новом возникающем царстве – милость Божию, славу и силу отечества и старались придать великому князю царское значение, а в отступлении прельщенных ересью от православия видели гибель желанного царства.
В конце XV столетия, перед наступлением 8-й тысячи, ожидали Страшного суда. Но кто же ожидал его?
В Москве, накануне восьмой тысячи, кипит деятельность: Петр Антон Фрязин достроивает Флоровскую стрельницу и вместе с братом своим Марком доводит до конца большую каменную палату [13]13
Речь идет о главной башне Кремля, ныне именуемой Спасской, и о Грановитой палате. – Примеч. ред.
[Закрыть]. Сам Иван III посылает войско на помощь Менгли-Гирею, сносится с королем римским. Мнение о кончине мира было уделом религиозных книжников и имело источник книжный в глубине веков, источник жизненный в тяжелых временах сильного внутреннего брожения и войн; моровая язва, голод и небесные знамения усиливали страх. Пасхальная таблица оканчивалась с седьмой тысячью. Со страхом помышляя о последних годах той тысячи, с которыми истекал и XV век от Рождества Христова, наши грамотники считали его последним столетием и в конце пасхальной таблицы делали приписки, что с истечением ее настанет Страшный суд. О таковой приписке свидетельствует Геннадий в одном из своих Посланий. Подобную же приписку мы можем видеть в дошедшем до нас сборнике XV века.
Геннадий, а с ним и Иосиф Волоцкий, как люди хорошо знавшие Св. Писание, не разделяли мнения современников о семи тысячах, но как люди глубоко религиозные, они не чужды были мысли о близком времени Страшного суда. Первый, когда ходил крестным ходом около вновь отстроенного Новгородского детинца, на улице до 3-х раз повторял пение канона и службу о Страшном суде. Второй – видел последние времена в появлении ереси жидовствующих. Религиозное чувство Геннадия было глубоко оскорблено уничтожением многочисленных церквей в Кремле, которые по повелению великого князя вынесены были оттуда, чтобы дать простор великокняжеским дворам и место саду, который великий князь задумал устроить около своих новых палат. Само собой разумеется, что московские верховные люди не разделяли такого взгляда на перенесении церквей за город.
Крайность религиозных воззрений была причиной тому, что иные видели преступление в благоразумных мерах, употребленных великим князем против распространения морового поветрия. Люди с подобными воззрениями смотрели несочувственно на всякие новизны и готовы были видеть ересь во всяком изменении старого обычая. Консерватизм этот готов был враждебно принять всякое новое благое начинание, и в представителях его уже созревала ненависть, причинившая впоследствии столько бед просвещенному Максиму Греку.
Во второй половине XV века начались у нас сношения с Афоном, стали показываться частые гости из монастырей Константинопольской патриархии, и русские отшельники вновь обрели старый путь на Святую Гору.
Монахи, прошедшие на Афоне школу аскетизма, любители пустынной жизни, враждебно относились к общежитию, которое возможно только при больших средствах монастыря. С другой стороны, основатели монастырей, которыми так богат был конец XV века и начало XVII, восстановляли на Руси древнее Феодосиево общежитие и вводили его как во вновь основанные, так и в старые монастыри. Пустынники типа Саввы Вышерского и Нила Сорского обратили на себя внимание Герберштейна [14]14
Сигизмунд Герберштейн (1486–1566) – австрийский дипломат, уроженец Словении, посетивший Москву и написавший книгу «Записки о Московии», доныне остающуюся важным источником по истории и этнографии России той эпохи. – Примеч. ред.
[Закрыть], который их отделяет от монахов общежительных.
Отнятием имений от Новгородских церквей и монастырей великий князь затронул вопрос о том, – владеть ли монастырям селами, или нет? В 1500 году, во время войны с Литвою, значительно прибавилось число приехавших к Ивану III на службу князей, которых нужно было оделить волостями. Великий князь, с благословения митрополита Симона, раздал новгородские церковные земли людям своим. Склонный к реформе Иван III вскоре по раздаче новгородских имений предложил духовенству решить, следует ли монастырям владеть селами? Предложить такой вопрос великий князь мог, опираясь на мнения пустынных иноков, проповедников нестяжательности. О соборе, на котором решался этот вопрос, нет положительных летописных сведений, что объясняется его частным характером. На нем дьяк Леваш говорил великому князю от лица митрополита и всего освященного собора, который состоял из московских духовных лиц и некоторых находившихся тогда в Москве книжных старцев и игумнов.
Из дошедшей до нас речи дьяка видно, что собор поучал великого князя, как надо смотреть на церковные имущества и как сами духовные доказывали на основании Священного Писания законность монастырского владения селами. Из писаний Вассиана Патрикеева узнаем, что противоположного большинству мнения был старец Нил Майков (Сорский), любимый ученик лично знакомого великому князю старца Паисия Ярославова. Зная мнения Нила о монастырских владениях, великий князь мог вызвать Нила для этого собора в Москву. Есть и другое свидетельство о том, что на соборе был Паисий Ярославов и ученик его Нил. Оно находится в письме о нелюбках между старцами Кириллова и Иосифова монастырей. Митрополит Симон и весь собор, на основании примеров из священной, церковной и отечественной истории, доказали великому князю законность владения монастырского и достигли того, что монастырские имущества остались неприкосновенными.
Собор о вдовых попах, собранный в 1503 году, своим решением возбудил протест со стороны тех, которые не считали законным благоговейных иереев-вдовцов лишать права совершать литургию. Появились люди, которые писали против такого поголовного отрешения от иерейства всех вдовцов. В защиту их писал некто вдовый священник Георгий Скрипица и тот же Вассиан Патрикеев.
Ниже мы встретимся с другими мнениями, разделившими русское общество в эпоху Иосифа Волоцкого, говорившего на упомянутых соборах за право монастырей владеть селами и за поголовное отрешение вдовых священников от священнодействия.
Летом 1503 года Иосиф, еще ни разу, с самого основания обители своей, не покидавший стен ее, отправился на собор в Москву. Туда призвали его «царская письмена», как свидетельствует одно из житий его. Собор о вдовых попах был делом гласным, открытым, но тут же, по желанию великого князя Ивана Васильевича, втихомолку, в палатах великокняжеских рассуждали о церковных имуществах. Мы видели, как решены были оба вопроса. Из позднейших писаний Вассиана Патрикеева узнаем, что Иосиф был за соборное решение обоих вопросов. В письме о нелюбках между старцами Кириллова монастыря и Иосифова приводится возражение, сделанное Иосифом Нилу Сорскому: «Аще у монастырей сел не будет, како честному и благородному человеку постричися, и аще не будет честных старцев, отколе взяти на митрополию, или архиепископа, или епископа и на всякие честные власти? А коли не будет честных старцев и благородных, ино вере будет поколебание». Жития Иосифа подтверждают это. Но в деяниях обоих соборов не упомянут Иосиф. Он, как я полагаю, умеренно держал себя на соборе и был полезен митрополиту в подборе свидетельств из Священного Писания, отцов церкви и из отечественных летописных сказаний. Во всяком случае, вопросы были решены в духе Иосифа. Дело тем на время и кончилось, и не прежде как через шесть лет Иосифу пришлось письменно излагать свои мысли о монастырских имуществах. Поучая братию в своей духовной грамоте (уставе), как старейшая братия должна держать себя на монастырских соборах, Иосиф сам свидетельствует, что он участвовал на соборах в Москве в присутствии самого великого киязя:
«Видехом бо у великых государей и самодержцев сице творима: егда убо о некоторых делех взыскание творят, благочинно и не кричанием глаголют же. Преже убо государь глаголеть, потом же и вси прилучившиеся по единому глаголют. Аще ли же начнуть мнози глаголати, тогда с яростию и гневом запрещение приимут от државнаго».
Первый вызов Иосифа в Москву совпадает с возвращением из ссылки его друзей и покровителей братьев Челядниных. Около того же времени и брат Иосифа, Вассиан, сделан был архимандритом Симонова монастыря. Вообще Иосиф появился в Москве при самых благоприятных для врагов ереси обстоятельствах. Уже более года томился в заключении великий князь Димитрий-внук и возложено было на него железо; была заключена и мать его, еретица Елена. Вся сила была теперь на стороне Василия, уже пожалованного великим княжением, – и не без его влияния сам Иван Васильевич пожелал видеть Иосифа. Ранее заключения невестки великому князю-отцу неловко было иметь личные сношения с Иосифом, стойкость которого в преследовании еретиков была ему хорошо известна.
Двадцать четыре года прошло с тех пор, как Иосиф последний раз виделся с державным. Тогда Иван Васильевич чествовал в Иосифе преемника в игуменстве святого старца Пафнутия; теперь перед ним был основатель и игумен монастыря, уже знаменитого благоустройством и строгостью устава; но что гораздо важнее – перед ним был защитник православия и враг людей, бывших столь долго в силе у него самого.
Много пережил за это время Иван Васильевич. Это был уже не осторожный московский князь, готовый бежать от Ахмата, а державный государь всей Русской земли, покоритель великого Новгорода и Тверского великого княженья. На нем было много дел, запятнавших его совесть в глазах современников: опалы на бояр, лютые казни в Москве и Новгороде; взятие в плен обманом брата Андрея Васильевича и гонение на детей его – отроков, снискавших приют, после долголетнего пребывания в темнице, в монастыре Димитрия Прилуцкаго, где одного из них церковь осенила венцом святости, и наконец, заключение в тюрьму юного, им самим возвеличенного, венчанного великого князя Руси, внука Димитрия. Никакие из темных дел Ивана Васильевича не возбуждали против него Иосифа. Он помнил только дружеские сношения великого князя с попом Алексеем, равнодушие его к нечестию Зосимы и милости, оказываемые в продолжении многих лет Федору Курицыну. Иосиф хорошо сознавал, что имеет дело не с Иваном Васильевичем, каков он был в 1479 году, когда еще никакие новизны не тревожили ума великого князя, когда он мог поспорить в ревности к святыне с митрополитом; когда он украшал гробы праведных и, прославляя новых чудотворцев митрополитов, под собственным религиозным впечатлением провозгласил святым благочестивого князя Московского Даниила (Степ. кн. 1,380). Теперь было не то безмятежное время, когда сама собой затепливалась в Успенском соборе свеча пред образом Пречистой и великий князь призывал Вассиана Рыло на прение с митрополитом о том, как ходить вокруг церкви по солнцу или против солнца.
Великий князь принял Иосифа наедине и начал говорить с ним о церковных делах. Само собой разумеется, что они говорили о тех двух важных вопросах церковных, о которых была речь на соборе: о вдовых священниках и о владении монастырском. Поговорив о церковных делах, великий князь завел речь о новгородских еретиках.
Надо заметить, что незадолго до этого свидания с Иосифом Иван Васильевич схоронил супругу свою, с которой прожил 31 год. Сам он, чувствуя слабость в теле, уже помышлял о смерти. Усталая душа искала примирения; в ней пробудились чувства, а с тем вместе и убеждения прежних лет, во всей их строгой замкнутости. Зная Иосифа за строгого поборника православия, Иван Васильевич желал оправдать себя в его глазах и получить от него прощение за прежде бывшее с его стороны покровительство еретикам. «Я узнал о ереси, – сказал он Иосифу, – и ты меня прости в том, а митрополит и владыки простили меня». Иосиф, который до того был настолько осторожен, что даже не начинал говорить о еретиках, был поражен таким смирением. «Государь, сказал он великому князю, – как мне тебя прощать!» И тогда Иван Васильевич вторично сказал ему: «Пожалуй, прости меня!» Иосиф отвечал ему, что за прежних еретиков его Бог простит только тогда, когда он восстанет на нынешних: «Государь! Только ее подвигнешь о нынешних еретиках, ино и в прежних тебя Бог простит».