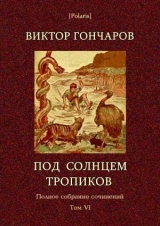
Текст книги "Под солнцем тропиков. День Ромэна"
Автор книги: Виктор Гончаров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
Проснулись пионеры от толчков. Их бросало друг на друга, сшибая лбами; колотило о стенки, натыкало на гиганта, который в свою очередь отшвыривал их, смеясь и радуясь этой забаве, как младенец погремушке.
Ночь и луна еще висели над землей, но чувствовалось по прохладе, что недалек тот миг, когда из-за горизонта выплеснется горячее солнце.
Машина шла по открытой пустыне. Скорость ее значительно поубавилась, пообтерся лоск. Хрипел, захлебывался, дрожал мотор.
Под ногами пассажиров, а у пионеров и на зубах, скрипел песок. Шоферу, более всех неподвижному, грозила опасность быть погребенным в нем; складки его одежды, кроме рукавов, содержали песчаные залежи.
Ныряя в дюнах, сзади них следовала лишь одна машина. В догонялки и перегонки никто более не играл, и расстояние между ними оставалось неизменяемым – около километра.
Со скучающим видом, словно исполняя нудную обязанность, Бамбар-биу оборачивался изредка и, не целясь, отсылал преследователям кусочек стали. Оттуда когда отвечали, когда нет: острота преследования сгладилась о пески.
Пустыня начинала приобретать предгорный характер: то и дело скрюченными пальцами шоффер вертел рулевое колесо, чтобы объехать полузанесенные песком каменные выступы.
– Эх, Петух. Дал бы ты мне на время свою игрушку, давно бы нас никто не преследовал… В самом деле, Петушок, дай… Вы бы поехали себе, а я где-нибудь спрятался бы в углублении, потом… потом догнал бы вас.
– Нет, – резал Петька, ловя поддержку во взгляде насупившегося Джона Плёки.
Местность загромождалась камнями и скалами. Бамбар-биу приставал к Петьке тем сильнее, чем чаще автомобилю приходилось лавировать и чем более полицейские выигрывали расстояние. Петька вконец заскорлупился. И вот заговорил Джон:
– Вы, несомненно, и есть знаменитый Бамбар-биу, кроющий свои делишки под маркой коммуниста?
– Разрешите представиться, – галантно изогнул корпус названный. – Имею удовольствие разговаривать с братишкой петушиным, то есть тоже с Петушком?
– Замечательно остроумно, ах! – отвечал Джон, сплевывая для выразительности через борт. – Позвольте вам заметить, сударь, что дело ваше безнадежно.
– Ох, сударыня. К чему такой пессимизм? Почему безнадежно, когда у меня в кармане – дарственная Брумлея на земли Ковровых Змей?
– Подумаешь: зарезал? Ваше дело безнадежно, потому что беспочвенно, потому что не имеет корней в массах, потому что дарственная – ерунда, она ни на шаг не приближает нас к революции… Не говоря о том, что всякие единоличные выступления, не повторяемые сотнями и сотнями, всякие выступления в условиях, не созревших для этих выступлений, обречены на неудачу. В вашем же случае они лишь навлекают преследования на массы.
– Дискуссия в самое время! – насмешливо отвечал Бамбар-биу, посылая очередную пулю в полицейский авто, подобравшийся на полкилометра. – Когда мы будем лишены этого приятного соседства, я вам отвечу, а пока… ну-ка, друг, прибавь ходу.
Шофер переключил скорости, и разбитая машина, задрожав до последнего винтика, рванулась, очертя голову, по камням.
Наконец выплыло из-за песков солнце. Свет облегчил шоферу управление и открыл цели врагам. Перестрелка вспыхнула с новой силой, но Бамбар-биу стрелял в одиночку, полицейские ж – залпами: его забивали. Пионеры, слегка вспотевшие – не от солнечного жара, нет! – опустились к подножию сиденья и там пытались развлекать друг друга веселыми анекдотами. Могучий удар, поддавший их к голубому небу, прервал анекдоты и кое-что другое. Терроризированный смертоносными кусочками стали, шофер потерял верность руки, и вот машина наскочила на каменистый трамплин и ухнула с него вниз. Волоча за собой скренившиеся и параллизованные задние колеса, она проползла некоторое расстояние в виде раздавленной лягушки и стала.
– Приехали, – объяснил шофер, делая кривую улыбку кривыми губами. – Но я довез вас до цели. – Он первым вылез из машины, обеими руками придерживая затекшую спину.
Впереди, над зеленью древовидных папоротников, и дальше – над хвоей высился Черный Утес. У Петьки приятно екнуло в груди – это был его утес, его место высадки: а где высадка, там и посадка.
– Вылезай, ребята. Петух, узнаешь местность? Между прочим: за день до тебя здесь с аэроплана высадился Маки. Но его поймали проклятые метисы. Ну, карьером…
Бросив окоченевшую машину (шофер еще – очки, авто-пальто и рукавицы), пассажиры ударились в бегство к недалекому лесу. Над их головами поговаривали пули, визжа, урча, воркуя и посвистывая. Но целиться с шаткой машины, среди зигзагов и прыжков, не так-то было легко. Беглецы невредимые достигли леса. В папоротниковых зарослях Бамбар-биу сделал передышку.
– Пионеры, на утес! – распорядился он. – Шофер, получай деньги и сыпь куда знаешь. Я задержу полицейских. Между прочим, куда ты денешься?
Повеселевший от пачки кредиток шофер объяснил:
– Некоторое время пробуду в Диэри, у меня там приятели, а потом – за границу, когда все уляжется. – Он раздвинул заросли и исчез.
– Ну чего ж, ребята? – Бамбар-биу рассвирепел не на шутку. – В воздух, что ль, мои слова? Живо в свои кораблики и – деру. За меня не извольте беспокоиться, не маленький – как любит выражаться русский Петух. Ну. Ну…
– Не нукай, не лошади, – огрызнулся Петька больше по привычке, чем по необходимости, и, недовольный, потащил Джона к утесу.
Бамбар-биу остался один и началась потеха. Полицейские в сотне шагов залегли за машиной и по кустам, откуда анархист, постоянно меняя место, сыпал пулю за пулей, и открыли ожесточенный огонь.
На вершине утеса, где ялики по-прежнему липли к железистому камню, Петька был удивлен присутствием нового предмета. Между яликами – такого же цвета и металла, как они – лежал четырехугольный вытянутый ящик с кольцом на крыше и с рычажком подъема возле кольца. Такую штуку сюда мог прислать один только техник. Петька ремнем привязал ящик к ялику Веры, а этот последний – к своему:
– Садись, Джон.
Но с отлетом он медлил.
С юга летел самолет. В кустах за анархистом шевелились черные косматые головы, до темени выбритые; среди них Петька узнал стариков из общины Ковровых Змей.
Бамбар-биу давно открыл в ясном небе алюминиевую птицу, но стариков заметил лишь тогда, когда выпустил последний патрон и хотел улепетывать. Старики преградили ему дорогу копьями. Перестрелка прекратилась. Самолет сел на песок недалеко от автомобиля. Полицейские делали перебежку.
Жизнь написала и стала читать вслух последнюю страницу из анархистских подвигов Белого Удава, ветрогона и самозваного чародея. Пионеры пожелали выслушать эту последнюю страницу, улегшись между яликами на животах.
В тишине солнечного утра прозвучали слова древнего старца, в котором по разрисовке тела легко было узнать главного из главных – главаря всего племени Урабунна:
– Стой, Бамбар-биу. Ты не уйдешь. В кустах рассыпано двести отважных охотников.
Бамбар-биу смотрел волком, недоумевал и молчал.
– Мы давно подозревали, – продолжал старец, – что все напасти, сыпавшиеся на нас в последнее время, связаны с твоим именем. Теперь мы это узнали наверное после того, как ты отнял у Брумлея землю Ковровых Змей. Я достаточно стар и достаточно мудр, чтобы не принять этого подарка. Твоя деятельность вредна, хоть и болеешь ты сердцем за нас. И если ты будешь продолжать ее, белые сотрут нас с лица земли. Пускай берет Брумлей землю обратно, пускай подавится ею, но мы останемся живы…
– Вы глупые черепахи! – взорвался Бамбар-биу. – Я желал вам лучшей жизни, вы не хотите – не надо, ползайте в грязи, когда вон белые режут воздух…
– Мы согласны немного поползать, – возразил мудрый старец. – Белый мальчик с красным на шее, внук окни-рабата Ленина, тот, который научил ребят Змей строить большие унгуньи, который научил их делать «туда-сюда», чтобы они были сильными, как ребята белых, который научил их не отказываться ни от какого труда и другим хорошим поступкам и который, улетев в небо, через малыша Дой-ну распространил новые обычаи среди ребят всего племени – этот белый мальчик рассказывал ребятам (я ему верю), что бороться надо не единолично, а скопом, не одним черным, но вместе с белыми, с той их половиной, что угнетена, и тогда (я верю ему и своим годам) будет хорошо, и мы скоро перестанем ползать. Мы будем летать. Мы, старики, отправили ходоков к тем белым, что называются коммунистами, и мы будем отныне бороться вместе с ними, рука об руку. Вот это я тебе сказал, а теперь мы отдадим тебя одетым в красно-синее, чтобы нас не преследовали за твои самочинные поступки. Мы тебя очень жалеем…
По знаку старца колыхнулись папоротники, и десяток рослых крепких парней окружил анархиста. Он стоял шатаясь…
Размахивая пальмовыми ветвями, из кустов на открытое место вышли два старика. Полицейские, знакомые с обычаями диких, с любопытством пошли им навстречу. Их было четверо вместе с шофером; пятый, летчик, в нерешительности стоял между автомобилем и самолетом. Но когда десять чернокожих охотников вслед за стариками вывели страшного преступника, легендарного Бамбар-биу, и летчик присоединился к группе полицейских.
Снова заговорил главарь Урабунна:
– Белые люди. Мы не хотим враждовать с вами. Вот вам Бамбар-биу, которого мы не хотим укрывать у себя, мы его любим, но мы выдаем его вам, чтобы спасти народ от наказаний.
Один из полицейских вынул блестящие стальные наручники, видимо, приготовленные специально для гиганта, – так они были массивны. Вытянув руки вперед, словно в столбняке, с неподвижными глазами, Бамбар-биу покорно пошел навстречу неволе.
Но едва холодная сталь коснулась его руки, вздрогнув, он проснулся. Это горячее солнце, эту яркую зелень, эти дикие скалы – жизнь! жизнь! – променять на вонючий каземат, на холод могилы, на посмертное ничто, – нет! нет!.. Он смахнул с земли трех полицейских, пинком бросил в кусты четвертого, смял авиатора ураганным толчком, разбросал кольцо чернокожих и, вырвавшись на простор, пулей свистнул к аэроплану…
Поднявшись и отряхнувшись, полицейские схватились за оружие, но тут Петька, у которого сердце ходило свинцовым подвеском, молниями взрыл перед ними камень и песок в смерч раскаленной пыли. Слепящий и сжигающий занавес взвился между беглецом и преследователями. Десять «красных головок» израсходовал Петька на то, чтобы гигант завел мотор, разогнался – долго и тяжело разгонялся по песку – и с торжествующим гудом оторвался от земли…
– Крути рычажок, – сказал Петька Джону, стараясь быть спокойным и ликование глаз гася суровостью, – у ящика я открутил: сам оторвется.
Три бескрылые птицы гуськом снялись с утеса и вспарили над толпой – растерянной, ошеломленной, одураченной.
Высоко в поднебесьи, куда пуле дорога заказана, пионеры прекратили подъем и дождались четвертой птицы – крылатой.
Бамбар-биу, поднявшись над ними, выключил мотор и, планируя рядом, прокричал:
– Спасибо, Петух!.. Ты спас жизнь новообращенному… Встретимся на арене мировой…
Мотор загудел, и самолет резко взял на север, в дебри тропических джунглей.
Петька подтянул к себе безмоторный ялик Джона. За Джоном потянулся ящик. С минуту пионеры хлопали безмолвно веками, уставившись друг на друга.
– Ну? – спросил Джон.
– Вот-те и ну! – отвечал Петька.
– Образумился чудак?
– Похоже на то.
Еще промолчали минуту, что-то трогательное желая высказать. Потом Петька со вздохом:
– Я, пожалуй, вскрою ящик.
– Вскрывай, – отвечал Джон, тоже вздохнув.
Петька отвернул шурупы, снял крышку. В ящике, упакованные в газеты двухнедельной свежести, находились аккумуляторы и новый мотор с пропеллером. Дальше – в ситцевом платочке (по черному полю – незабудочки) пирамидкой сложены были сдобные лепешки на сале и под ними, просаленные, лежали два письма.
Первое письмо.
«Должен тебя информировать, мальчик, что бабка твоя без тебя окончательно взбесилась (извините, конечно, за выражение). Как меня завидит, хапает здоровенную кочергу и через весь пустырь – словно жеребенок-стригунок. Кочерга безусловно про меня. Очень непристойно выходит, потому как в последний раз били меня 20 годов назад, когда я попу в церкви чорта бумажного прицепил на рясу.
А бабке твоей ничего не цеплял, и ты, пожалуйста, прилетай немедля, как у меня есть для тебя занятное дельце, а аккумуляторы и мотор используй, если старые попортились. Новый мотор на ять, до 400 верст в час нашпаривать может, обрати на это внимание. Верка, моя дочь, которая тебе кланяется, безусловно вернулась.
Техник-механик-гальванский скок
Лялюшкин».
Второе письмо.
«Петух. Жив ли ты, умер ли ты, живому или мертвому даю тебе строжайший приказ от имени вожатого пионеротряда Николки, обещавшегося выключить тебя из списков, если ты не вернешься через три недели: возвращайся немедленно, какие бы дела первосортной важности ни удерживали тебя.
Это первое. Второе: бабушка наша чахнет не по дням, а по часам: ежедневно ворочать техника кочергой – занятие для ее лег не пустяковое. Меня пока не бьет, но муштрует, муштрует: не стучи сапожищами; не чавкай, когда ешь; не храпи, когда спишь; не дуди носом, когда сморкаешься; не скрипи пером, когда пишешь; не хлопай дверьми, мой уши, стриги ногти, брейся на дню два раза, не жги керосина позднее десяти, вставай в восемь и т. д. и т. д… Петух, я этого не вынесу. Без шуток говорю, Петух: если ты не вернешься через три недели, отверну голову твоему кролику, скормлю лягушек кошкам и сбегу от бабки. Куда? Не все ли равно. Куда глаза глядят, хоть – к африканским туарегам… и буду с ними на песке пасти верблюдов.
Твой угнетенный дядя.
Приписочка. Лепешки тебе посылает бабушка. Еще забыл написать: как тебе известно, она бросила церковь восемь лет тому назад.
Снова стала ходить. Пионер?! Твоя репутация?!
Т.У.Д.»
Церковь пришибла Петьку сильнее приказа вожатого.
– Джон, – сказал он, – я должен лететь домой…
– Питер, – возмутился Джон, – не свинство ли это?
– Свинство, Джон, но моя бабушка очумела: в церковь без меня стала ходить…
– О…
– Уверяю. Еще грозят выставить меня из отряда.
– Тогда лети. Но ты вернешься?
– Я постараюсь вернуться.
– Сначала представь меня ребятам-Змеям.
– Будь покоен.

Посказие
Лето уперлось в октябрь. Лужа на пустыре, в которую Петька успел напустить тритонов, по утрам покрывается корочкой льда. Дикая яблонька шурстко шипит побуревшими листьями, когда ветер-баловень заигрывает с ней. Лопухи прокисли, надломились жилистыми черенками и выставили вверх наянистые репья, придирающиеся к каждому удобному случаю, чтобы впиться в штаны или, еще лучше, в волосы, ежели ты отпустил их с лошадиный хвост. Уныл пустырь по утрам, но после полудня – ого! – после полудня это оживленнейшее место на земном шаре.
Техник Лялюшкин – центр внимания. Махина белометалльная, на сигару похожая, – только курить ее некому, потому что, во-первых, пионер не курит и т. д., во-вторых, подходящего ротика для нее не скоро сыщешь. Итак, кончим фразу. Махина белометалльная рассчитывается на 20 и одного человека ребят, из которых тот, что с усами и в очках, есмь я. Двадцать ребят из звена «Изучай свою страну» после полудня носятся вокруг техника, как 20 бесенят, подразумевается, воображаемых, вокруг добродетельного христианина.
Предположено: к декабрьским каникулам махину закончить и всем звеном лететь на каникулы в Австралию, вместе с вожатым Петькой, дядей его – мной и техником Лялюшкиным. Бабушка просилась здорово, но ей отказали, потому что сама говорила «вогобий етреч в тире воткет икард», а целую неделю шаталась в церковь. Бабка обещала исправиться, это другое дело, и ее обещали взять с собой, по исправлении, на летние каникулы, когда в Австралии пекло. Пускай пожарится. Что я лечу, – факт. Описывать свои собственные похождения, думается мне, будет значительно интересней, чем похождения, в которых, что ни шаг, играй воображением.
Джона Плёки по воздушной почте, налаженной техником, известили, чтоб не скучал: прилетим обязательно и устроим ему смену. Он в неделю два раза посещает Черный Утес, куда мы отправляем ему письма и посылки.
До свиданья, ребятешь. Когда напишу новую «почти-сказку» с описанием похождений звена «Изучай свою страну», приходите, буду читать. Напишу месяцев через пять. Мой адрес узнаете в издательстве.
12 ноября 1925 г.
ДЕНЬ РОМЭНА
Утро
Как мертвый гнус тундровой падает с неба сырость. Окна заплаканы. В подполье развозились крысы, из щелей пола бьет в нос едкий крысиный запах. Через двери кухоньки буксующий примус выбрасывает ритмически огонь, керосин и копоть.
– Говорил, починить надо примус.
– Но как же, Рома, а деньги?..
Молчание минуты три и сопенье. Проснулся тощий рыжий кот, попробовал издать приветствие – получился хрип. Пошел в знакомый угол и брызнул тонкую струю. Ромэн задумчиво пустил в него ботинком.
– Говорил, кота надо занести.
– Но ведь заносили, Рома, приходит.
– А щели нужно бумагой забить…
Ромэн одевался, – не сказать, чтобы медленно, но с большими паузами. Так, например, он ноги обматывал. От одного оборота до другого делал передышку, не от усталости, нет, – от беспокойного копошенья в мозгу, от наплыва неясных эмоций, возникающих и исчезающих тяжело и неоформленно, как густой черный дым – лохмотьями. Иногда в лохмотьях вспыхивало тревожное мерцанье – слабый зародыш разумной мысли, обмотки мешали ему определиться, – Ромэн замирал в скрюченной позе, вытаращив глаза-черносливы, и ловил, ловил напряженно эту надсадную искорку, капризную, увертливую, скользкую. Когда удавалось ее защемить в извилинах мозга, обматывал ногу дальше, отдуваясь удовлетворенно через выпяченные трубкой губы. Иногда выскакивало откуда-то целое словечко, вроде: «Метампсихоз – метампсихоз».
Вспоминал: «Ага, мне нужно заглянуть в словарь!» – и, прыгая на обутой ноге, скакал к полке с книгами. Кстати заглядывал в Каутского: «Сегодня лекция, не забыть об общинно-родовой форме». Общинно-родовая форма цеплялась за семью, семья за брак, за патриархат, матриархат. Лез в Энгельса…
Всякая утренняя процедура у Романа носила прерывистый характер, и мешать в этом случае ему не полагалось. Для того, чтобы одеться, умыться, причесаться – требовалось минимум час.
Не мигая, медлительно чавкая – опять с паузами – другой час просиживал над полдюжиной яиц, фунтом хлеба и стаканом кофе собственного приготовления: полстакана кофе в порошке, полстакана кипятка и пять чайных ложек верхом сахарного песка. Заряд рассчитывался до 6–7 часов вечера, а то и до ночи, – бывало и так.
– Я, Рома, – говорила ему боявшаяся двигаться жена, – я, Рома, пойду на базар, пожалуй…
Из пространства переводил на нее неподвижный взор, прерывал работу челюстей, осознавал, говорил:
– Посиди здесь. Сядь около меня. Мне нужно у тебя что-то спросить.
Садилась покорно, сдерживая вздох, и сидела пятнадцать минут, ожидая вопроса. Ромэн снова впадал в каталепсию; из хаоса декретов, циркуляров, протоколов, вопросов дня безмолвно вытягивал нужное, обсасывал добросовестно и крепко прикалывал к памяти. И чавкал.
– Рома, ты пока думай, а я займусь чем-нибудь… Я здесь буду…
Вспыхивал сразу, как спичка, и так же недолго горел, кривя набитые гущей кофейной губы, шипел, выбрасывая брызги и крошки:
– Посидеть пяти минут не можешь! Вот уйду, до ночи свободна. Жди, пожалуйста, дойдет и до тебя очередь.
– Ты спроси сейчас, Рома.
– Ах, только у меня и забот – спрашивать тебя. Сядь и сиди. Что за суетливость, не понимаю.
Успокоился, принимаясь за последнее яйцо и подбирая пальцем крошки хлеба. Зачавкал ожесточенно, концентрируя разбежавшиеся мысли. Время от времени нет-нет да и вздуется пузырь на мертвой зыби тяжелого настроения. Вздуется и лопнет, обдав жену холодной изморозью:
– Сама знаешь, как дорого мне время, а егозишь. Сиди, сиди, сейчас спрошу…
С убитым видом сидела жена, изводясь, глядела на остеклявшиеся глаза супруга. Сидела еще полчаса. Видела, как шельма-кот озоровал на плите, но боялась пошевелиться.
Наконец, вскакивал Ромэн, сердито засовывая в карман недоеденную корку, смотрел на часы:
– Вот опять опоздал! Все из-за тебя. Где фуражка?
– Рома, а… поговорить?..
– «Поговорить».. А время где?.. Где фуражка, говорю?
– Вот она… Рома.
Сердитое сопенье.
– Рома… деньги на обед?..
– Что? Битый час сидела, только глазами хлопала и не нашла минуты спросить о деньгах!..
– Рома, ты же сам говорил, чтобы о деньгах… когда кончишь завтрак…
– Ну да, ну да, а ты не видишь, я опаздываю. Нужно догадываться…
– Но ведь в последнее время ты постоянно опаздываешь. Когда же? Вечером ты будешь браниться, что я не настояла на деньгах. Дай, пожалуйста…
– Нужно брать деньги, когда я спать ложусь… Где калоши? Не видишь: дождь?
– Но вечером тебя не дождешься… Я никогда по-человечески спать не ложусь…
– Скажите, пожалуйста, я, что ли, по-человечески!..
Ромэн вылетал, надвинув картуз на глаза и подволакивая сильно изношенные галоши. Потом оборачивался вдруг и сообщал хмуро в открытую дверь:
– О чем разговор? Какие могут быть деньги, когда я без гроша? Займи…








