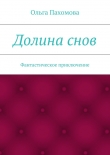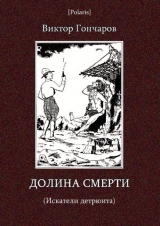
Текст книги "Долина смерти (Искатели детрюита)"
Автор книги: Виктор Гончаров
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Бешеный фонтан, забивший из уст разъяренного матроса, прервался лишь тогда, когда вдруг забил второй фонтан из продырявленного дна шлюпки. Матрос, плюнув в сторону рыбака, бросился затыкать чем попало грозную брешь. Туда, прежде всего, отправилась его собственная шапка, потом вторая, сорванная с головы изумленного анекдотчика… Безменов сидел слишком далеко, матрос, кинув на его картуз безнадежно алчущий взор, решительно сорвал с себя рубашку и окончательно затампонировал ею зияющую рану… Вслед за тем он снова отомкнул свой фонтан, заклокотавший с удвоенной энергией:
– Гони сюда лодку, ящерица земноводная… Не думаешь ли ты, пустобрех соглашательский, что я повезу пассажиров дальше? Ну, живо-живо, нефтяная панама, керзониада двоегнусная! Живей, живей, живей… А то я тебе сделаю интервенцию без капитуляций!..
Когда рыбак испуганно-торопливо полез в свой первобытный челн, управляемый с кормы одним веслом, матрос удивительно спокойно прервал словесное извержение и, показав широкое, улыбающееся лицо пассажирам, произнес наставительно и конфиденциально:
– Заметьте: ни разу по матери… Потому из комсомоли-стов.
И, чтобы показать, что его красноречие отнюдь не иссякло, он снова посыпал на голову рыбака трескучие безобидные ругательства.
Рыбак, искусно действуя кормовым веслом, подошел вплотную к потерпевшей аварию шлюпке. Он снял войлочную шляпу и робко-заискивающе заговорил, в то же время окидывая испытующими восточными глазками обоих пассажиров:
– Товарищи, видит бог, я хотел крикнуть «вправо». Видит бог, шайтан виноват, повернул мой язык не в ту сторону. Вы не беспокойтесь, я вас перевезу, как князей… Я…
– Ладно, ладно… – прервал его матрос. – Смотай свой язык, слизь мягкотелая… Живо принимай багаж и пассажиров, а то как бы я твоего бога. Курица херувимская… – добавил он с пренебрежением и плюнул в зыблющееся море.
Два чемодана, сильно подмоченные, и пассажиры с мокрыми ногами перебрались в утлый рыбачий челн. Матрос в напутствие выпустил на голову виновника катастрофы весь свой остаточный запас крепких словечек: его шлюпка, несмотря на тройную затычку, все более и более наполнялась водой.
Безменову с первого взгляда не понравилась двусмысленная физиономия рыбака, и вся происшедшая история казалась ему преднамеренно устроенной с какими-то темными планами. Его метод распознавания людей по рукам еще больше утвердил его в этом мнении: у рыбака руки были подозрительно белы, а с ладонной стороны совсем лишены мозолей…
– Неужели сидоринская лапа и сюда дотянулась? – подумал он, тайком отстегивая кобуру с наганом.
Митька Востров, после того, как лишился головного убора, сразу замолк и омрачнел. Подозревал ли он что-нибудь – нельзя было судить по его окаменевшему лицу, но жест друга к кобуре не прошел мимо него.
Все событие разыгралось на расстоянии полуверсты от берега; свидетелями его были лишь чайки, с резкими криками принесшиеся откуда-то, да равнодушно сверкающее солнце над головами.
Рыбак молчал, бесшумно работая веслом на корме и от поры до времени кидая тайные беспокойные взгляды то на пассажиров, то в водное пространство перед носом лодки; молчали и приятели, расположившиеся на носу. Подозрения рабфаковца, казалось, не были беспочвенными: челн быстро шел по прямой линии к пристани – саженей семьдесят, не больше, оставалось до нее, – но чем видимей становился берег, тем резче выдавал рыбак свое внутреннее напряжение. Он теперь стоял на ногах и вытягивал вперед шею, стараясь разглядеть что-то таинственное перед бегущим носом лодки… И это таинственное пришло…
Митька Востров, в противоположность своему другу не отрывавший взгляда от поверхности воды, вдруг вскрикнул и схватился за борт. Безменов резко обернулся к нему и выхватил одновременно револьвер: перед лодкой вода пришла во вращательное движение… Друзья вскочили… Вращательное движение превратилось в завывающий водоворот.
На дне водоворота лопнула черная бездна… Челн скакнул туда…
В самую последнюю секунду Безменов оторвал взор от мрачной страшной пропасти и бросил его на корму: там рыбака не было – он плавал высоко на периферии водоворота… Уже когда изумрудная пасть смыкалась над головами пассажиров, грянул выстрел – рыбак ключом пошел ко дну… Это рабфаковец мстил за свою гибель…
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Дьякон-расстрига Ипостасин проснулся оттого, что к монотонному ворчанию ключа, подле которого он спал, присоединились чуждые звуки. Боль во всех частях тела, мучительное жжение в тысячах мест расцарапанной и разодранной кожи напомнили ему о претерпенных злоключениях его в надземном мире.
– Гнусно… – сказал он, подставляя под горячий ключ зудящую кожу рук. – Гнусно устроен божий свет… Не божий он, а сатанинский… А может, никакого бога и нет…
Последняя богохульственная мысль выскочила из горячечных мозгов дьякона нежданной, заставив его в ужасе схватиться за голову и с опаской взглянуть вверх, во тьму, где за сводами пещеры клокотала загадочная исполинская масса. Потолок не обрушился на кощунственную голову и загадочная масса не хлынула в пролом – или господь-бог спал, или его, действительно, не было. Успокоенный дьякон прислушался.
Болтливый ключ неугомонно пел монотонные саги свои о жутких глубинах, откуда вытекал. Грузное ворчание над головой действовало успокаивающе. Глаз ничего не разбирал в кромешной тьме.
Дьякон собирался снова завалиться на боковую – на перину из жидкого теплого месива, как расслышал вдруг те чуждые звуки, что пробудили его от сладкого сна.
Где-то – быть может, за целым рядом крутых подземных поворотов – говорило, казалось, несколько человек зараз. Разговор становился отчетливей не в постепенной прогрессии, а резко, через некоторые промежутки времени, когда разговаривающая группа делала новый поворот, приближающий ее к дьяконской усыпальнице.
Дьякон сначала окаменел, потом заметался по жидкой грязи, не зная, что предпринять.
Между тем стали доноситься отдельные слова из многоголосой речи. Говорили на русском вперемежку с каким-то гортанным и цокающим языком и говорили, действительно, все сразу, перебивая друг друга и крича, как бы бранясь. Но бранных слов, по крайней мере, на русском языке, столь богатом ругательствами, слышно не было. За время короткого своего пребывания на поверхности Абхазской республики дьякон успел подметить манеру восточных народов говорить возбужденно и хором о предметах самого невинного сорта. Возможно, что и здесь было то же. Зажав в руке смертоносную палочку, он вонзил уши в приближающуюся речь. Можно было определенно сказать, что до него осталось три или четыре поворота.
– Он должен быть там, в башнэ… – крикнул кто-то на ломаном русском.
– Он упали и больно расшиблис… Я знай, как оттуда падать…
У дьякона отросшая шевелюра стала на дыбы: ведь говорили про него! Они думают, что он впотьмах оступился и свалился в какую-то башню… «Но с какими целями вы ко мне идете?» – задал дьякон мучительный, безмолвный, правда, вопрос навстречу приближающейся группе. На вопрос немедленно последовал ответ голосом того же человека:
– Нам сказал: связать и покладит в башнэ… Ва, а веревка есть?…
– Есть. Есть… – ответило несколько голосов сразу. Потом тот же предусмотрительный голос:
– А еслы он будут стрэлять?..
– Пристрелить, как бешеную собаку… – ответил на этот раз кто-то на чистом русском.
Шлепая босыми ногами, дьякон пустился бежать в обратном от голосов направлении: ему так претили новые убийства.
То и дело натыкаясь на бугроватые стены, ногами попадая в горячие лужи, он пробежал недолго. Мучительная боль во всех частях тела и в разодранной коже скоро остановила его. В измученной душе напружилась волна негодования и возмущения:
– Почему я должен бежать, а не они, ну-ка?.. Разве я не сильней их?.. Я им сделаю предупреждение, если они не оставят меня в покое, тогда… о, господи…
Он разыскал в стене объемистую нишу и залез в нее. Голоса, за время его бегства совсем угасшие, скоро опять загортанили невдалеке.
– Он будут стрэлят – я знай… Вай, вай, он отчаянны чалавэкы…
– Господи, про меня говорит… – шептал дьякон. – Что я ему сделал?.. Откуда он меня знает?.. Где он меня видел?..
Обладатель голоса, произносившего слова чисто, без акцента и неправильностей, видимо, играл роль старшего. Ему часто приходилось подбадривать робких во тьме туземцев, в то же время чувствовалось, что и он сам порядочно трусит.
– С фонарями вперед… – сказал он, и в этот момент дьякон, выставив голову из ниши, увидел яркий луч света.
– Сто-ой. Сто-ой. Ну-ка?.. – внезапно заорал он. – Сто-ой во имя бога! Кто б вы ни были, сто-ой – иначе все до одного погибнете…
Сразу голоса смолкли и фонари потухли, но жидкая хлюпающая грязь указывала, что продвижение вперед имеется.
– Сто-ой, – снова прокричал дьякон, мучительно сознавая, что неизбежное – неизбежно.
Хлюпающие шаги продолжались…
Тогда он, протянув руку со своим оружием, повел ею несколько раз от одной стены хода к другой.
– Всс… всс… всс… – нежно просвистала палочка.
Раздирающие душу крики… зверские проклятия на двух языках… револьверные выстрелы… Потом мучительные стоны…
Дьякон для полного успокоения себя еще несколько раз поводил палочкой – стоны угасли… воцарилась могильная тишина. Лишь рокочущие звуки сверху говорили о какой-то страшной мести.
В первый раз за все время своего обладания палочкой он рыдал. Рыдал, прислонясь головой к бугристому камню, и тонко-жалостно подсвистывал исцарапанным носом.
Его страдания были безмерны, а измученная мысль не находила выхода. Бога он не хотел трогать, слишком хорошо зная из опыта длинных лет, что возлагать на бога надежды – занятие пустое и пагубное; другое дело, рекомендовать это пастве – паства платила за бога звонкой монетой. Кстати сказать, к существованию небесных сил он стал относиться двусмысленно: когда трусил перед «карающей десницей всеблагого», когда потихонечку проклинал, имея некоторую уверенность, что его проклятий никто ни на небе, ни на земле не услышит.
В последнее время, впрочем, он больше склонялся к первому, и все же в этот раз к «всеблагому» не обратился.
Но… его страдания были безмерны, а измученная мысль не находила выхода. Тогда горькая накипь его души претворилась в гнев. Гнев вылился на лишенный сознания предмет – на фатальную палочку.
– О, ты стерва… – тискал он в руке свинцовую головку. – Ты испортила мне жизнь… Ты сатанинское наваждение. Измышление сумасшедшего… Я тебя уничтожу. В порошок сотру. Развею на все четыре стороны… Ты – корень всех моих зол и страданий… О, дьявол, дьявол…
Но вместо того, чтобы привести в исполнение свою угрозу, он внезапно успокоился, в гневе разрядив скопившуюся реактивную энергию. Успокоился, и старое решение, бродившее в его душе в последние дни, оформилось твердо.
– Я должен удалиться от мира… уйти от людей… В мире ходят грех и скверны… Я должен очистить свою жизнь постом и покаянием… Палочку я где-нибудь зарою, чтобы она больше не служила источником смертоубийств и страданий… ни моих, ни кого бы то ни было…
С этим, более чем твердо созревшим, решением он ретиво двинулся в путь и… споткнулся на горе трупов… упал в теплую соленую лужу.
– Кровь!.. Кровь!.. – вырвалось у него дикое, исступленное.
До сих пор ему лишь издалека и мельком приходилось видеть кровь своих жертв, а здесь он чуть ли не буквально окунулся в нее. В таком виде ему пришлось пройти минут пять, чтобы отыскать горячий ключ. Здесь он содрал с себя все лохмотья и остатки ботинок, принял ванну, а потом… снова вернулся к горе трупов.
Хотя его решение сделаться отшельником было твердо, – возможность приодеться для новой жизни все же не казалась лишней. Он нашел в лужах теплой крови электрический фонарик и, стараясь не смотреть на искромсанные тела, что было, впрочем, неисполнимо, составил себе полный комплект одежды. Потом разыскал спички, зажигательную машинку и кинжал; все это на правах сильнейшего из сильнейших, по Дарвину, он захватил с собой. Затем двинулся в путь, около ключа сделав остановку, чтобы отмыть от крови руки, ноги и захваченные с боя предметы.
Теперь, при свете электрического фонарика, легко было найти настоящую дорогу из подземного мира. Следы многочисленных ног по влажной почве привели дьякона через час к выходу на поверхность.
Выход прятался в гуще зарослей трехаршинного папоротника орляка, оставшегося в сухумской области от времени каменноугольной эпохи развития земли. Здесь стояла вечная тень и сырая, специфически пахнущая атмосфера, так как море зеленой красиво изрезанной листвы-кроны почти не пропускало вниз солнечного света.
Час с лишним провел дьякон в этих зарослях, безнадежно разыскивая выход. Чаща казалась бесконечной; своей монотонностью и однообразием она пугала, а тучи комаров, поднимавшиеся неизвестно откуда и жалившие с таким остервенением, будто три года не ели, заставляли дьякона поочередно то чертыхаться, то призывать имя господне.
– Господи, боже мой! Ведь это же черти что: ни тебе выхода, ни тебе спасения от проклятых комаров… Уж не плутаю ли я, чего доброго?
Но он, в общем, шел по правильному пути, так как все время поднимался в гору.
Наконец, кончился выматывающий жилы орляк. Перед восхищенными взорами дьякона открылась волнистая, вверх идущая зеленая равнина, пестро и сочно украшенная ало-малиновыми куртинками «неопалимой купины», яркокрасными ягодами вечнозеленого рускуса, крупными метелками белых ароматных цветов спиреи и махрово-оранжевыми пышными азалиями. Последние два цветка дьякон привык видеть в окнах цветочных магазинов Москвы, но здесь их было бесконечное море, и как они выгодно отличались от своих московских сестер, чахлых и низкорослых…
Знойное, ослепительное солнце играло в вибрирующем воздухе над яркоцветным ковром. Быстролетные щуры и радужные зимородки порхали с задорно звенящим щебетанием, охотясь за темно-синими шершнями и пунцовыми бабочками. Дьякону, после мрачного вида удушливых зарослей, роскошная равнина показалась, по меньшей мере, райской. Он упивался ее красками, ее ароматом, ее оживлением, но не забыл также взять у солнца справку о времени. Только часов восемь утра показывал добела раскаленный лик, сверкающий на глубокой лазури неба, а его лучи жгли, как в знойный полдень.
– Дивны дела твои, господи, – с умилением вздыхал дьякон, одежда которого высохла так быстро, что он даже не успел заметить, а бесчисленные болячки под влиянием животворного тепла пришли в сладко-ноющее состояние. Но, подгоняемый своим фанатичным желанием как можно скорее сделаться отшельником, он безжалостно мял роскошный ковер, стремясь уйти дальше и дальше «от наполненного сквернами и смертоубийствами человеческого мира».
Равнина кончалась высоким каменистым плоскогорьем, откуда открывался далекий вид на безбрежное море и приютившуюся на его побережье столицу Абхазии. На море дьякон взглянул раз-другой, а город не удостоился ни одного, даже мимолетного, взгляда.
Дорога пошла под сильный уклон. Сначала по такой же яркоцветной равнине, затем по мелкому кустарнику с черными сочными ягодами, похожими на чернику, «абхазского чайного деревца», и, наконец, по высокому лесу, состоящему частью из знакомых дьякону деревьев, как дуб, ольха, бук, клен, ясень; частью из граба, карагача, тиса, самшита – деревьев, которые он видел первый раз в своей жизни.
Сильно напугала дьякона абхазская лиана или, как называют ее туземцы, «лесная веревка». Проходя в одном месте, он зацепился ногой за ровный и гладкий стебель толщиною в палец; неожиданно зашуршала и зашевелилась листва в самых противоположных концах густой зеленой кровли. Дьякон отпрянул в сторону, напуганный изрядно, продолжая волочить за собой невинную веревку, и вдруг к его ногам свалилась сверху целая сеть бечевок и веревок, переплетенных листьями и кистями буро-красных звездчатых цветов.
– Вы только представьте себе, – обратился к неведомому огорошенный дьякон, – целый веревочный магазин, ну-ка?.. и веревки цветут… Дивны, дивны дела твои, господи…
Чем глубже забирался он вглубь леса, опять поднимаясь в гору, тем гуще и дремучей становилась стена деревьев. Скоро настоящие джунгли окружили его.
До сих пор он не видел ни одного зверя, ни крупного, ни малого, и даже не задумывался о возможности существования таковых в дремучей чаще, и вот вдруг ему пришлось сначала услышать, а потом и увидеть одного из представителей абхазских джунглей. Грозно затрещали сухие ветки в густой заросли молодого дубняка; рев, похожий на звуки, издаваемые взбесившимся боровом, донесся до слуха встревоженного дьякона, затем разъяренная туша дикого кабана, поднятая из логовища, выкатилась, держа недвусмысленно приготовленные клыки, прямиком на него.
– Господи, большая и некрасивая свинья… – воскликнул он, направляя на взъерошенного кабана детрюитную палочку.
Кабан, как расшалившийся теленок, дрыгнул задними ногами, изрыгнул на голову убийцы проклятия на своем языке и растянулся неподвижно. Детрюитный луч рассек его на две части.
Дьякон совсем не подозревал о той опасности, которую несла ему встреча с дикой свиньей. Он думал, что, не будь у него даже детрюитной палочки, свинья от одного грозного окрика должна была бы обратиться в бегство. Слишком невысокого мнения был он о силе и свирепости абхазских кабанов: тот, что выскочил на него, легко справился бы с тремя дьяконами, будь они безоружны; вспорол бы им животы, растоптал, раздавил тяжелой тушей. Лишь благодаря детрюитному лучу случилось обратно.
Свершив новое смертоубийство, но не чувствуя на этот раз никаких угрызений, дьякон вожделенно уставился на жирные окорока кабана.
– Была бы здесь Настасья, ну-ка? – мелькнула у него коварная мысль. – Она бы такую ветчинку запекла, и-их, э-эх, э-эх!..
Потом он отогнал «дьявольское наваждение», но проснувшийся голод отогнать не мог. Голод, собственно говоря, давно пожирал дьяконские внутренности за отсутствием чего-либо более аппетитного, теперь же он утроился в своей интенсивности, и дьякону ничего не оставалось, как заделаться своим собственным поваром.
У него был кинжал, были спички и зажигательная машинка. Спички, правда, отсырели, но зажигалка работала, что он машинально проверил. Найти подходящий кусочек из огромной туши труда большого не представляло, но каким манером ухитриться поджарить его, когда у него ни сковородки, ни котелка припасено не было?.. Дьякон долго ломал себе голову, сидя над соблазнительной тушей и глотая обильные слюни, как подопытная собака в лаборатории профессора Павлова. Наконец – на это потребовалось полчаса усиленной мозговой работы, – наконец его осенила гениальная мысль:
– Шашлык, о. – Сделать шашлык, такой, какой ему подавали в сухумской столовой. Ну-ка?.. Штыка, правда, у него не было, но это пустяк, дьяконской сообразительности хватит, чтоб справиться с этим затруднением…
Он огляделся, выискивая глазами подходящее деревцо. Таких в молодом подлеске нашлось много. Загубив безжалостно несколько тонких стволов, дьякон остановился на стройном самшите, древесина которого была тверда, как слоновая кость.
Он, конечно, не знал, что самшит в промышленности Абхазии стоит не на последнем месте. До революции его древесина шла за границу – в Марсель, Лион, Париж, Лондон и Манчестер – на приготовление разных деревянных частей машин, блоков, ткацких челноков, гравировальных досок и другого. Пуд древесины на месте ценился в рубль золотом. Он не знал того, что теперь союзный «Текстиль-трест» живет абхазским самшитом, получая его отсюда в виде готовых ткацких челноков. Состояние союзной промышленности не интересовало дьякона ни вообще, ни в частности. В частности он просто был обрадован, как малое дитя, найдя крепкое деревцо, могущее заменить недостающий для приготовления шашлыка штык.
Тщательно обтесав его острым, как бритва, кинжалом и утончив до требуемого размера, абхазский Робинзон отложил готовый к употреблению вертел в сторону и занялся разведением огня.
Через полчаса он жадно поглощал жирное, несоленое, правда, и сильно отдававшее дымом мясо. А еще через полчаса, свернувшись неуклюжим кренделем, мирно похрапывал под сенью низкорослого каштана, видя во сне обетованную пустынь и себя в виде Симеона-столпника.
– У-у-ух, хорошо пахнет?.. – обратился изодранный шакал к такому же изодранному своему собрату, подняв нос против ветра.
– Очень вкусно пахнет, – согласился второй шакал, тоже исследуя воздух, – но я предпочитаю свежему мясу дохлую корову…
Пара голодных шакалов находилась верстах в пяти от местопребывания дьякона, на высокой скале, против мингрельской деревушки, где им – вот уже неделя – не пришлось ничем полакомиться из-за отвратительной жадности свирепых деревенских овчарок. А на краю деревушки лежала аппетитная дохлая корова…
– Брат, а не бросить ли нам эту падаль, а? – намеренно просто предложил первый шакал, с напускным равнодушием поглядывая в сторону.
– Р-р-р… не согласен… – был ворчливый ответ. – Я не хочу журавля в небе, когда под носом синица…
Первый шакал некоторое время помолчал, показывая тем, что жареное мясо и свежая кровь его интересуют ровно столько же, сколько прошлогодний снег, которого, кстати сказать, в Абхазии они никогда еще не видели, и что заговорил он об этом просто так, от скуки больше; потом он оскалил зубы на надоедливую муху, прокашлялся, так как недельное пребывание на незащищенной от ветра скале отозвалось дурно на его дыхательном аппарате, и опять с полным равнодушием пролаял:
– Как хочешь, а я, кажется, должен пойти посмотреть, кто это там ест мясо. Я скоро вернусь, ты не беспокойся. Посмотрю и вернусь… Понимаешь, для интереса…
– Можешь совсем не возвращаться… – проворчал второй шакал и затрясся всем туловищем: знойное солнце его ничуть не согревало, так паршиво сказывался семидневный пост. – Можешь совсем не возвращаться… – повторил он еще сердитей.
Первый шакал, по обычаю шакальскому, поджав облезлый хвост, мелкими шажками, будто прогуливаясь, направился в сторону раздражительного запаха. Он изредка, пока еще был на виду у своего собрата, останавливался, нюхал землю, рыл ее лапой, вертелся на месте, догоняя свой собственный хвост, но в общем держался одного и того же направления. Пробежав таким образом с версту и убедившись, что его теперь никто не видит, он пустился во всю прыть, словно за ним гналась свирепая овчарка.
А второй шакал, даже не выжидая полного исчезновения товарища, опрометью сорвался с крутой скалы и помчался, закусив язык, к тому же запаху, но с другой стороны.
– Я, кажется, заблудился? – съехидничал первый шакал, неожиданно повстречавшись с запыхавшимся вторым шакалом у опушки леса, из которого исходили слюноточивые запахи.
– Я, кажется, заблудился, брат, и опять попал к той же скале?
Второй шакал не счел нужным тратить слов впустую и попросту куснул ехидного товарища за бок. Этим прискорбный инцидент исчерпался, и оба дружно, в молчаливом согласии ринулись под сень высокоствольного леса, стараясь перегнать друг друга…
Но каково же было их возмущение, когда они увидали, что их прибытие к притягательному запаху было далеко не из первых… Кругом разделанной надвое свежей туши кабана сидело штук двадцать таких же изодранных и облезлых голодных созданий, тихонько подвывавших и глотавших слюну…
Первый шакал не мог сдержаться, чувствуя себя глубоко оскорбленным, и громко залаял.
– Тише… Здесь человек, иль не видишь? – прошипел ему кто-то из сомкнутого крута.
Прибывшие, пустив в ход безработные клыки, попросили потесниться. Им с большой неохотой дали место и дали самое неудобное: как раз против них, загораживая собой кровавое мясо, животом вверх лежал человек. Человек не был мертв, из его исцарапанного носа исходили хрипящие звуки. Так хрипит курица, когда ее схватишь за горло…
Шакалы легким воем подзадоривали и подбадривали друг друга, но наброситься на дразнящего запахом кабана боялись: ведь эти двуногие так коварны. Кто его знает, может, человек не спит, а притворяется. Может, он хочет отведать теплой шакальей крови… Ав-у-у…
– Ав-у-у… ав-у-у… – согласно подвывала шакалья стая.
Второй из опоздавших, тот, кого трясла голодная лихорадка, наконец, не выдержал. Зажмурив в избытке храбрости глаза, он прыгнул через распростертого на земле человека и алчно вцепился зубами в кровавый разрез туши… В это время исцарапанный человек проснулся, так как отважный прыгун своим облезлым хвостом задел его по носу. Человек проснулся и, хлопая осовевшими глазами, привстал на локте. Вся стая с визгом, воем и рыданием отступила на два шага, но не порвала круга, потому что отчаянный шакал оставался на месте. Тоскливо рыдая и каждую секунду готовый к бегству, он с остервенением рвал не успевшее еще остыть мясо и глотал огромными непрожеванными кусками…
– Пошла вон, ну-ка?.. – гаркнул проснувшийся дьякон.
– Паршивая собачонка, все мясо поганишь…
Он замахнулся на оцепеневшего шакала, и тот визжащей стрелой сорвался с туши, на ходу бросив что-то безнадежно тоскливое.
Вся остальная свора быстро сообразила, что у человека не было никакого оружия, кроме кинжала, и снова сомкнула строй.
Человек, глядя на них, весело смеялся:
– Удивительно наглые и трусливые собачонки… А шерсть-то, шерсть! Ровно Настаськин коврик – облезлый и шершавый…
Это сравнение вызвало у него новый приступ громкого смеха:
– Ах-ха-ха-ха… Настаськин коврик… Эй, вы, коврики нечесанные, жрать хотите, ну-ка?.. Ах-ха-ха-ха…
Шакалы смеха не переносят, в нем они видят издевательство, и поэтому вся шайка подняла невообразимый вой, уставив носы кверху.
Человек продолжал смеяться:
– Ах, вы, сукины дети, ну-ка? Вот ведь как лопать хотят. И откуда только такая куча собралась?.. Должно, со всех деревень… И все как на подбор – коврики. Ха-ха-ха…
Он встал на ноги. Шайка метнулась в сторону и застыла, жадно сверкая трусливыми глазками. Исцарапанный человек подошел к туше… Неужели он будет ее есть?.. Нет, человек вынул что-то из правого рукава, в воздухе прозвенел мелодичный свист, и… кабанья голова отскочила от туловища… Он ее будет есть? Ав-у-у… Шакалы сомкнули круг. Кое-кто из них заискивающе заскулил, более стойкие злобно сверкали глазами… Вдруг человек, подняв кабанью голову, бросил ее в кучу горящих глаз, оскаленных челюстей и красных десен.
…Визг, вой, лай, грызня… Живой клубок из облезлых, грязных тел…
Дьякон хохотал, довольный выдумкой… и не успел он оглянуться, как с кабаньей головой уже покончили: начисто обглоданные кости – ни шкуры, ни щетины…
– Ах, вы, сукины дети, ну-ка?..
Он отсек лучом переднюю ногу у туши и опять бросил ее голодной стае. С ногой покончили еще быстрей…
Теперь огнем горящие глаза приблизились к нему чуть ли не вплотную, но он не чувствовал ни малейшего страха: ему ли бояться этих жалких заблудших собачонок?.. Этих ковриков? Ха-ха-ха…
Вторую ногу у него почти что вырвали из рук, когда он готовился ее бросить. Клубок из Настаськиных ковриков теперь мотался по земле в двух шагах от него; на него не обращали внимания. Но, закончив с подачкой, шакалы снова отбегали на почтительное расстояние и снова заискивающе жалобно скулили.
Скоро в руках исцарапанного человека остался лишь один задний окорок… Неужели он его сам съест? Ав-у-у…

– Вот сучьи дети… – ворчал дьякон. – Слопали целого кабана и хоть бы те что. Хоть бы пополнели, ну-ка? Представьте себе: ничего подобного – чистые шкелеты…
Да. Исцарапанный, сердито рыча, повесил окорок себе на спину. Он его берет с собой…
Он двинулся в путь, продолжая подниматься в гору, следовательно, опять в направлении, обратном от города. И опять его мысли попали в плен навязчивой идеи.
Солнце стояло в зените. Воздух под зеленым шатром был пресыщен сырой духотой. Замолкли птицы; ветви дерев опустили листву, чтобы на нее меньше падало палящих лучей, а дьякон, не чувствуя ни зноя, ни усталости, шел и шел.
– Представьте себе, – говорил он сам с собой. – Мертвый человек, ну-ка? – Факт. Упал с аэроплана, сажен сто, не меньше. Разбился вдребезги. – Факт. И вдруг в Сухуме, ну-ка? Ночью… смердит… Лазарь тоже смердел, когда его Христос воскрешал. Факт, то есть, нет, не знаю… Англичанин – мертвый человек – факт. И представьте себе, ну-ка: на ногах, как живой, зеленый и в саване, смердит и гоняется, гоняется и смердит… Где логика, ну-ка? – как говорил Митька Востров. Что-нибудь одно: или смердеть в саване, или гнаться на ногах, факт. А он и то, и другое. Значит, чертовщина. Факт… Значит, бог попустил, факт. Значит, пост и молитвы. И уединение, факт…
Лес неожиданно запестрил голубыми проблесками. Снова под ноги стали попадать стволы лиан, селящиеся, по обыкновению, на опушках. Сюрпризы из веревочных сетей с звездчатыми буро-красными цветками посыпались дьякону на голову, и он невольно встряхнулся от навязчивых мыслей.
Перед ним лежало голое, унылое плоскогорье, оно отлого спускалось вниз, чтобы с середины подняться на еще более значительную высоту. В конце его – дьякон определил на глаз: «две версты» – начинался густой хвойный лес, круто вползавший в гору.
Только вступив на дышавшую зноем каменистую почву, дьякон познал, что такое полдень в Сухумском краю; и сверху и снизу одинаково жгло, слезились глаза от нестерпимого блеска, горело лицо полымем, в болячках – и на теле, и на лице – от выступившего пота поднялся невыносимый зуд… Дьякон почувствовал сильнейшую жажду и еле поднимал свинцовые ноги, но храбрился: «эка, две версты… дойду до лесу, там – вода»…
На нем был белый китель, снятый, по-видимому, с русского человека, брюки из кавказского сукна – широкие и тяжелые, горские сапоги – чувяки с тонкой подошвой без каблука, а на голове мягкая войлочная шляпа, туземной выделки, с широкими полями. Он скинул шляпу, из-под которой пот струился вешними ручейками, и через пять минут снова надел ее, испугавшись, как бы палящее солнце не зажгло волосы… Каменистая почва, в свою очередь, жгла ноги, – приходилось идти вприпрыжку, – а это еще более усиливало чудовищную жажду. Но дьякон мужественно сносил все мучения, – правда, окорок, давивший плечи, он давно бросил.
– Пещь огненная, очистительная… – говорил он себе. – Бог, как на многострадального Иова, посылает мне испытания… Мужайся, раб Василий, спасешься…
До леса оказалось не две версты, а добрых десять… Перспектива обманывала…
Не больше пяти верст осталось за многострадальным Иовом, когда его, отнюдь не библейское, мужество предательски бежало. В довершение всего, подул известный в Закавказье и, в особенности, в западной его части, свирепый норд-ост; когда он дует три-четыре дня подряд, все болота и речки пересыхают, зелень вянет и сохнет, живность прячется… Норд-ост высушил пот на лице и теле дьякона в несколько секунд, но этим лишь увеличил его страдания…