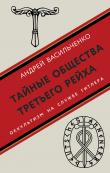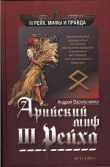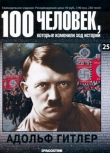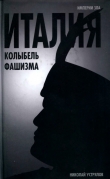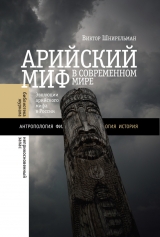
Текст книги "Арийский миф в современном мире"
Автор книги: Виктор Шнирельман
Жанр:
Языкознание
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 24 страниц]
В то же время к концу XIX в. возросший авторитет физической антропологии заставил с большей осторожностью подходить к трактовке сложных связей между языком, мышлением и физическим типом. На рубеже веков некоторые специалисты уже начали воспринимать тезис об «арийском происхождении» как новый миф (Поляков 1996: 286). Итоги научных исследований второй половины XIX в. были подведены Айзеком Тайлором в получившей широкую известность популярной книге «Происхождение арийцев» (1889). Он попытался синтезировать данные, накопленные к тому времени лингвистами, физическими антропологами, археологами и фольклористами. Его главной целью было доказательство отсутствия жестких связей между языком и физическим типом, и он упрекал лингвистов в лице Макса Мюллера за их неосторожный и поспешный вывод об общности происхождения народов, говорящих на «арийских языках». Он отмечал, что даже современные народы Европы, несмотря на родство языков, существенно отличаются друг от друга физическими признаками, причем эта биологическая разнородность местного населения отмечалась по меньшей мере с неолитических времен. Он отстаивал положение о том, что в ходе истории народы могли переходить с языка на язык, тогда как физический тип был гораздо более устойчивым. Тем самым, убеждение в единстве «арийской расы», якобы объединявшей все индоевропейские народы, оказалось в корне ошибочным. Подобно ряду других исследователей Тайлор доказывал, что местом происхождения арийских языков могла быть европейская равнина, то есть «арийцы» были в Европе автохтонным населением, а вовсе не пришельцами.
Вслед за французским физическим антропологом Полем Брока Тайлор связывал этнические признаки с физическим типом, а не с языком, и в этом понимании основу этнологии составляла физическая антропология, а не лингвистика. Соответственно, исконные арийцы означали некую расовую группу, которая со временем поделилась своим языком со всеми, кого она встречала на своем пути. Примечательно, что портрет первобытных арийцев, рисовавшийся самыми разными источниками, разительно отличался от их восприятия романтиками. Они вовсе не выглядели «высшей расой»: у них не было ни государства, ни монументальных сооружений, ни науки, ни монотеизма, ни сколько-нибудь развитой мифологии (Тайлор 1897).
Вместе с тем, как отмечает Т. Тротмен, Тайлор до того сузил значение понятия «арийской (белой) расы», что оно стало пригодно для политизации. Ведь теперь речь шла о небольшой группе «белого населения», которая успешно разносила свой язык по всему миру и передавала его другим «более слабым расам», заменяя их собственные «менее совершенные» языки. Так арийская идея оторвалась от представления об индоевропейской общности, но подверглась расиализации, сохранив образ культуртрегеров (Trautmann 1997: 186–187). Иными словами, язык потерял роль основополагающей скрепы, определяющей родство всех индоевропейцев, и превратился в формальный малозначимый фактор. Зато в этом качестве его сменило родство по крови, и на первый план выступил (этно)расовый показатель. Соответственно, физическая антропология заняла то место, где прежде всецело властвовала лингвистика. Следствием этого стало исключение индийцев из состава «арийской расы», и Индия утратила свою привлекательность в качестве возможной прародины «арийцев». С тех пор взоры тех, кто занимался поисками такой прародины, обратились к Европе.
Теперь прямое отождествление языка с физическим типом сохранилось лишь в околонаучной, публицистической и художественной литературе. Но некоторые пытались тесно связать расу с религией, причем это не было чуждо и Тайлору. В этом контексте, где «арийство» иной раз отождествлялось с христианством, теологический спор христианства с иудаизмом принимал уже расовый облик (Поляков 1996: 278–279). Примечательно, что по мере того, как христианская историософия теряла универсальность и замыкалась в клерикальных кругах, ее центральная идея о необычайной живучести еврейского народа продолжала сохранять свою убедительность для тех, кто теперь апеллировал к науке. Эта живучесть и приспособляемость, завораживая одних и пугая других, в любом случае требовала объяснений. Ряд натуралистов указывали на врожденную живучесть, другие – на умение сохранять свою кровь «чистой» или вообще на могущество еврейской крови, третьи – на способность к акклиматизации, четвертые – на космополитизм. Вне зависимости от этих споров многие считали евреев созданными иначе, чем все другие люди. Но если для одних это означало близкий конец еврейства, то другие, напротив, предрекали ему необычайный успех. Некоторые авторы усматривали в этом опасность для окружающих. Однако дальнейший прогресс науки позволил квалифицировать все такие взгляды как атавизмы прежних суеверий (Поляков 1996: 300–303).
Как бы ни дистанцировались специалисты от крайностей, в конце XIX в. представление о неравенстве рас считалось основанным на «научных фактах». Поэтому и без жесткой связи с языком «арийская идея» продолжала соблазнять определенную часть физических антропологов, увлеченных краниологией. В 1840 г. швед Андерс Ретциус ввел такое понятие, как «головной указатель», позволившее ему разделить население Европы на долихокефалов и брахикефалов. По его мнению, первые значительно превосходили вторых по своим способностям. Из них-то и состояли «передовые (арийские) народы», тогда как брахикефалы определялись как «туранцы» и связывались с отсталостью (Поляков 1996: 282).
Несмотря на осторожные возражения основателя немецкой антропологической школы Рудольфа Вирхова, это представление надолго закрепилось в науке. При этом ряд немецких ученых связывали «арийцев» с северными немцами, которым была свойственна долихокефалия, тогда как некоторые французские авторы, напротив, отождествляли «арийцев» с брахикефалами, ибо большинство французов принадлежали именно к этой группе. Разумеется, каждая из сторон доказывала, что именно ее предки сделали Европу цивилизованной (Поляков 1996: 282–286). Участвуя в этом споре об историко-культурной роли брахикефалов и долихокефалов, Тайлор доказывал, что первые выказывали больше способностей к цивилизации. Поэтому он делал исконных арийцев брахикефалами, противопоставляя «благородную расу арийцев» «отвратительным дикарям» с их длинноголовостью. Тевтонцам он отказывал в принадлежности к «детям света» (Тайлор 1897).
Некоторые авторы, подобно французскому антропологу Полю Топинару, искали компромиссного решения. По его мнению, хотя белокурые долихокефалы и покорили брюнетов-брахикефалов, затем они слились в единую нацию. С этим не соглашался Ж. Ваше де Ляпуж, связывавший закат былого величия Франции с приходом к власти долихокефалов-арийцев. Вслед за Гобино он скорбел по упадку «арийской расы», ибо, на его взгляд, брахикефалы-туранцы были способны только повиноваться и с готовностью искали себе новых господ. Он видел в истории «борьбу рас» и предсказывал массовую резню, которую якобы способны вызвать пусть и небольшие различия «головного указателя». Выход он находил в евгенических мероприятиях, ибо, на его взгляд, лишь они могли остановить расовую войну (Тагиефф 2009: 117–119).
Своей вершины арийский миф достиг в конце XIX в. в книге Хьюстона Стюарта Чемберлена «Основания девятнадцатого века» (1899). Чемберлен не был ни историком, ни физическим антропологом. В его жизни все было запутано: сын британского адмирала, он провел детство во Франции, а вся его сознательная жизнь прошла в Германии, и он считал себя «немцем»; готовясь стать ботаником, он так и не защитил диссертацию и предпочел заниматься свободным писательским трудом. Он был зятем Рихарда Вагнера и входил в Общество Гобино и в Новое общество Вагнера, отличавшиеся германским шовинизмом. Ему благоволил кайзер Вильгельм II, находившийся под большим впечатлением от его книги.
Больше всего Чемберлена занимал вопрос о расе, но четкого научного понимания этого феномена у него не было: «раса» для него означала то биологическую общность, то состояние умов, то историко-культурную категорию, то религиозную группу. Он использовал понятия «индогерманцы», «индоевропейцы», «арийцы» и «тевтонцы» как синонимы. Причем в категорию тевтонцев он включал германцев, кельтов и славян, полагая, правда, что германцы сохранили «арийскую кровь» в наиболее чистом виде. При этом он был убежден в том, что «форма головы и структура мозга имеют решающее влияние на форму и структуру мышления» (цит. по: Field 1981: 154–155, 191). В то же время состоянию ума он придавал гораздо большее значение, чем языку или физическим чертам. А процесс развития и будущее интересовали его много больше, чем происхождение рас. Например, он писал: «Если бы было доказано, что в прошлом никакой арийской расы не было, мы ее увидим в будущем; для людей дела – это очень важный момент» (Field 1981: 220; Figueira 2002: 76). Иными словами, за его расовой риторикой скрывалась забота о сплочении германской нации и стремление обеспечить ей политическое превосходство в мире, и именно ради этого он любовно выстраивал свой грандиозный расовый миф.
Поставив своей целью нарисовать тридцать веков человеческой истории, Чемберлен сумел воплотить в своей книге лишь малую часть задуманного. Однако ему и этого хватило, чтобы на 1200 страницах показать глубокий расовый конфликт между «арийцами» и «семитами», якобы пронизывавший всю известную человеческую историю. При этом, хотя он обращался к массе самых разных источников, путеводной звездой ему служили труды расовых мыслителей и антисемитов, ибо, как замечает Дж. Филд, «его ум не воспринимал нерасовых построений» (Field 1981: 173).
Всю историю Чемберлен сводил к развитию и упадку рас: каждая культурная эпоха была творением доминирующей человеческого типа. При этом стержнем мировой истории рисовалась «расовая борьба». Чемберлен всячески превозносил тевтонскую, или арийскую, расу, изображая ее создательницей всех известных цивилизаций. Ее врагом он называл «расовый хаос», регулярно возникавший, если люди забывали о фундаментальных расовых принципах. Причем главными разрушителями порядка и цивилизации он показывал «семитов». Вслед за Гобино он доказывал, что смешение с «чужаками», то есть примесь «чуждой крови», неизбежно ведет к «расовому упадку» и деградации. Примечательно, что такое смешанное население, способное служить только «антинациональным» и «антирасовым» силам, он усматривал в южных европейцах, и впоследствии это дало Муссолини основание отвергнуть его книгу (Field 1981: 185).
Евреев Чемберлен изображал смешанной группой, обязанной своим происхождением трем разным «расовым типам» – семитам-бедуинам, хеттам и амореям, или хананеям. Последних он рисовал арийцами, пришедшими с севера. Смешение двух первых типов якобы дало евреев, а от смешения тех с арийцами появились «истинные израильтяне», во многом превосходившие евреев. Но это смешение произошло слишком поздно, а потому и культурный взлет Древнего Израиля был недолгим и закончился крахом. А после пленения жрецы произвели ревизию Ветхого Завета и исказили его, вовсе исключив из него воспоминания об «арийцах», но зато объявив евреев «избранным народом». Чемберлен восхищался приверженностью евреев принципу крови, но его ужасало стремление к установлению своей власти над миром, которое он приписывал им вслед за многими антисемитами той поры. Вместе с тем нетрудно заметить, что представления Чемберлена о евреях страдали разительными противоречиями: с одной стороны, он видел в них «чистый расовый тип», а с другой – считал их продуктом смешения нескольких разных «типов». Это повергало его в смятение, ибо они нарушали все выведенные им «законы расового развития». Поэтому, видя в них некую мистическую силу, он заявлял, что они разлагают благородные нордические души (Field 1981: 187–189). Примечательно, что, завершая свои абстрактные рассуждения о роли евреев в истории, он заканчивал утверждением о том, что они более других получают выгоду от современной модернизации, которая тяжелым грузом ложится на плечи «тевтонской нации» (Field 1981: 190). С тех пор это обвинение постоянно сопровождает все антисемитские выступления.
Евреям Чемберлен, разумеется, противопоставлял тевтонцев с их духом корпоративизма и иерархии, идеализмом и преобладанием «этики» над духом политической свободы. Он выступал против либерализма и рисовал идеал элитарного общества, которое стремился совмещать с «тевтонским индустриализмом». Последнюю главу своего произведения он посвятил восхвалению достижений «тевтонцев» в течение последнего тысячелетия – речь шла прежде всего о философии, науке и искусстве. В XIX в. он видел вызов тевтонцам со стороны эмансипированных евреев и финансового капитализма. Он писал о высокой миссии германцев, призванных победить социализм и плутократию.
Чемберлен придерживался версии об «арийской природе» Иисуса Христа, и именно благодаря успеху его книги версия об «арийском Христе» получила общественную популярность. По его убеждению, именно Христос создал «арийское христианство», которое тем самым не только не имело ничего общего с иудаизмом, но было им искажено (Field 1981: 182–183, 305–307)1010
Это особенно отчетливо прозвучало в его книге «Слово Христово».
[Закрыть]. При этом, описывая отличия «арийской религии» от иудаизма, Чемберлен опирался на Ригведу, видя в ней изложение принципов монотеизма, которые впоследствии якобы были «украдены» евреями и донельзя искажены ими (Figueira 2002: 77–80). В 1921 г. Чемберлен даже участвовал в учреждении Союза за немецкую церковь (Field 1981: 412).
Хотя его книга фактически была компиляцией более ранних расовых построений, а также содержала массу противоречий и необоснованных утверждений, ее с восторгом встретила немецкая публика, благодаря своему выраженному патриотизму и безграничному прославлению немецкой культурной традиции. Публике понравилась и идея «расового превосходства», которая, будучи переведена в практическую плоскость, означала «сплочение нации» (Field 1981: 169–224, 233)1111
Книга Чемберлена «Основания девятнадцатого столетия» вышла в 2012 г. на русском языке. Его творчество пропагандирует «Институт русской цивилизации» О. Платонова, где его называют «видным английским ученым», а его труды рекомендуют как «золотой фонд мировой науки». См.: (Чемберлен, Коннер 2009: 251).
[Закрыть].
Так к концу XIX в. в среде европейских интеллектуалов окончательно возобладал «научный расизм», всемерно использовавший идею эволюции для членения человечества на «низшие» и «высшие расы». Во главе последних, разумеется, стояли «арийцы» как якобы наиболее приспособленные к новой эпохе. Примечательно, что такие представления опирались не только на суждения ученых, но и на эзотерические учения, расцвет которых тогда наблюдался. В то же время социальным оптимистам, возглавлявшимся Гербертом Спенсером, противостояли пессимисты (Ф. Голтен, К. Пирсон), начавшие бить тревогу по поводу «расового упадка» и «дегенерации», к чему якобы могла привести высокая плодовитость «низших рас». В Германии и Австрии к таковым относили славян, в Англии – ирландцев. Определенную популярность тогда получила и идея ухудшения человеческих качеств вследствие «расового смешения». При этом вера во всемогущество наследственности достигла своей кульминации именно в Германии. Там концепции «расы» и «арийства» покинули научные кабинеты и оказали заметное влияние на общественные настроения. Дело доходило до того, что даже некоторые педагоги (Г. Альвардт) озаботились «борьбой арийцев с евреями». Например, тогда Вильгельм Шванер издавал антисемитский журнал для учителей и играл видную роль в германском молодежном движении.
В этой атмосфере накануне Первой мировой войны в Центральной Европе все громче звучали голоса, требовавшие поддержать «творческую и продуктивную арийскую расу» против «паразитической семитской». На этой волне в 1913 г. в Германии был учрежден Немецкий союз, провозгласивший себя борцом «против еврейской и славянской крови» (Поляков 1996: 311–318). Тогда Йозеф Раймер предсказывал заселение германцами евразийских пространств, включая Сибирь, где «не поддающимися германизации» оказывались славяне и евреи с соответствующими практическими выводами, ограничивающими производство потомства. При этом Раймер числил себя социалистом и интернационалистом (Поляков 1996: 323–324).
Таким образом, если на общеевропейском уровне арийский миф оправдывал систему колониализма (например, англичане легитимировали им свое право владеть Индией), то на уровне отдельных государств служил местному национализму, противопоставляя коренных жителей, потомков «арийцев», чуждому Другому, под которым в XIX и начале XX в. понимались прежде всего евреи (Figueira 2002: 49).
«Арийское христианство»
Рассмотренные веяния не обошли своим влиянием и христианскую религию. Хотя бурное развитие науки в XIX в. поставило под вопрос многие былые христианские догмы, христианская историософия продолжала воздействовать на умы даже тех ученых, которые внешне порывали с христианством во имя того, что они считали научной истиной. Напомню, что традиционный христианский взгляд на историю делил ее на три эпохи, соответственно оценивая роль в ней иудеев. Христианские авторы с благодарностью относились к древним израильтянам, подготовившим, по их мнению, приход Иисуса Христа. Однако насколько роль израильтян в ранний период рисовалась позитивной, настолько же они получали негативную оценку в отношении второго периода. Ведь, отвергнув Христа, они становились естественными врагами христианства, якобы всячески мешавшими его развитию. Если в ранний период они выглядели творческим народом, единственным носителем божественной истины, то затем, когда эта истина была передана христианам, они становились досадной помехой «новому Израилю», как теперь любили называть себя христиане. В новом мире места евреям-иудеям уже не находилось, и многие христиане с удивлением и подозрительностью относились к народу, продолжавшему существовать, несмотря на то что самим Проведением ему суждено было уйти в небытие. Отцы Церкви называли евреев «детьми Сатаны», и в наследство от них христианам досталось представление о коварстве иудеев, якобы подготавливающих приход Антихриста и призванных служить ему в эпоху всеобщего коллапса и беззакония, которая должна наступить накануне Страшного суда. Затем наступал черед третьей эпохи, когда праведникам суждено было наслаждаться бесконечным блаженством в мире, избавленном от злых сил и их прислужников. Стоит ли говорить, что эта схема постоянно подпитывала у своих приверженцев юдофобские настроения?
Нетрудно заметить, что все это отразилось в той оппозиции, которую любовно выстраивали многие из упомянутых выше мыслителей. В принципе она сохраняла прежний характер, хотя христиан, или «Новый Израиль», в ней сменили «арийцы». Мало того, те же представления давали о себе знать и в новых эзотерических концепциях, говорящих о регулярной смене эпох и рас. Здесь большую популярность получило учение о близящемся конце эры Рыб, чреватом всеобщим упадком и глобальными катаклизмами, после чего мир якобы должен увидеть приход новой расы. Эзотерики рисовали нашу эпоху временем господства «арийской расы», тогда как случайные остатки былых рас (а к ним относились и «семиты») обречены были покинуть сцену. В этой парадигме евреи («семиты») с якобы имманентно свойственной им приверженностью партикуляризму также выглядели культурно бесплодными, лишенными творческого начала и не имеющими будущего. Зато будущее ассоциировалось с универсальными людьми, «арийцами».
Примечательно, что в этом идейном климате, требовавшем максимально отдалить христианство от иудаизма, определенную популярность получила идея «арийского Иисуса». Еще в 1858 г. французский революционер Пьер-Жозеф Прудон доказывал, что монотеизм не мог быть создан «коммерческой расой» (то есть евреями), а был творением «индогерманского ума» (Rose 1992: 65). Тогда в Швейцарии А. Пикте наделял арийцев «первобытным монотеизмом», а во Франции Э. Ренан делал все, чтобы оторвать Иисуса Христа от его иудейских корней. «В Иисусе не было ничего еврейского», – писал он. Примечательно, что в христианстве Ренан находил меньше монотеизма, чем в иудаизме или исламе. Так христианство естественным образом становилось «арийской религией». Причем чем больше оно отдалялось от иудаизма, тем больше совершенствовалось. Поэтому Ренан настаивал на необходимости дальнейшей «арианизации» христианства и его очищения от «семитских недостатков». Мало того, как-то Ренан даже высказал вслед за Аделунгом предположение о том, что Эдем располагался в Кашмире. В пользу рисуемой им оппозиции он трактовал и природные различия между лесистой Галилеей, где родилось христианство, и пустынной Иудеей, где процветал иудаизм (Olender 1992: 69–72, 79).
Пытаясь провести резкую границу между «религией евреев» и «религией арийцев», сторонники такого подхода делились на две группы. Одни полагали, что кочевники-семиты, отличавшиеся сухостью ума и крайним рационализмом, были обречены на монотеизм, тогда как обладавшие творческой фантазией арийцы способны были создать для себя политеистическую религию. Другие, напротив, доказывали, что «еврейский ум» был не способен осознать всю глубину монотеизма; зато это было доступно арийцам. В любом случае в течение XIX в. в Европе вызревали настроения, требовавшие полного разрыва между христианством и иудаизмом и очищения христианства от «семитских включений».
Дальше всего это зашло в Германии, где наблюдались попытки создать «арийское христианство». Если Рихард Вагнер изображал легендарного Зигфрида «истинным арийцем», то его продолжатель, писатель-расист Клаус Вагнер в своей книге «Война» (1906) уже говорил об «Иисусе-Зигфриде». И если в XIX в. некоторые немецкие интеллектуалы, начиная с Фихте (Davies 1975: 572–573), были озабочены «арийским происхождением» Иисуса Христа, то в первой половине XX в. их последователи вслед за Чемберленом уже думали о том, как очистить Ветхий Завет от «семитизма». Это, разумеется, требовало «упразднения иудаизма», глашатаем чего еще в последней четверти XIX в. выступил в своем трактате «Религия будущего» востоковед Пауль де Лагарде (Davies 1975: 574). Тогда же, мечтая о «религии солнца», Эрнст фон Бунзен заявил, что Адам будто бы был «арийцем», а змей-соблазнитель – «семитом» (Поляков 1996: 330–332). В свою очередь бельгийский социалист Эдмон Пикар обнаружил «арийскую сущность» Иисуса Христа в том, что тот якобы был настроен против капитализма (Davies 1975: 575). А во Франции в конце XIX – начале XX в. многие католические авторы называли Иисуса то «арийцем», то «галилеяном», то даже «кельтом», но только не евреем (Wilson 1982: 515). И, наконец, вершина европейского антисемитизма XIX в., Чемберлен, пытался мобилизовать все возможные источники для того, чтобы превратить Иисуса Христа в «арийца»1212
Недавно его рассуждения на эту тему были опубликованы московским издательством (Чемберлен, Коннер 2009). В этой книге под одной обложкой были помещены работы двух западных писателей-антисемитов, стремившихся любыми способами доказать, что Христос не был евреем.
[Закрыть]. При этом он апеллировал к «духу», а не к внешности и настаивал на том, что Иисус поднял «флаг идеализма», тем самым бросив вызов иудаизму. Затем он заявил о необходимости «деиудаизации» христианства и поставил задачу создать новое арийское Евангелие. Следуя этому плану, под конец своей жизни он провозгласил истоком христианства персов, а вовсе не иудеев (Поляков 1996: 340–341; Davies 1975: 575–576; Field 1981: 193–195).
Таким настроениям способствовали сенсационные научные открытия в Месопотамии, позволившие немецкому ассириологу Фридриху Деличу выступить в 1902 г. с гипотезой о том, что многие сюжеты и идеи Второзакония, включая основные положения монотеизма, были заимствованы израильтянами из наследия Вавилонии. При этом он не просто демонстрировал соответствующие факты, но подчеркивал бедность и отсталость культуры древних израильтян. Мало того, если ранее А. Тайлор считал, что многие особенности своей древнейшей религии и мифологии арийцы заимствовали у семитов, то теперь Делич, напротив, задумался об «арийской природе» Иисуса Христа. Стоит ли говорить, что все это добавило масла в огонь антисемитизма? Так, Чемберлен не преминул включить открытия Делича, разумеется, в своей собственной интерпретации во вступление к четвертому изданию своей книги (Field 1981: 255–257; Poliakov 1985: 26; Marchand 1996: 223–226). Тогда даже в Санкт-Петербурге некоторые студенты демонстрировали свои антисемитские настроения со ссылкой на Делича. Так, например, делал М. М. Гротт, доказывая творческую немощь евреев, которым якобы приходилось «заниматься плагиатом» (Гротт 1915: 61–63).
В Германии близкие идеи, хотя и лишенные антисемитского налета, популяризировал А. Древс, доказывавший, что, попав под влияние персидского митраизма в эпоху Ахеменидов, израильтяне внесли серьезные коррективы в основные представления иудаизма. Например, изменился образ Яхве, превратившегося из жестокого и мстительного бога в доброго, милосердного и любвеобильного отца. Якобы на этом фоне рядом с суровым фарисейско-раввинистским законничеством появилась «гуманная и живая мораль», выходившая за пределы узкого «иудейского национализма» (Древс 1923. Т. 1: 8 – 13; 1930: 25–32, 37–39). Древс не забывал упомянуть о том, что древним израильтянам якобы были не чужды человеческие жертвоприношения. Впрочем, по его словам, даже это они частично заимствовали у персов (Древс 1923. Т. 1: 33–38). Иными словами, по мнению Древса, основные понятия иудаизма окончательно сложились под сильным влиянием персидской религии и эллинской философии. В то же время, как он доказывал, основу христианству заложили синкретические («гностические») учения, широко распространенные в Западной Азии в конце 1-го тыс. до н. э. Среди источников внешнего влияния он называл даже буддизм (Древс 1923. Т. 1: 55–62). Но ядро христианства Древс связывал с идеей жертвующего собой бога, якобы принесенной арийцами с севера. Он даже утверждал, что с этой точки зрения Иисус был «арийцем» (Древс 1923. Т. 1: 126)1313
Правда, Древс был убежден в мифологичности фигуры Иисуса Христа.
[Закрыть]. Тем самым, иудаизм представлялся «вторичной религией», а прямая генетическая связь с ним христианства оказывалась под вопросом. Впрочем, Древс не отличался последовательностью и в более поздней книге признал, что христианство выросло из иудаизма, хотя и выработало совершенно иное представление о Боге (Древс 1930: 366).
В эти годы перед антисемитами встала дилемма – принять или отвергнуть христианство. Чтобы оно стало для них приемлемым, его надо было очистить от любых следов иудаизма. Но если умеренные расисты принимали христианскую этику, считая ее «арийской», то радикалы усматривали в ней отчетливое еврейское наследие. Ведь германское героическое начало, каким они его видели, никак с ней не сочеталось. Поэтому со временем радикалы отказались от христианства и сдвинулись к неоязычеству, ярким примером чего были немецкий генерал Эрих Людендорф и его супруга Матильда (Poewe 2006: 74). В нацистской Германии германский языческий фольклор как источник исконных моральных норм почитался много выше, чем связанное с иудаизмом христианство, хотя отношение самого Гитлера к такой «германской идее» и отличалось известным цинизмом. Зато Гиммлер мечтал о создании «неогерманской религии», способной заменить христианство (McCann 1990: 75–79). Ведь многие нацисты видели в антихристианстве более глубокую форму антисемитизма (Poewe 2006: 7).
Со своей стороны приверженцы «германского христианства» поддерживали «возрождение» немецкого народа при национал-социализме, доказывали, что церковь вполне соответствует национал-социалистической идее, и выказывали готовность защищать нацистское государство от языческих тенденций. Они отстаивали идею арийского происхождения Иисуса, связывали христианство с «кровью» и всеми силами очищали его от каких бы то ни было остатков иудаизма. Такая, по словам А. Дэвиса, «нарциссическая церковь» вполне соответствовала тоталитарной природе нацистского государства (Davies 1975: 577–578)1414
Примечательно, что идея очищения христианства от «еврейского духа» занимала в 1930-х гг. и некоторых румынских интеллектуалов, питавших слабость к Железной гвардии, местной разновидности фашизма в Румынии (Ленель-Лавастин 2012: 216–217).
[Закрыть].
«Арийское христианство» было одной из ключевых идей концепции А. Розенберга, превратившей его в эксклюзивную расовую религию. Розенберг настаивал на том, что евреи в лице апостола Павла «извратили» истинную суть учения Христа. «Арийские» основы учения он искал в индийских Упанишадах, в зороастризме и у средневекового мистика Майстера Экхарта (Figueira 2002: 83–86). Сторонником «арийского христианства» был также бывший пациент психиатрической клиники Карл Мария Виллигут – эзотерик и духовный наставник Г. Гиммлера, разработавший эсэсовские ритуалы и символику. Он называл себя потомком древних германских королей и доказывал, что христианство родилось из религии древних германцев («ирминистской религии Криста»), в среде которых задолго до «семитов» и была якобы написана исконная Библия. В его концепции находило место и распятие древнего вождя Балдура «раскольниками-вотанистами» (Гудрик-Кларк 1995: 199–201; Васильченко 2008: 437–454).
Движение германской веры возникло в Тюбингене в 1929 г. Его приверженцы поклонялись Гитлеру и считали, что лишь через него можно было достичь Иисуса Христа. Одной из задач этого «германского христианства» было объединение немецкой нации, расколотой по религиозному признаку. Однако при нацистах это движение вошло в конфликт с учрежденной властью Исповедальной церковью, ставившей ту же задачу, но отдававшей предпочтение протестантам. Ведь Движение германской веры представляло себя «третьей конфессией», отличной от протестантов и католиков и стремившейся собрать вокруг себя религиозные группы, не связанные с христианством, – расистов-язычников и эзотериков, то есть тех, кто еще в Веймарский период демонстрировали свои расистские наклонности и хотели очистить христианство от «семитизма» (Poewe 2006). Нацистское государство, объявляя себя сторонником «позитивного христианства», воздерживалось от откровенной поддержки какой-либо из конфессий, хотя и симпатизировало протестантизму (Alles 2002: 180–181). В конечном итоге нацистский культ основывался на идее Третьего рейха; никакие другие боги ему не были нужны (Poewe 2006: 148–149). В этих условиях Движение германской веры не встречало какого-либо противодействия, и именно его усилиями в Тюбингене был учрежден Арийский институт (в декабре 1942 г.), а в Марбурге – Музей изучения религий1515
Правда, в 1935–1936 гг. в Германии происходили гонения на сторонников нетрадиционных религий, включая оккультные науки и неоязычество.
[Закрыть]. При этом если до прихода нацистов к власти там среди религий фигурировал и иудаизм, то уже в музейной программе 1933 г. места для него, в отличие от всех других основных религий мира, не нашлось (Alles 2002: 184).
Создатель и первый лидер Движения германской веры, бывший миссионер Якоб Вильгельм Хауэр, склонный объяснять различия между религиями расовым фактором, резко противопоставлял «индогерманскую религиозность» «ближневосточной семитской». Если первая якобы отводила человеку место рядом с богами, то вторая рисовала его жалким, убогим, греховным существом, спасти которое могло лишь посредничество третьих лиц; первая способствовала развитию инициативы, вторая прививала фатализм; первая призывала к активной борьбе за справедливость, вторая обрекала на вечное подчинение богу-деспоту; первая отличалась толерантностью, а вторая стремилась к доминированию. Индогерманцам нужен был не спаситель, а вождь. Поэтому, учил Хауэр, чтобы не навлечь на себя беду, человек обязан поступать в соответствии со своим «расовым характером» (Alles 2002: 190; Poewe 2006). Примечательно, что немало христиан рисуют все это как оппозицию христианства иудаизму, где христианство обладает теми же чертами, что «индогерманская религия», по Хауэру1616
(http://koenraadelst.voiceofdharma.com/articles/fascism/Nazi5Poewe2.html)
[Закрыть].