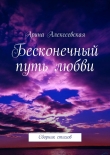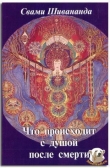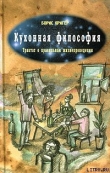Текст книги "Как жить человеку на планете Земля?"
Автор книги: Вик Тор
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Виктор: Очевидно, что категория «природа» имеет непосредственное отношение к одной из наиболее фундаментальных категорий философии, – философской категории «бытия». В ней сплетается все, что заботит человека (размышления человека, как было сказано, об окружающем мире, о себе самом, о месте человека в этом мире и смысле жизни). Причем, для здравого смысла существование мира и самого человека достаточно очевидно и все воспринимается очень просто (отсюда расхожие выражения, – «Жизнь есть жизнь… а что делать?»). Но для философа – это всегда, как мы видели, проблема (вспомним скептиков от Пиррона до Юма, сомнения Декарта). Масса сомнений возникает, как мы еще покажем, в связи с осмыслением проблемы времени и пространства. И хотя ставится проблема познать, что есть мир и что есть человек, но одновременно присутствует и ощущение исследователя, что «он знает, что ничего не знает» (Сократ).
Рационалист: Возьмем к примеру, два понятия – «Бытие» и «быт», – посмотрим, что их сближает, что разъединяет. Термины однокоренные, созвучные, что предполагает некоторую содержательную общность. Но и сущностное различие, очевидно, имеется. Достаточно взглянуть на соответствующие определения в различных словарях. «Быт» в Философском энциклопедическом словаре трактуется следующим образом: «Уклад повседневной жизни, сфера внепроизводственной социальной жизни, включающая как удовлетворение потребностей людей материальных (пища, одежда, жилище, безопасность, здоровье и т. д.), так и духовных (культура, общение, отдых, развлечение и т. д.). Под влиянием социальных и географических у различных народов складываются собственные традиции, обычаи, привычки, обряды, связанные с жизнедеятельностью в быту (различное соотношение материального и духовного, индивидуального и общественного, затраты времени, типы социальных объединений. В ходе социально-исторического развития меняются элементы быта и его структура (влияет в разной мере машинизация, электрификация, информатизация, инновация и т. д., – глобализация, в конечном счете)». Как-то просто, буднично, тривиально все выглядит, – отсутствует философский посыл. Но достаточно повнимательнее понаблюдать за этой сферой бытия человека и можно разглядеть моменты, влекущие как раз к философским размышлениям. Бытовая суета захлестывает, часто нас подавляет, заедает (мода, праздники, «тусовки», или забота о хлебе насущном, борьба с бедностью, болезнями и прочими невзгодами). Однако бывают и моменты просветления (или протрезвления), когда иной человек начинает задумываться, – «И это моя жизнь? И для этого я рожден, я живу? И в чем же смысл этой жизни?» Появляется в его размышлениях как раз то, что философы называют – «проблема бытия», – более фундаментальные раздумья о себе, о жизни, о мире. Но философский подтекст «быта» человек может почувствовать и через наблюдение природы в ее естественном состоянии: рыбалка, охота, путешествия. Также и через искусство (вторую природу): музыка, живопись, поэзия, – человек как бы выходит за предел бытового существования, – начинает размышлять об окружающем мире, о себе самом, о месте человека в этом мире и смысле жизни. Это как бы уже выход за горизонт чувственных восприятий, – появляется ощущение более целостного «бытия». Примером философской взаимоувязки этих понятий служит книга Виктории Швейцер о жизни и творчестве М. Цветаевой «Быт и бытие», – понятия в ее названии как бы служат некой параллелью понятий «времени и вечности», особенно актуальных при оценке творчества этого замечательного русского поэта.
Виктор: Об этом же говорит, к примеру, и анализ картины Ван Гога «Крестьянские башмаки» М. Хайдеггером (Введение к работе «Исток художественного творения»).
Хайдеггер: Главное намерение художника в том, чтобы показать бытие художественного творения, (по сути дела, предмета быта, – авт. В.Д.), как манифестацию некой истины самой по себе. Здесь есть не просто предмет, который можно использовать для самых разных целей, но нечто такое, чье бытие состоит в том, что оно «стоит в самом себе», – происходит как бы раскрытие, «разверзание мира». Таким образом, художественное творение хранит нас от потери ощущения сути вещей. Распахивается некая открытость, «сокровенность», – вот в чем сущность заключенного в художественном творении становления некой истины.
Виктор: Кстати, при осмыслении последней, также как и проблемы бытия в целом, очевидно в наибольшей степени, влияние вышеназванных философских оснований на становление соответствующей картины мира: материализм и идеализм, теизм и атеизм, познаваемость и агностицизм.
Рационалист: В попытке рассмотреть подробнее проблему бытия обратимся к этимологии этого слова. Термин «бытие» (русское слово), происходит от глагола «быть», что означает «существовать, наличествовать». По латыни переводится термином esse. В романских языках употребление этого глагола в различных временных формах достаточно распространено (от глагола to be, т. е. «быть», в английском – is; во французском – est; в немецком – ist). В русском языке эта связка «есть, быть» часто не употребляется, но подразумевается (добавляет, усиливает характеристику существования объекту предложения). Но в философии термин «бытие» становится гораздо более общим понятием и даже категорией (одним из наиболее общих понятий), – «бытие».
Виктор: В одном из Философских словарей, правда, оно трактуется довольно упрощенно, на мой взгляд: «Философская категория, которая обозначает реальность, существующую объективно и независимо от сознания человека». Но этого мало для определения бытия. Можно определить бытие, как философскую категорию, отображающую не просто объективную реальность, существующую как бы вне сознания человека, но и отражающую включенность самого человека в эту реальность, связанную с комплексом проблем, возникающих при анализе человека, окружающего мира и их взаимоотношения, взаимодействия. Именно в таком смысле фактически трактовали «бытие» философы различных времен. Уже у досократиков древней Греции оно по своему значению совпадает с представлением о всеобщем космосе, связано с понятием всеобщей субстанции вещей. И хотя древние материалисты оставили нам довольно упрощенные суждения, – «все есть вода» (Фалес), «все есть воздух» (Анаксимен), «все есть огонь» (Гераклит), – однако, греческая мифология того времени дает нам возможность угадывать за этими простыми вроде бы словами и иные «божественные» сущности (один из этих милетских мудрецов, Анаксимандр, прямо утверждает – «все есть божественный апейрон»; а тому же Фалесу принадлежит и другое замечательное высказывание, – «в мире все полно богов»). Таким образом, изначально имеется (угадывается нами) убеждение, что помимо мира объектов и предметов, воспринимаемых с помощью органов чувств, за ними, существует некий иной истинный мир. Эти миры обозначают по-разному, – при этом философские взгляды смешиваются с религиозными. Но в целом, различается «бытие по мнению» (первый мир, – это, мол, всего лишь призрачный мир, иллюзии) и «бытие по истине» (второй). У Платона позднее появляется развернутая концепция представлений о чувственном бытии и неком мире идей. Кроме того, Платон и Аристотель признают существование божества, творящего из некого первовещества миры, в том числе сотворившего и наш мир. (И религиозные деятели всех времен также говорят о сверхъестественном божественном мире, куда человек проникнуть с целью познания не может, – в него можно только верить).
Наиболее общая и подробно разработанная концепция бытия существует в средние века у Августина Аврелия (Блаженного, Святого), который говорит, что существует Бог и он творит некое первовещество из некоего ничто. А далее из этого первовещества создаются идеи неких первоначал. И комбинируя эти идеи и первовещество, он создает далее первичные субстанции: землю, воду, огонь, воздух. Он же творит идеи вещей, которые в соединении с первичными субстанциями, дают вещи этого мира. Но кроме такого землеустроения Бог-Творец (верховный), по Августину, создал и некое «небо небес», на котором поселил других сотворенных им богов или духов, которые сами могут также творить миры. Продолжая эти мысли, можно представить, что и сам Творец создан Творцом еще более высокого уровня. Таким образом, можно вообразить бесконечное количество таких сотворенных и творящих миры богов, (иерархию богов и миров), а весь мир рассматривать как некий божественный «апейрон», конгломерат, несущий в себе целые миры вселенной и их творцов. Такого же рода взгляд имеется и у философа древней Индии Шанкары (9 в.) – учение «адвайта». Человеку, считает он, свойственно верить низшим истинам (экзотерическим), – на этой основе рождается представление о Брахмане, как о Божественной личности. Но есть высшие истины (эзотерические), – и тогда Брахман трактуется, как Высший Демиург, как некая ВсеДуша, которая разыгрывает для самой себя некий спектакль (в т. ч. создает Бога Демиурга, который и создает, творит, в свою очередь, сенсорный мир). Таким образом опять звучит идея иерархии самих богов. (Она будет подхвачена Д. Локком, Г. Лейбницем позднее). Интересна трактовка бытия, как чего-то всеобъемлющего, в древнекитайском даосизме. Бытие – это некое «дао»: «все в мире одна вещь – дао; вне присутствия дао нельзя говорить, но то, о чем и поведать нельзя – это дао; в не присутствие дао нельзя размышлять, но то, о чем и помыслить нельзя – это тоже дао». Спиноза вводит соответствующее понятие «субстанции». (Это «причина самой себя», некая вечно существующая внутри себя первооснова вселенной, – как бы равнозначная бытию, – causa sui).
Синтетист: Приведем еще примеры: Н. Кузанский в период Возрождения (16 в.), продолжая поиск античных философов, выделяет три области премудрости, в которых ищет (должен искать) философ: область чувственно воспринимаемого (мир явлений, воспринимаемый органами чувств человека); область умопостигаемого, умопонимаемого, умосоздаваемого (понятия, абстракции различного уровня, создаваемые умом); и область вечного божественного (познать умом человека не возможно, – познается с помощью мистического прозрения, в это можно только верить). Но, добавим, есть еще и сфера, «о которой мы и помыслить не можем». (Об этом писал еще древний грек Дионисий Ареопагит, – 4–5 вв. В этом направлении работал, отметим, в 20 в. М. Хайдеггер, соотнося с понятием истины некую «сокровенность»). Н. Кузанский пишет книгу «Охота за мудростью», в которой подводит итог своих исканий. В работе «Апология ученого незнания» он говорит о том, что знания человека всегда ограниченны, а познание бесконечно, что ученый подобен человеку, который взбирается на башню и которому открываются в бесконечной перспективе все новые горизонты познания. Попытка адекватного отображения этих взглядов имеется у Г. Лейбница в его «Монадологии» 17 в. Религия же пополняет философию массой собственных догадок, утверждений и проблем. Например, существуют «утверждения-проблемы»: бессмертия души, существования человека в ином трансцендентальном мире, существования Бога. Немецкие классики 18–19 вв. внесли наибольший вклад в осмысление категории бытия.
Кант: Я утверждаю существование некой «вещи в себе», не доступной нашему познанию. Она как бы равнозначна понятию бытия.
Фихте: А я провозглашаю два равномощных положения: «без субъекта нет объекта» (идеализм) и «без объекта нет субъекта» (это материалистическое положение). Оба эти положения сосуществуют и взаимопроникают. Я отвергаю непримиримое противоборство материализма и идеализма, доказываю их сосуществование в единстве. Свою теорию, наукоучение, я называю «критический идеализм или идеаль-реализм».
Виктор: Шеллинг (остановимся подробнее на нем) трактует все явления бытия (физические, духовные, материальные, реальные, идеальные), как некое всеединство, включая в него и самого бога. (Уже в 19 лет в эпиграфе одной из работ он написал: «эй кан пан», что означает в переводе с греческого «все – едино». За несколько месяцев до смерти он также писал сыну: «Лессинг сказал «все единое» и я не знаю ничего сказанного лучше»). С этих позиций он трактует философию природы и философию духа. (Заметим, правда, кстати, что впервые это заявил древний грек Парменид).
Шеллинг: Природа едина, в ней нет разобщенных субстанций, неразложимых первоэлементов, – есть единство противоположностей, есть постоянное изменение и развитие…Сама жизнь есть единство двух процессов, распада и восстановления веществ.
Виктор: Он возвращает нас вновь к трактовке природы, как изначальному тождеству объекта и субъекта. Но принцип тождества субъекта и объекта трактуется им уже гораздо более явно через проблему осмысления Бога. Бог для него – некое единство личности и мира, в котором слиты две первосилы: эгоизм и любовь, как реальное материальное и идеальное начала. Материя, по его мнению, есть не что иное, как бессознательная часть Бога. В связи с этим он развивает философию единства и также критикует «догматическое разделение идеализма и материализма», ищет более глубокие основания их взаимоотношения. Идеализм, базисом которого не служит живой реализм, становится, по его мнению, пустой и отвлеченной схемой. «Идеализм – душа философии, реализм – ее тело, – лишь вместе они составляют живое целое». Реализм не может дать философии ее принцип, но он должен быть основой и средством, тем, в чем идеализм осуществляется, претворяется в плоть и кровь, – живой фундамент философии. Исследуя далее с этих позиций непосредственно свободу воли, он выделяет различие между сущностью, поскольку она существует (является), и сущностью, поскольку она есть лишь основа существования (существование и сущность как бы разобщены).
Шеллинг: Поскольку до Бога или вне Бога нет ничего, то основа его существования должна быть в нем самом. Но эта основа не есть Бог, а только основа его существования: она есть природа в Боге, неотделимая от него, но все же отличная от него сущность. То же можно сказать относительно вещей внешнего мира. Основа вещей тоже находится в том, что и в самом Боге не есть он сам, то– есть в основе его существования. Она есть некое единое и оно обладает стремлением порождать само себя, которое вечно испытывает. Рассматриваемое в себе и для себя, оно есть воля, но воля, в которой еще нет разума и потому несовершенная, не самостоятельная воля. Разум порождается на этой основе и по существу есть как бы воля в воле. Сама же эта основа есть таким образом воля разума, то– есть его стремление и вожделение, – не сознательная, а предчувствующая как бы воля, чье предчувствие и есть как бы разум.
Виктор: Таким образом, Шеллинг говорит о сущности стремления, рассмотренного само по себе и для себя, из которого рождается и сам Бог. Это и есть воля, – непостижимая основа реальности вещей, никогда не исчезающий осадок, то, что никогда не может быть разложимо в разуме, но вечно остается в основе вещей. Из него и порожден разум. Итак, с одной стороны, по Шеллингу, вследствие вечного деяния Бога в мире, все есть правило, порядок и форма, – добро. Однако, с другой стороны, в основе его лежит нечто беспорядочное, хаотичное, злое и кажется, что оно когда– нибудь может вырваться наружу.
Шеллинг: Без предшествующего мрака нет реальности твари, тьма – ее необходимое наследие, утверждает он. Всякое рождение есть рождение из тьмы на свет: растение – из семени в земле, человек – из чрева женщины, из темного чувства, желания – вырастают светлые мысли. Это изначальное стремление, движущееся к разуму, можно представить, как бурно бушующее море, влекомое предчувствием. Оно реализуется, как зарождающееся и развивающееся внутреннее представление воли о самой себе, – это и есть нарождающийся разум. Поскольку же эта сущность есть не что иное, как вечная основа существования Бога, она и должна содержать в то же время в самой себе его сущность (Божественную сущность) подобно некоей искре жизни, светящейся в глубоком мраке. Появившийся разум побуждает стремление к разделению сущностей и сил, – возникает нечто постижимое и единичное. Отъединенные в этом разделении силы составляют материю, из которой формируется тело, и душу, независимую от материи. Каждое возникшее таким образом в природе существо содержит в себе двойное начало, которое есть по существу одно, рассматриваемое с двух различных возможных сторон. Начало, которое исходит из основы и темно, формирует своеволие твари, ее страсть и вожделение, – это есть слепая воля. Ему противостоит разум, который подчиняет ее себе, как простое орудие. Поэтому в человеке содержится вся мощь темного начала и вся сила света, глубочайшая бездна и высочайшее небо
Виктор: Об этом позднее замечательно и ярко напишет Ф. М. Достоевский.
Шеллинг: Воля человека есть, с одной стороны, сокрытый в вечном стремлении зародыш Бога, сокрытая в глубине искра Божественной жизни. С другой стороны, из– за того, что человек возникает из основы, он содержит независимое от Бога начало, но оно, оставаясь темным в своей основе, все же преображено в свет и в нем зарождается нечто высшее, – дух. Оба этих начала, от Бога и от темной основы, существуют во всех вещах. И то единство, которое в Боге нераздельно, в человеке разделено и это есть возможность творения добра или зла. Соотношение своеволия и разума в каждом человеке – различно. Возвышение своеволия и есть зло, по его мнению, – тогда и возникает жизнь во лжи, порождение беспокойства и гибели. Следовательно, основа зла находится в некоей основе существования, – высшем положительном, имеющемся в природе, по его мнению.
Виктор: Как видим, теизм присутствует здесь в явном виде. Итак, в целом онтологические бытийные аспекты трактуются Шеллингом следующим образом: – процессы эволюции вечны (идут и до появления Бога определенного уровня) и Бог Творец конкретного мира появляется как их результат, – далее этот конкретный Бог творит в свою очередь первоначала и т. д. (т. е. конкретные миры), но опять происходят процессы эволюции, и так без конца, – идут волны эволюции и творения во Вселенной. Бесконечное количество этих волн, их флуктуация и дает первовещество, основу, «апейрон», – а каждый конкретный Бог-Демиург творит на каждом определенном этапе. Поэтому Шеллинг протестует против голой эволюционной теории, стремящейся просто вывести человека (его дух, душу) из неорганической природы: нельзя представить, отмечает он, что ничтожное дает повод к возникновению великого, – именно последнее должно существовать изначально, обуславливая эволюцию. (Правда, Шеллинг считает, что все эти диалектические положения не должны выноситься на суд широкой публики, которая их не поймет). (Шеллинг Ф. «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах»). Георг Гегель в своей главной работе «Наука логики» строит систему абсолютного идеализма: начинает с осмысления проблемы бытия и параллельно ставит проблему «ничто», трактуя эти категории, как различные и, одновременно, нераздельные.
Гегель: Бытие и ничто, – это одно и то же. Бытие и ничто, – как это ни парадоксально, – это не одно и то же. Начало всегда содержит в себе бытие и ничто. Бытие и ничто различны и нераздельны и каждое исчезает в своей противоположности, – в третьем, – в становлении.
Виктор: Как пример, он берет науку математику, которая обязана своими успехами (дифференциальное и интегральное исчисление) тому, что приняла определения, которые не признает рассудок человека, – это определение бесконечно малых величин.
Гегель: Такие величины рассудок не может осмыслить: эти величины существуют в своем исчезновении, – не до исчезновения (тогда это было бы нечто) и не после исчезновения (тогда это было бы ничто).
Виктор: Исходное понятие его философии – Абсолютная Идея. Она трактуется, как некая субстанция всего существующего, всеобщее сущностное всего природного и духовного. Кроме понятия абсолютной идеи у него есть понятие абсолютного духа. Абсолютный дух – это Идея в ее реальном выражении в виде различных форм интеллектуальной деятельности совокупности субъектов познания (миллионов людей, – реализующих различные формы познания, – от низших чувственных форм до абсолютного знания). Идея Бога в явном виде вроде бы и не присутствует, но что такое Абсолютная Идея, Абсолютный Дух? Это и выглядит, как идея трансцендентного сверхъестественного существа.
Гегель: Абсолютная идея есть единственный предмет и содержание философии. Природа и дух – это различные ее способы представить свое наличное бытие. Искусство, философия, религия – это разные способы ее постигать себя, сообщать себе соответствующее наличное бытие.
Рационалист: Отдельно и более конкретно исследуется философами бытие собственно человека, – Esse Homo. Главные вопросы тут, как мы ранее уже отмечали: загадка антропосоциогенеза; единство биологического и социального в человеке; проблема жизни и смерти. «Познай самого себя», – эту декларацию утверждал тот же Сократ, как основу человеческого знания. «Что есть человек, что он может знать, что должен делать, на что надеяться?», – это главные философские вопросы, по Канту. (Что касается возникновения человека и общества, то нами ранее были выделены две основные версии: религиозно-мифологическая и естественно-научная. В их рамках рассматривалась и глубочайшая тайна жизни и смерти). Отметим дополнительно еще и творчество немецкого философа К. Ясперса («Смысл и предназначение истории»): он выделяет глубинное ядро человеческой личности (экзистенция), которая соприкасается с иным сверхприродным миром (трансцендентного). По отношению к предметному миру экзистенция есть нечто безусловное (именно там коренится бытие человеческой самости, осознаваемое, как чувство некой свободы), но по отношению к трансцендентному она есть уже нечто обусловленное, зависимое, подчиненное. Для восприятия этой концепции человеку необходимо обладать т. н. «философской верой» (провозглашается некий союз веры и разума). Одна из экзотичных теорий на эту тему у французского философа Ж. Делеза. (В работе «Логика смысла» он выдвигает собственную версию трактовки некоего сверхъбытия, как бытия смысла. Смысл обычно ищут либо как заключенный в словах и предложениях, либо в вещах и явлениях, которые мы пытаемся отобразить суждениями. Но между миром вещей и миром суждений есть еще, утверждает он, некий парадоксальный смысл, отображающий опять-таки некую сокровенность, тайну бытия (возникающий и исчезающий, как «улыбка без кота и пламя без свечи», – образы английского математика и логика Льюиса Керрола «Алиса в стране чудес; Алиса в Зазеркалье»).
Виктор: Итак, повторим, «Бытие» – это одна из фундаментальных проблем философии. В ней сплетаются не только итоги познания, но все, что заботит человека, – размышления человека об окружающем мире, о себе самом, о месте человека в этом мире, и, в конечном счете, о смысле жизни человека. И хотя ставится проблема познать, что есть мир и что есть человек, но одновременно присутствует и ощущение исследователя, что «он знает, что ничего не знает» (Сократ). В целом, таким же образом можно было бы говорить и о всех других философских категориях, влияющих на формирование картины мира у человека. Дополнительно, однако, подробно рассмотрим лишь еще одну пару важнейших также основополагающих категорий «пространства и времени».
Рационалист: Размышляем ли мы о смысле быстротекущей нашей земной жизни либо о проблемах бытия человека вообще, – мы никак не можем уйти от анализа проблемы времени и пространства (категории неразрывно связаны). Почему? Отмечу, как основные, два момента, которые отражают осмысление, как категории бытия самой по себе, так и земной нашей жизни (и будоражат в связи с этим наш ум и сердце). Первый момент – это проблема соотнесения категорий «времени и вечности» (представляется чрезвычайно важной и для философов, и для религиозных деятелей, и для представителей искусства). Можно привести примеры некоторых их высказываний.
Платон: Время (Хронос) есть подвижный образ вечности (Эон).
Св. Августин: Мир сотворен не во времени, но вместе со временем.
Шелли: Колесо времени – прялка вечности.
Пастернак: Не спи, не спи художник, /Не предавайся сну. /Ты вечности заложник /У времени в плену…
Рационалист: Второй момент, который не дает нам покоя, – это проблема, может быть наиболее близкая и т. н. «здравому смыслу» и научным исследованиям: «пространство и время» – что это, – формы существования материи (марксизм), или всего лишь формы нашего чувствования (Кант), или и то и другое вместе (Хайдеггер)? При рассмотрении этой проблемы онтология и гносеология, может быть в наибольшей степени, сливаются воедино. Предлагаю начать с анализа этого, более простого, как кажется, аспекта и провести своего рода историческую инвентаризацию различных взглядов. (Следует вначале хотя бы коротко их обозначить, чтобы позднее развернуть подробнее).
Виктор: Отметим, что исторически первые размышления о времени начинаются в глубокой древности с сомнения в реальности субстанциального его существования. Стоики, к примеру, считали, что время есть всего лишь наша мысль о нем или некоторая характеристика восприятия телесного движения, а не какая-то отдельная сущность. Действительно, мы замечаем изменение во внешнем мире, движение, и появляется мысль о времени,—т. е. о том, как быстро или медленно происходит это изменение. Понятия «быстро – медленно» рождаются в результате сравнения протекания различных воспринимаемых органами наших чувств явлений, процессов (воспринимаются их образы в различных точках, областях окружающего мира). Появляется представление о пространстве и об образах вещей в этом пространстве, изменении этих образов, – таким образом, пространственные образы – это как бы первичное восприятие наших чувств, а время – вторичное. Человек замечает, что некоторые процессы (это периоды обращения некоторых небесных тел, в частности) протекают с неизменной, как ему кажется, скоростью (появляется понятие «скорость»), – и приходит к мысли о создании эталона времени для его измерения в самых разных областях. Итак, понятие времени возникает, как результат наблюдения и сравнения длительности протекания каких-либо процессов. (В качестве эталона используются наблюдения над астрономическими явлениями. Вращение земли вокруг оси формирует представление о сутках, движение луны вокруг земли и земли вокруг солнца, – представление о месяце и о годовом цикле). Пространство оценивается через форму, конфигурации вещей, соотнесение их количества и качества между собой.
Платон: Перед актом рождения идеи времени у человека, из разума и мысли богов возникли планеты, дабы определять и блюсти числа времени.
Рационалист: Позднее, в 20 веке, такой взгляд позволил сформулировать развернутую материалистическую позицию здравого смысла. Марксизм – ленинизм утверждал и развивал следующие положения, как основные мировоззренческие: в мире нет ничего, кроме движущейся материи; пространство и время – это способы существования материи. Пространство и время рассматриваются, как неразрывно связанные между собой. Но даже в общей материалистической парадигме существует различение видов трактовки пространства и времени, как объективно существующей реальности, – а именно, имеются две концепции – субстанциальная (абсолютная) и релятивистская (относительная). Согласно субстанциальной – пространство явлений рассматривается, как независимо и объективно наличествующая сущность, некая арена, на которой происходят действия, связанные с нашим существованием. И субстанциально существующее время течет в бесконечность по этой арене (река времени из прошлого через настоящее в будущее). Такая точка зрения была уже у древних греков, – Эпикура, Демокрита. В период Ренессанса (15–16 вв) Коперником, Бруно, Галилеем сформулировано понятие абсолютного времени (возрождается идея Аристотеля). Этот взгляд развил Гассенди: «пустое время, которое течет равномерно, независимо от существования вещей, (самого человека), их движения, от их сотворенности или несотворенности». Законность этой позиции утвердил И. Ньютон.
Виктор: Может быть, это и есть нечто, соотносимое с абсолютным временем «апейрона», (вечности), существующее как некий осредненный результат творений богов самых разных уровней, или как то, что в последующем определено как некая перманентно существующая «длительность» Бергсоном. Утверждается, таким образом, неисчерпаемость различных аспектов существования пространства и времени, способность человека ощутить за горизонтом своей эпохи горизонты иных эпох. Такой подход, по-видимому, если и кажется опровергающим идею о сотворении времени, о запуске механизма часов, задании определенного ритма Вселенной ее Творцом, то только на первый взгляд. Главное же в том, что утверждается признание некой вечной основы вещей, – вечности «постоянно длящегося» Эона. Таким образом, разграничивается время сотворенное и время вечности.
Рационалист: Но с давнего времени развивалось представление и об относительности восприятия объективно существующего пространства и времени. В наибольшей степени научные основы такой трактовки пространства и времени заложил А. Эйнштейн в теории относительности. Два вида теории относительности при этом имеются. Вначале создавалась специальная теория относительности (1905 год), – в ней увязывается пространство и время с относительной скоростью движения объекта. Утверждается, что при приближении скорости объекта к скорости света временные интервалы могут как бы растягиваться, а протяженность тел уменьшается. В 1916 году Эйнштейн создает общую теорию относительности, которая выявляет связь пространственно– временных характеристик движущегося объекта с полем тяготения, в котором он движется. Поле создается массой взаимодействующих тел и также оказывает влияние на пространственно-временные характеристики объекта. Надо отметить, что релятивистские представления о пространстве-времени в микромире дают реально предсказуемые результаты, – это реализуется в релятивистской квантовой механике.
Виктор: Но, как было отмечено, все эти концепции пространства и времени на основе материалистической позиции противостоят точке зрения т. н. субъективного идеализма (где пространство и время трактуется всего лишь, как форма нашего чувствования). Где правда? Пока отметим коротко: похоже, она на пути синтетических представлений. Можно сказать, что человек существует в некой эволюционирующей объективно существующей материи и одновременно развивается (эволюционирует) вместе с ней. И при этом адекватно воспринимает и отображает ее органами чувств. Здесь просматривается непосредственная связь с наукой о физиологии органов чувств и высшей нервной деятельности. К примеру, в немецкой классической философии, как было отмечено, у Канта в частности, пространство и время трактуются существующими только в феноменальной сфере, сфере явлений (форма чувствования).