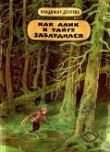Текст книги "Медвежьи невесты (СИ)"
Автор книги: Вероника Тутенко
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
– Прямо как проклятье какое-то над посёлком…
– Барин, рассказывают, здесь жил один, свирепый с крестьянами, но очень любил лошадей и собак. Говорят, и сейчас его душа бродит по тайге в облике огромной чёрной собаки. Но так ли это, врать не стану. Сама не видела…
Женщина стала часто креститься, и задумчиво продолжала:
– Барин этот жил в Нижнем в большом красивом доме. Дома того уж нет. А вот дубовая избушка в тайге, куда он крестьян на сенокос посылал, стоит, как новенькая.
– А кто же теперь в ней живет?
– Чей участок, тот и живёт. А раньше крестьяне жили. Там посреди тайги огромная поляна, так она с тех пор и называется – Сенокос. Крестьянам барин тот наказывал, чтобы, пока не высушат сено, не сложат в стога – не смели уезжать оттуда. Они и жили в этом домике… Может, и впрямь проклятье какое… Тайга – вон какая огромная. Что в ней там – поди разбери… А только, и правда, много здесь чего творится. Вот там, на том берегу, – показала женщина в сторону реки, – жила старуха, девяносто лет, а то и больше. Казалось бы, скоро умирать человеку, о душе подумать надо. И что же она учудила… Пошла к сыну (он тоже здесь живёт неподалеку). «Дай, говорит, – мне ружьё. – Меня крысы замучили». Он дал, конечно, ничего не заподозрил неладного. А она пришла домой и застрелилась.
Больше всего Нину удивило, что девяностолетняя умела стрелять из ружья.
– У нас здесь все умеют, – махнула рукой женщина. – И ты научишься. Главное, чтобы ружье это под горячую руку не попадало. А то у нас тут вернулся недавно один из заключения, пристроился в нашем поселке. А в доме напротив – парень вернулся из армии. И, как положено, купили по случаю водки, позвали гостей. Зэк тот к ним, говорит: «Я по людям соскучился. Можно с вами посижу? Я заплачУ». А они наотрез отказали, говорят: «Своих нам хватает». Он и решил им отомстить. Залёг с двустволкой в снегу за заборчиком и стал ждать, когда начнут выходить. Так всю семью, одного за другим, и перестрелял. Только сам солдат этот, почуяв неладное, выскочил в окно, бил злодея так, что глаз выбил – насилу милиция оттащила. Суд был в клубе, весь посёлок сбежался, и зэка приговорили к расстрелу. Через неделю в красноярской газете появилась заметка «Приговор приведен в исполнение». Вот такие дела здесь творятся…
– Да уж… Невесело здесь у вас, – вздохнула Нина.
Сибирячка заметила, что новая знакомая поглядывает вокруг с любопытством и опаской и поспешила загладить впечатление:
– Да вы не бойтесь, люди у нас здесь хорошие, хоть иногда и суровые. Меня, кстати, Нюра зовут. А вы, наверное, наша новая соседка…
… Парнишка оказался совсем молоденький – лет двадцать от силы. В доме с ним осталась только совсем согбенная старушка во всём чёрном. Женщина была одна из немногих в округе, кто не боялся покойников.
Приходу Нины тем не менее обрадовалась.
– Недаром внучка моя на днях в лесу встретила чёрную собаку, – покачала старуха головой. – Почти за самой речкой. Обычно так близко она не подходит. Остановилась, и выла на луну…
– Что за собака? – мертвых Нина не боялась, но от ещё одного упоминания о зловещей собаке невольно содрогнулась.
– Барин здесь жил очень злой. Моя бабка плакальщицей у него служила.
– Плакальщицей?
– Да. Оплакивала всех, кто умирал в округе, а ей за это кто – молочка, кто – яичек, а кто и денежек немножко…
– Всех? – удивилась Нина. – И у кого родня есть, тоже?
– И у кого родня, милая, – внучка плакальщицы посмотрела на Нину с сожалением, как умудренная опытом на несведущую. – Оплакивать не значит слезы лить. От них умершему что пользы? Одна вода. А я воды вообще боюсь, и потому внучку предупредила: «Не вздумай по мне долго плакать, чтоб не терпеть мне страха на том свете».
Старуха вздохнула и зевнула:
– Ты посиди с ним чуток, а я полежу немного в соседней комнате.
Мать паренька приехала за полночь.
– Что ж я, дура, в город тебя не отпустила, – запричитала с порога. – Глядишь, и был бы жив, сыночек мой ненаглядный. Проклятое, проклятое место!
Жить в посёлке, где бродит дух какого-то злобного барина, представлялось Нине малоприятной перспективой, хотя к суевериям она относилась не иначе, как к выдумкам старушек.
В Чёрную собаку одни верили, другие – нет, а вот медведей боялись все. Собака ни на кого не нападала, а то, что после встречи с ней в поселке случалась беда, могло быть и совпадением. А медведь, хозяин тайги, верная угроза. И не усомнится никто в существовании косолапого, и к встрече с ним готов разве что какой-нибудь отчаянный охотник, да и тот пойдет на медведя не один, а с друзьями…
21
… В хате лениво курила, развалившись на разобранной кровати, женщина лет сорока.
По-видимому, с утра она ещё даже не причесалась, хотя солнце уже взобралось на косматые вечнозелёные вершины.
По всей комнате были небрежно забыты не на своём месте вещи.
Халат на хозяйке в мелкий цветочек местами протёрся и уже явно нуждался в штопке.
Заспанными глазами она лениво обвела комнату, словно пыталась угадать, какое впечатление на приезжую произвело её жилище.
В комнате было накурено и грязно.
На полу у составленный в ряд закопчённых чугунов копошилась девочка лет восьми с двумя длинными чёрными косами.
– Вот так вот и живём, – с философским видом изрекла женщина небрежно, даже презрительно добавила. – Не жалуемся.
У стены загремели чугуны. Что-то уронила девочка лет шести.
– Вика! – прикрикнула на девочку мать. – Иди на улицу погуляй.
Дочь была смуглая и черноглазая – в отца-азербайджанца, бодрого не по годам. Не смотря на возрастное превосходство над женой, разница в двадцать лет, не спасала его от её скалки.
День в доме начинался всегда одинаково.
Утром раньше всех вставал Самагадан. Громко зевая, хозяин плёлся растапливать печь. По мере того, как хата наполнялась теплом, треском сухих дров и березово-еловым ароматом, Самагадан становился всё бодрее и деловитее.
С выражением сосредоточенности на лице хозяин брался за подойник и шел к пятнистой Зорьке. Возвращался с тёплым молоком, пахнущим травами, и узелком яиц.
Самагадан разливал молоко по банкам и разбивал на большой сковороде двенадцать яиц.
Глазки-желтки загустевали с шипением, и изба наполнялась аппетитным запахом яичницы.
К тому времени, как Самагадан заканчивал все утренние дела по хозяйству, Марья ещё посапывала во сне, разметав по подушке волосы.
Самагадан ставил сковородку на стол, на насколько секунд застывал в нерешительности над женой и, наконец, принимался осторожно её будить.
– Марусю, вставай, – тихо звал он, но Маруся только иногда лениво поворачивалась во сне на другой бок.
– Марусю, вставай, – повторял Самагадан уже более настойчивым и решительным тоном. – Я корову подоил, яичек пожарил. Иди, кушать будем.
Жена снова не удостаивала его ответом.
Брови азербайджанца нависали над его черными и горячими, как южная ночь, глазами и, неизменно теряя по утрам свое обычное в течение всего остального дня терпение, он наклонялся к самому уху Маруси.
– Вставай, Барахло! Век не спал что ли? – выходил из себя Самагадан.
Услышав «барахло», Маруся подскакивала на постели, и её ладонь несколько раз методично и звонко опускалась на гладкую лысину мужа.
Самагадан терпеливо сносил эту ежедневную экзекуцию и принимался за яичницу, а Маруся нервно закуривала на постели.
Муж тем временем расправлялся с яичницей, не забывая, впрочем, оставить одно-два яйца второй половине и шёл на работу.
А Маруся, позавтракав, не весть откуда извлекала очередную заначенную бутылочку, но пить в одиночестве, разумеется, гиблое дело. Поэтому женщина брала дочь и шла пьянствовать к жене лесника.
Возвращалась обычно запоздно, и сразу забиралась на печку, отделявшую одну комнату от другой, в которую определили новосёлов.
На лавочке у печки спали теперь дети, а Юра с женой – на полу.
Так и жили, пока как-то днём Нина снова не разговорилась с соседкой Нюрой.
В чём-то их судьбы были похожи. Детство новой знакомой прошло в детдоме, а потом встретился хороший человек Юра Голичанин, родилось двое детишек. Оба взрослые уже, учатся в Красноярске.
Так что большой дом опустел на время – только сами супруги и брат Юры Виктор в нём живут.
– Что вы там теснитесь? Переходите лучше к нам, – предложила Нюра и привела главный довод. – У нас баня.
Баня у Юры с Нюрой и впрямь была знатная, дым вываливался наружу не по-чёрному, через дверь, а по-белому – через трубу. Голичанин срубил её своими руками. Всё как положено – и предбанник, и парная – соседям на зависть и на радость. Как воскресенье – все к нему: пусти, мол, Юра, попариться.
Пускал, конечно: ни от него, ни от бани не убудет, и воды в большой железной бочке на всех хватит.
… В тот же день и переехали к Голичанину. Нюра напекла детям воздушных маленьких блинчиков, только сметаны в доме, как всегда, не осталось.
– Да. Отдал собаке, – не стал отпираться Голичанин.
– Не два ж литра выливать ей, надо и о людях подумать… – проворчала Нюра.
Впрочем, ссоры в доме были редким явлением.
Жить у Голичанина было и уютнее, и веселее, а от этого и посёлок казался Нине уже совсем не таким, как при первой встрече, а приветливым и светлым.
22
Внучку плакальщицы звали Варвара Матвеевна, и она, явно, была из тех особенных старушек, кто знает всё обо всех и даже больше – нечто подспудное, что человек может даже сам в себе не замечать, а на челе его отчетливо написано: во столько-то лет и от того-то умрет, вот столько-то у него будет детей и столько-то внуков.
– Так и знала, что придешь сегодня, милая, – пропела-прошамкала старушка. – Лепешек с утра напекла.
– Откуда знала, бабушка? – удивилась Нина. – Я ведь и сама с утра не собиралась…
– А я ведь специально тебе не дорассказала тебе о Чёрной собаке, – прозвенел смех ржавеющим колокольчиком. Знала, что любопытство приведет тебя ко мне.
– Может, тогда, и как зовут меня, знаете? – усмехнулась Нина.
– Не знаю, врать не стану, – чуть-чуть обиделась старушка. – Зачем мне знать, когда сама расскажешь? Меня, скрывать не стану, Варвара Матвеевна зовут.
– А я Нина.
– Так вот, Ниночка, собиралась ты ко мне или не собиралась… Это только кажется, что сами мы решаем, чему случиться с нами… Судьбу, её ведь и на коне не объедешь. Что написано тебе на роду – сбудется непременно. Одна только внучка моя обманула судьбу…
– Как это «обманула судьбу»? – уже понемногу перестала удивляться странным речам Варвары Матвеевны Нина.
– А вот так, – в голосе старушки звенела гордость за внучку. – Учёная она у меня, да ни на кого-нибудь училась, а на саму хозяйку тайги.
– На хозяйку тайги? – Нина снова невольно округлила глаза, что польстило рассказчице.
Она таинственно улыбнулась выцветшей и обеззлобленной временем улыбкой и продолжала говорить.
– Хозяин леса кто у нас?
– Медведь. Кто ж еще! – угадала Нина.
– Он, злодей косолапый. Красив, силен, но опасен – не приведи Господь один на один повстречаться с мишкой в лесу! И дочь, и зять от лап его погибли, осиротил ненаглядную мою совсем еще крошкой. Так ведь и ей на роду было написано принять смерть от медведя в том же возрасте, что матери её. Двадцать три было Настеньке, а стрекозе моей двадцать пять скоро стукнет.
– Как же она судьбу обманула?
Нина забыла даже о таинственной чёрной собаке.
– А-а, – хитро улыбнулась старушка, радуясь, что рассказ её заинтересовал приезжую. – Я ж говорю, что училась она у меня не на кого-нибудь, а на хозяйку тайги, есть в Красноярске такая особая школа для девочек. Но ни распутных, ни замужних туда не берут. Миша он ведь сразу чувствует, когда перед ним девочка. Его звериное чутьё не обманешь. Если не целочка – разорвет и церемониться не станет. Косолапому подавай только чистых, незамужних. Такую как заметит в лесу – так лезет обниматься, собака, – старушка хихикнула и продолжала. – А смех, между прочим, плохой. У медведя ласки такие, что невзначай и зашибить может, и когтищами своими до кости разорвать.
Каким таежным премудростям обучают в Красноярске медвежьих невест, старушка рассказать не успела, потому что заметила вдали своими дальнозоркими единственную-ненаглядную гордость и отраду.
– Так можно ведь было и просто куда-нибудь уехать, куда-то, где нет медведей…
– Как это просто уехать? – удивилась в свою очередь старушка. – Разве же отпустит тайга того, кому суждено погибнуть от медведя?
– А вот и моя стрекоза! – при виде внучки лицо старушки просветлело, помолодело даже.
Стрекозу звали Светланой.
Представилась она равнодушно, даже хмуро, пожалуй. Буркнула в сторону «Света». Дикарка, а на вид городская. Кудряшки, сразу видно, не завивка, а свои, подстрижены до плеч, ветер ими играет, пытается распрямить, а они обратно свиваются темными змейками. Глаза тоже тёмные, с зеленью, лесные, разрез, как у рыси. Нос и губы – точёные. Природа-резчик постаралась. На свет появилась красавица. Стройная, правда, чуть-чуть худовата. Ноги сильные, длинные. Юбка белая, выше загорелых колен ладошки на две, тоже ветру на радость. Никто в поселке таких коротких не носит, но Свете можно всё, никому и в голову не придёт осудить имеющую власть над Хозяином Леса.
– Пойдёмте, что ли, в дом чай пить, – пригласила старушка. – Чай у меня вкусный, из таёжных трав.
В доме Варвары Матвеевны и Светы всё говорило о том, что здесь давно ни к чему не прикасалась мужская рука.
У стены аккуратно составлены баночки с вареньями, на столе, покрытом вышитой скатертью (такая же вышивка – с цветочными узорами – на занавесках), в гранёном стакане – букет засушенных с осени разноцветных листьев. Зеркало, большое, в позолоченной раме, не прибито к стене, как положено, а нижним краем уходит за тяжёлый сундук, чтоб невзначай не свалил рыжий котище, развалившийся посреди хаты на медвежьей шкуре – пожалуй, единственного свидетельства, что когда-то в доме был охотник.
Старушка словно прочитала мысли Нины и поспешила её огорошить:
– Медведя внучка убила.
– Как убила? Из ружья? – изумилась Нина, глядя на хрупкую Светлану.
– Из какого тебе ружья? Ружьём можно шкуру испортить, – продолжала говорить загадками старушка, разжигать любопытство.
А Светлана юркнула за вышитую занавесочку и взяла с подоконника кинжал.
– Вот, – показала она гостье. – Его и всаживают медведю в живот. – Она сделала в воздухе резкое движение рукой, сжимающей оружие. – Только надо подпустить его поближе…
– А как же добраться до живота, если он на четырех лапах? – удивилась Нина.
– К невинным девушкам он всегда подходит на задних лапах, – пояснила Варвара Матвеевна. – В это время, когда он приближается, и надо воткнуть кинжал.
– А как же медведь узнаёт, невинна девушка или нет? – продолжала удивляться Нина.
– Никто не знает, – продолжала играть кинжалом Светлана. – Может быть, запах у нас какой-то особенный, который медведю нравится. Или не любит запах мужчины… У нас недавно одна медвежья невеста влюбилась, потеряла и голову и целомудрие. И пошла на медведя – думала, сойдёт с рук. Задрал её косолапый…
– Раньше девушки честь свою блюли, – вздохнула Варвара Матвеевна. – Позором до свадьбы подпустить к себе было, и грех большой. Это сейчас бесстыдство развели. Вон Клавка-марийка в тринадцать лет родила…
– Бабушка! – обняла старушку внучка. – Что нам других судить-рядить? У них своя жизнь, у нас – своя.
– И двух дочерей беременных козявками выдала, – не унималась старушка. – Одна Зойка, младшая всё дома сидит, да песни поёт.
– Слышала уже, что косолапый опять натворил? – вскинула брови Светлана.
– Нет, это ж ты, как сорока на хвосте, мне все новости приносишь.
Светлана покачала головой:
– Чувашки с медведем в лесу повстречались… – девушка как-то странно улыбнулась, и уголках её глаз читалось и сожаление, и даже какая-то мстительность.
– Никого хоть не задрал? Все живы остались? – забеспокоилась старушка.
– Живы-то живы, да встречу с медведем запомнят надолго. Обычная, в общем-то история. Пошли втроём собирать смолу. Одна захотела в туалет, села чуть поодаль за кусты. Вдруг слышит: «Медведь!» Она, конечно, смеётся, не верит. Подруги опять: «Медведь!» И с визгом побежали. Видит, и правда, идёт он, огромный. Она к бочкам, в которых смола. Медведь, конечно, за ней. Она бочку на него покатила, а ему, Мише, только этого и надо – мёдом не корми – дай поиграть. Он ей обратно эту бочку, она ему назад. Так и играли, не знаю уж, сколько, пока не послышался грохот телеги. Приехал наш Михалыч на лошади забирать полные бочки и новые пустые под смолу привёз. У Михалыча, конечно, как всегда, с собой ружьё. Увидев, что творится, пальнул пару раз в воздух. Мишка в лес и удрал. А чувашку Михалыч довёз на телеге до посёлка. Она как приехала – так сразу в контору. Рассчиталась. И уехала обратно в Чувашию.
– Ох, прекращала бы ты, Свет, со своими медведями! Вся душа за тебя изболелась, – старушка даже взялась за сердце, там, где, по её ощущениям, и должна находиться душа.
– Опять, бабуля, начинаешь! – громко вздохнула Светлана. – Хоть не рассказывай тебе ничего!
Светлана наскоро попила чаю с воздушными лепешками и малиновым вареньем и опять засобиралась:
– Надо силки проверить.
– Куда ты в лес в такой юбчонке? Мошка ж заест! – попыталась образумить бабушка внучку.
– Не заест, – хмыкнула она в ответ. – Если медведи не трогают, то и мошка не посмеет!
Светлана запустила в дом весенний ветер и поспешила в свою лесную стихию.
– Красавица девка, а в голове только лес да как мне, старой, помочь. Не дождаться мне, видно, правнуков… – покачала вслед внучке головой Варвара Матвеевна.
– Рано говорить «не дождаться», – возразила Нина. – Я вот судьбу свою встретила, двадцать шесть уже было, а в тридцать один Людочку родила.
– Медведи – ее судьба, – подняла и опустила руку Варвара Матвеевна. – Не даром медвежьей невестой зовут. Сватался недавно один. Николай. Парень красавец, моряк, по Усолке на катере плавает. Что, спрашивается, надо ещё? Так нет же! Упёрлась, ни в какую. «Нельзя, говорит, мне за него. Только слёзы он мне принесёт». Вот и поди разбери эту девку!
– Ничего, обманула судьбу один раз – обманет и второй. – Нине хотелось утешить старушку, но той что-то не понравилось в словах гостьи. Еще минуту назад готовая болтать весь день напролёт, она вдруг буркнула:
– Устала я. Пойду полежу.
И полезла на печь, оставив Нину одну за столом, так что ей ничего не оставалось, как в недоумении покинуть странный дом, сожалея по дороге, что так и не успела расспросить о Чёрной собаке.
Любопытство со временем вытеснило насущные заботы, так что Нине было уже не до призрака барина…
23
На рассвете Юра осторожно потряс жену за плечо.
– Вставай, пойдем смолу собирать.
– На работу? – потирала Нина спросонья глаза.
– На работу, – подтвердил муж. – Понедельник сегодня. К вечеру будем на месте. Завтра с утра примемся за работу. А в субботу двинемся в обратный путь, помоемся, наберём продуктов и снова в лес.
Юра уже успел посвятить Нину во все тонкости ремесла. Живицу собирали летом, а в холода и сейчас, когда природа вышла из зимней спячки, – время снимать с деревьев кору на участке: на стволе делалась большая зарубка – полметра в длину и сантиметров двадцать в ширину.
Как и люди, деревья бывают толстокожими, причём, не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле этого слова. На старых деревьях может быть два, а иногда и три слоя коры – все их надо аккуратно снять, не повредив при этом оболочки под ними.
Под ней то и гуляет весной, как кровь влюблённых, смола. Остаётся лишь сделать небольшие надрезы в форме усов и вставить в них воронки, а под них прикрепить чашки, в которые стекает драгоценный вязкий янтарь.
Нина хотела было наскоро приготовить завтрак. Но Юра возразил.
– Не надо: там сразу и позавтракаем, и пообедаем.
Наскоро поели хлеба с молоком – подкрепиться всё-таки надо. Юра прихватил со стола буханку хлеба. Путь предстоял неблизкий…
Юра выбрал себе самый отдалённый участок, в тридцати километрах от посёлка. Смола здесь текла лучше, но немногие смельчаки отваживались забираться в такую глушь. Стёжка, разделявшая участок надвое, тянулась три километра, уводя в сокровенные лесные дали и обрывалась в овраге, на просторной поляне, надежно, как тайна, спрятанной в самом сердце тайги.
Раньше крестьяне ездили сюда верхом на лошадях. Теперь – пешком, а зимой – на широких самодельных лыжах.
Издавна это место, где будто из самого воздуха, пропитанного запахом смолы и трав, рождались поверья и легенды, называлось Сенокосом.
С двух сторон поляну стерегли поросшие травой хребты, похожие на две гигантские берлоги.
Светлый ручей с песчинками, чистыми, как бесчисленные мелкие жемчужинки, делил поляну пополам. На берегу веселого маленького притока суровой реки, круглый день рассказывающего сказки деревьям на своем беспечном журчащем языке, возвышалась избушка. Прочная, с вечным фундаментом из дуба, она простояла уже века два.
От одной стены избы к другой тянулись дубовые нары. Больше в ней не было ничего, кроме маленького столика и буржуйки.
Был у Юры и участок поблизости, как он говорил «про запас» и заглядывал сюда не часто. Ни смолы, ни опасности, ни впечатлений – пустая трата времени, короче…
– Отчаянный ты человек, Юрка, – удивлялся Юра Голичанин. – Знаешь какая слава о той избушке идет?
Юра Голичанин избушку эту никогда не видел сам, его участок находился недалеко от поселка, но много слышал о ней.
Вечером он подолгу курил старую трубку и рассказывал постояльцам то, что слышал от отца и деда.
Мимо плыли над тайгой облака, и проносились от истока к устью холодные воды Усолки.
– Раньше в Нижнем жил барин, – медленно выпускал дымок Юра Голичанин. – Летом он посылал своих людей на Сенокос косить сено. Там они и оставались на ночлег. Пока не скосят траву, не высушат сено, да не сложат в стога – не возвращались.
А зимой они забирали его на санях. На телеге через ручей не проехать. Вот и приходилось ждать, когда стукнут морозы и ляжет снег. Как-то вечером работники сели за стол, разломили хлеб. И один из них уронил крошку на пол, – вкрадчиво продолжал сибиряк, провожая взглядом облака. – И вот легли они спать…
Рассказчик понизил голос, обещая неожиданную развязку.
– Вдруг ночью раздался голос. «Подними крошку», – Голичанин понизил голос, пытаясь передать интонации и тембр невидимого ночного гостя. – Работники испугались. Но каждый решил, что это ему почудилось, и никто не шелохнулся. Тогда в темноте снова раздался голос «Подними крошку», – повторил Голичанин с теми же интонациями. – Мужики зажгли лучину, отыскали на полу крошку, и бежать.
Юра слушал своего тёзку и усмехался одними глазами. Голичанин рассказывал с такой верой в истории, которые передавали в Нижнем из поколения в поколение, что Юре не хотелось обижать его своим недоверием.
– Это мне дед мой рассказывал, – заметил Голичанин усмешку, скрытую в морщинах возле глаз у приезжего.
В этом Юра как раз-таки не сомневался.
Но мало ли… Может, кто-то из этих же мужиков и решил подшутить над остальными. А иначе… откуда взяться человеческому голосу в такой непролазной глуши?
Но вслух Юра только небрежно заметил:
– Медведи в тайге страшнее голосов.
Юра Голичанин снова неспеша выпустил к облакам струйку дыма и неторопливо продолжал.
– Любят и мишки заглядывать на Сенокос. Это всем давно известно.
Историй в запасе у Юры Голичанина было, как у правнучки купчихи серёг и бус в сундуке, доставшемся от прабабушки.
Хватит на много-много долгих вечеров.
Когда речь зашла о медведях, Нина невольно крепче прижалась к сильному плечу мужа. Косолапые хозяева тайги, которых Голичанин так ласково величает мишками, пугали её гораздо больше, чем голоса в той самой избушке, где им предстояло провести ни один вечер.
Голичанин же с детства знал повадки медведей и умело избегал встречи с ними в лесу.
Но не всем так везло…
– Был у нас в Нижнем один старик, – вздохнул и посмотрел на небо Голичанин. – Накосил он как-то два стога на той поляне. Так бы он и забыл о них до самой зимы, да только пошёл дождь. И дёрнул же его, старика этого, уж не помню, как его звали, нечистый, – наморщил лоб сибиряк, – пойти посмотреть, не горят ли стога.
– А почему они должны были загореться после дождя? – не поняла Нина.
– Это так у нас говорят, – снисходительно улыбнулся сибиряк неосведомленности приезжей. – Когда сено ещё не высохло, стог может загнить изнутри, и тогда кажется, будто из него идёт дым. Тогда нужно снова раскидать стог по земле и ждать, когда сено высохнет.
На несколько секунд Юра Голичанин замолчал, вспоминая, на чем он остановился, и продолжил с интонациями, с какими бабушка обычно рассказывает внукам сказки.
– Сено не дымилось, но возле стога спал огромный медведь. Мужик попятился назад. А мишка, как назло, проснулся – и к нему. А там, посередине поляны, (видели?), старые сосны растут – три из одного корня. Мужик тот – за них, а мишка – за ним. Да обогнуть сосну не догадается, а отходит назад, увидит, где дед прячется, разбежится. А мужик-то хоть стар, да скор и ловок – отбежит, и уже с другой стороны из-за Трёх Сосен выглядывает. Медведь раз разогнался, другой, третий… Выдохся миша – мужик проворнее оказался. Но и медведь не промах. Отошел чуть поодаль и вернулся с валёжиной. Положил ее у Трёх Сосен, чтоб хоть с одной стороны мужику путь преградить, и снова разбежался. Но добыча его все равно ускользает. Перепрыгнул мужик через валёжину и снова обвёл его вокруг пальца.
Заревел медведь и пошёл за второй валёжиной, а мужик тем временем первую подальше оттащил. Но и медведю упрямства не занимать. Принес из леса третью валёжину, в второй уже, конечно, нет у Трёх Сосен. Мужик тоже времени даром не терял. Так полдня они валёжины таскали. Но, к счастью, спохватились в поселке – поехали искать мужика.
Уже и вечереть стало. Медведь услышал выстрелы – и в лес. Долго потом мужик мишины забавы вспоминал, – Юра Голичанин многозначительно замолчал. Слушайте, дескать, да мотайте на ус..
О медведях Юра Голичанин мог рассказывать бесконечно.
На следующий день, когда из трубки сибиряка едкий дымок поднимался к закатному весеннему небу, сосед снова подсел к нему на валёжину, затянулся папиросой.
Юра Голичанин не признавал никакой табачной продукции – по старинке курил махорку в трубке. И с этим неизменным по вечерам атрибутом во рту и спокойным и невозмутимым выражением лица походил на древнего философа, когда восседал на своей валёжине.
Управившись по хозяйству, приходили и Нина с Нюрой послушать мужские разговоры.
Нину беспокоило, что муж уже не раз мимоходом говорил о своем намерении пойти на медведя. Отговорить его от этой опасной затеи она не пыталась. (Пустое дело! Уж если что решил, то отговаривай – не отговаривай, а будет по его). Но Нина жадно ловила каждое слово, когда речь шла об охоте на медведей.
Впрочем, пока можно было не слишком беспокоиться.
Из рассказов соседа-сибиряка Нина узнала, что охота на медведей начинается, когда ляжет снег. А до зимы ещё далеко-далеко.
– Одному на медведя нельзя – задерёт, – вынимал трубку изо рта Голичанин. – Был у нас случай один…Встретился в тайге охотник с медведем…
Даже Нюра торопливо вытирала руки о передник и садилась рядом послушать, наверняка, давно известную уже ей историю, и большие синие глаза жены Юры Голичанина становились еще больше от непритворного удивления.
– Правда, пошел он не на медведя – на птицу, – бывалому охотнику, явно, доставляло удовольствие то внимание, с каким ловили его слова новосёлы и супруга. – Но никогда не знаешь, когда встретишь в тайге косолапого хозяина. Так было и в тот раз. Медведь поломал охотника всего, но тот успел выстрелить зверю в живот. Когда нашли то место в тайге наши мужики из Нижнего, то увидели кучу кишок рядом с дохлым медведем. (Так он боль из себя выдрать хотел). А поблизости лежал мёртвый охотник.
Юра Голичанин посмотрел на своего тёзку и перевёл взгляд на Нину, ожидая вопроса. Но соседи слушали молча.
– Медведь, – продолжал бывалый охотник, – если ранить его из ружья в живот, очень быстро наскакивает на охотника и снимает с него когтями скальпель и давай ломать несчастного – так обнимет, что косточки хряпнут. Хоть и говорят, «мишка косолапый», да мишка косолапый очень шустрый зверь. Потому-то и ходят на медведя не меньше, чем по трое, да и то с собаками, с лайками. В Сибири без лайки никак нельзя.
– Я и сам уж об это подумал, – согласился Юра.
Вскоре в его дворе появился желтобокий дворняга. Увязался, бездомный, за Юрой в посёлке, да так и обрел хозяина. Назвали пса Лютиком, потому что рыжий, почти золотой, и даже без пятнышек.
Но лайка нужна была всё равно.
… Тайга по-прежнему казалась Нине чужой и таинственной, но работа в ней спорилась, точно духи леса помогали.
Смолу Нина выковыривала из чашек в ведро, которое выносила затем на лесную дорожку, где переливала в деревянные бочки с деревянными же пробками.
В день собирала по целой бочке, за которую платили как за месяц работы на заводе – 140 рублей, да и выходных – три дня в неделю. И всё-таки многие не выдерживали, возвращались в родные места.
24
В редкие минуты отдыха Юра заносил свои впечатления в тонкую ученическую зелёную тетрадку с тем, чтобы когда-нибудь отправить это богатство в газету. Но как-то всё время было недосуг, но листы нетерпеливо продолжали ждать своего часа, как актёр за кулисами – выхода на сцену. Иногда, правда, он читал их знакомым, и они узнавали себя и соседей и смеялись «Надо же, как ладно и правдиво!». Но некоторые, конечно, обижались. Но времена, когда за эпиграмму бросали перчатку в лицо, давно прошли, да и не стал бы Белов дожидаться дуэли – отмутузил бы недовольного – и дело с концом…
Из записок Юрия Белова «СИБИРЯКИ»:
Козёл
Было бы даже, наверное, немного странно, если бы Козла не прозвали Козлом за длинную редкую бороду, бугристую лысину и несговорчивый (вот уж точно козлиный!) характер. Сам Козел его, конечно, таковым не считал. Считал принципиальным.
Как бы то ни было, действовал он строго по закону, а охота на лосей им же, законом, была запрещена.
Козел был лесником. В тайге он родился и вырос и любил её самозабвенно. «Тайга-матушка» было для него никакой не метафорой. Тайга, действительно, для истинного сибиряка мать, а потому и уважение к ней – из разряда априори, как не надо доказывать, за что любят и уважают человека, давшего жизнь…
…Кто выдал Козлу охотников, снарядившихся в лес на лося, так и осталось загадкой. Факт тот, что лесник узнал и обратился в милицию.
Виновников поймали с поличным, убитого лося определили в столовую, а горе-охотникам пришлось заплатить по пятьсот рублей штрафа с носа.
Казалось бы, восторжествовала справедливость. Ан нет… Через несколько дней Козел исчез самым таинственным образом. Родных у Козла не было. Спохватилось начальство: нет на месте лесника, но кого не расспрашивали, никто нигде его не видел.