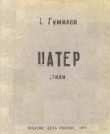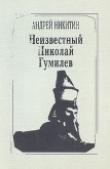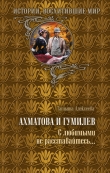Текст книги "Николай Гумилев"
Автор книги: Вера Лукницкая
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
И чуть позднее на этой самой Волге Лариса Рейснер стала комиссаром разведотряда при штабе армии (широко известно, что она была прообразом Комиссара в "Оптимистической трагедии" Вс. Вишневского).
В начале ноября 1916г. Гумилев пишет из действующей армии: "...больше двух недель, как я уехал, а от Вас ни одного письма. Не ленитесь и не забывайте меня так скоро, я этого не заслужил. Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру Ваше имя, снитесь Вы мне почти каждую ночь. И скоро я начинаю писать новую пьесу, причем, если Вы не узнаете в героине себя, я навек брошу литературную деятельность".
Приходит ответ от Л. Рейснер: "Мне трудно Вас забывать. Закопаешь все по порядку, так что станет ровное место, и вдруг какой-нибудь пустяк, ну, мои старые духи или что-нибудь Ваше – и вдруг начинается все сначала и в историческом порядке..."
Ларису Рейснер нетрудно понять. Гумилев не принадлежал к числу легко забывающихся людей Знаменитый поэт. Храбрый солдат. Несмотря на молодость глава модной поэтической школы. Кроме всего прочего, Гумилев обещал для "Летописи" пьесу. "...Заказанная Вами мне пьеса (о Кортесе и Мексике) с каждым часом вырисовывается передо мной ясней и ясней. Сквозь "магический кристалл" (помните, у Пушкина) я вижу до мучительности яркие картины, слышу запахи, голоса. Иногда я даже вскакиваю, как собака, увидевшая взволновавший ее сон. Она была бы чудесна, моя пьеса, если бы я был более искусным техником..."
Красный идол на белом камне
Мне поведал разгадку чар,
Красный идол на белом камне
Громко крикнул – Мадагаскар!
"...Я знаю, что на Мадагаскаре все изменится. И я уже чувствую, как в какой-нибудь теплый вечер, вечер гудящих жуков и загорающихся звезд, где-нибудь у источников в чаще красных гвоздик и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я только смутно догадывался в мои лучшие минуты...", – пишет ей Гумилев.
Лариса Рейснер тоже была непоседой: "Ах, привезите с собой в следующий раз поэму, сонет, что хотите, о янычарах, о семиголовом цербере, о чем угодно, милый друг, но пусть опять ложь и фантазия украсятся всеми оттенками павлиньего пера и станут моим Мадагаскаром, экватором, эвкалиптовыми и бамбуковыми чащами", – читаем мы в ответе Рейснер, написанном в тон Гумилеву.
Между тем письма в обеих сторон становятся все нежней... "Лери" и "Гафиз" – так они обращались друг к другу.
"На все, что я знаю и люблю, я хочу посмотреть, как сквозь цветное стекло, через Вашу душу, потому что она действительно имеет свой особый цвет. Я помню все Ваши слова, все интонации, все движения, но мне мало, мало, мне хочется еще. Я не очень верю в переселенье душ, но мне кажется, что в прежних своих переживаниях Вы всегда были похищаемой Еленой Спартанской, Анжеликой из Неистового Роланда и т. д. Так мне хочется Вас увезти. Я написал Вам сумасшедшее письмо, это оттого, что я Вас люблю. Ваш Гафиз".
"Застанет ли Вас мое письмо, мой Гафиз?.. Не сегодня, завтра начнется февраль. По Неве разгуливает теплый ветер с моря – значит, кончен год (я всегда год считаю от зимы до зимы) – мой первый год, не похожий на все прежние: какой он большой, глупый, длинный – как-то слишком сильно и сразу выросший. Я даже вижу на носу массу веснушек и невообразимо длинные руки. Милый Гафиз, как хорошо жить".
Предчувствие не обмануло Рейснер. Пройдет совсем немного времени, и будет "год, не похожий на все прежние". Грянет Февральская революция. Порядок, господствовавший сотни лет, рухнет с фантастической быстротой, самодержец всея Руси будет свергнут, и весь уклад жизни мгновенно изменится.
Опередим чуть-чуть время и скажем, что в апреле 1917г. состоялась их последняя встреча. О чем говорили они на этот раз – кто знает! Скорее всего, не о Мексике и не о Мадагаскаре... Больше Гумилев писем не писал, послал две открытки с канцонами. Гафиз превратился сначала в "Н. Г.", "Н. Гумилева" и, наконец, в "преданного Вам Н. Гумилева". В последней коротенькой открытке, посланной из Швеции, по дороге в Лондон, он пишет: "Развлекайтесь, но не занимайтесь политикой".
...Волшебница, я не случайно
К следам ступней твоих приник,
Ведь я тебя увидел тайно
В невыразимый этот миг.
Ты розу белую срывала
И наклонялась к розе той,
А небо над тобой сияло
Твоей залито красотой.
И вот перед нами – последнее письмо Рейснер Гумилеву:
"...В случае моей смерти, все письма вернутся к Вам. И с ними то странное чувство, которое нас связывало и такое похожее на любовь.
И моя нежность – к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам – окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей – стала творчеством. Мне часто казалось, что Вы когда-то должны еще раз со мной встретиться, еще раз говорить, еще раз все взять и оставить. Этого не может быть, не могло быть. Но будьте благословенны Вы, ваши стихи и поступки. Встречайте чудеса, творите их и лучше, чем прежде, потому что действительно есть Бог. Ваша Лери".
ИЗ ДНЕВНИКА ЛУКНИЦКОГО
10.02.1926
В 1916г. АА была в "Привале комедиантов" (единственный раз, когда она была там), было много народу. В передней, уходя, АА увидела Ларису Рейснер и попрощалась с ней; та, чрезвычайно растроганная, со слезами, взволнованная, подошла к АА и стала ей говорить, что она никак не думала, что АА ее заметит и тем более заговорит с ней... (Она имела в виду Николая Степановича и поэтому была поражена.) "А я и не знала".
12.01.1926
АА: "Меня удивило, что Лозинский прошлый раз говорил о Рейснер..." Я: "А вы знаете, какова она на самом деле?" АА: "Нет, я ничего не знаю. Знаю, что она писала стихи, совершенно безвкусные. Но она все-таки была настолько умна, что бросила писать их".
08.04.1926
После разговора с АА о разводе (1918 г. – В. Л.) Николай Степанович и АА поехали к Шилейко, чтобы поговорить втроем. В трамвае Николай Степанович, почувствовавший, что АА совсем уже эмансипировалась, стал говорить "по-товарищески": "У меня есть кто бы с удовольствием пошел за меня замуж. Вот Лариса Рейснер, например... Она с удовольствием бы..." (Он не знал еще, что Лариса Рейснер уже замужем.)
...Ларисе Рейснер назначил свидание на Гороховой в доме свиданий. Л. Р.: "Я так его любила, что пошла бы куда угодно" (рассказывала в августе 1920г).
По всей вероятности, здесь Ахматова ошиблась в месяцах, потому что в другой записи дневника Лукницкого от 10.04.1926 обозначен сентябрь. "1920, сентябрь. У АА была Лариса Рейснер. Много говорили о Гумилеве". А про август 1920-го записано так:
ИЗ ДНЕВНИКА ЛУКНИЦКОГО
17.04.1925
Летом (в августе) 1920-го было критическое положение: Шилейко во Вс. Лит. (изд-во "Всемирная литература". – В. Л. ) ничего не получал. Всем. Лит. совсем перестала кормить. Не было абсолютно ничего. Жалованья за месяц Шилейко хватало на дня (по расчету). В этот момент неожиданно явилась Н. Павлова с мешком риса от Л. Рейснер, приехавшей из Баку. В Ш. Д., где жила АА, все в это время были больны дизентерией. И АА весь мешок раздала всем живущим – соседям. Себе. Кажется, раза два всего сварила кашу. Наступило прежнее голодание. Тут приехала Нат. Рыкова и увезла АА на 3 дня в Ц. С. АА вернулась в Шер. Дом. Снова голод. Тут (зав. Рус. музеем) со своего огорода подарил АА несколько корешков, картофелинок молодых – всего, в общем, на один суп. Варить суп было не на чем и нечем – не было ни дров, ни печки, ни машинки (?), и АА пошла в Училище правоведения, где жил знакомый, у которого можно было сварить суп. Сварила, завязала кастрюльку салфеткой и вернулась с ней в Шер. Д. Вернулась – застала у себя Л. Рейснер – откормленную, в шелковых чулках, в пышной шляпе... Л. Рейснер пришла рассказывать о Николае Степановиче... Она была поражена увиденным, и этой кастрюлькой, и видом АА, и видом квартиры, и Шилейко, у которого был ишиас и который был в очень скверном состоянии. Ушла. А ночью, приблизительно в половине двенадцатого, пришла снова с корзиной всяких продуктов... А Шилейко она предложила устроить в больницу, и действительно – за ним приехал автомобиль, санитары, и его поместили в больницу.
...Николай Степанович по примеру Т. Б. Лозинской, служившей в детском доме и туда же поместившей своих детей (Т. Б. Лозинская всегда преподавала и в мирное время), хотел, потому что у него, вероятно, тоже острый момент пришел и не было никаких продуктов, чтобы Анна Ивановна тоже поступила в детский дом и взяла туда Леву. АА это казалось непригодным для Левы, да и для А. И. – старой и не сумевшей бы обращаться с фабричными детьми. АА рассказала об этом Л. Рейснер. Лариса предложила отдать Леву ей. Это, конечно, было так же бессмысленно, как и мысль Николая Степановича, и АА, конечно, отказалась...
О Николае Степановиче (Рейснер. – В. Л.) говорила с яростным ожесточением, непримиримо враждебно46, была – "как раненый зверь". Рассказала все о своих отношениях с ним, о своей любви, о гостинице и о прочем...
9.06.1925
...Правда, потом он предлагал Ларисе Рейснер жениться на ней, и Лариса Рейснер передает АА последовавший за этим предложением разговор так: она стала говорить, что очень любит АА и очень не хочет сделать ей неприятное. И будто бы Николай Степанович на это ответил ей такой фразой: "К сожалению, я уже ничем не могу причинить Анне Андреевне неприятность".
АА говорит, что Лариса Рейснер, это рассказывая, помнила очень всю обиду на Николая Степановича и чувство горечи и любви в ней еще было...
Записка Ахматовой – Ларисе Рейснер:
"Дорогая Лариса Михайловна! Пожалуйста, опустите в Риге это письмо. Оно написано моей племяннице, о которой семья давно не имеет вестей. Отправив это письмо, Вы окажете мне очень большое одолжение. Желаю Вам счастливого пути, возвращайтесь к нам здоровой и радостной. Вольдемар (Шилейко. – В. Л.) Вам кланяется. Ваша Ахматова".
ИЗ ДНЕВНИКА ЛУКНИЦКОГО
25. 04.1928
Получил от Л. Горнунга письма Гумилева к Ларисе Рейснер. Читал письма, вижу, что они неискренни, что Гумилев играет в любовь, письма несерьезны и надуманны.
Письма эти несомненно – вещественное доказательство их романа.
Пьесу "Завоевание Мексики" он собирался писать, но, кажется, он сам не верил, что напишет ее.
1920. Август или сентябрь. Л. Рейснер в разговоре с АА о Гумилеве сказала ей, что считала себя невестой Н. С., что любила его, а он обманул ее. Говорила о Н. С. с ненавистью.
АА: "Почему Лариса Михайловна в 20 году отзывалась о нем с ненавистью? Ведь она его любила крепкой любовью до этого. Не верно ли предположение о том, что эта ненависть ее возникла после того, как она узнала о романе Н. С. с А. Н. Энгельгардт в 1916 году параллельно его роману с ней? А не узнать она, конечно, не могла.
Весьма вероятно, были и другие причины, которых я не знаю, но не эта ли была главной?"
17.04.1925
Потом Лариса Рейснер уехала (в 21-м, кажется, в марте или до марта) и уже никакого общения с АА не было. Было только письмо, после смерти Блока, из Кабула, в 1921 году.
24 ноября Лариса Рейснер послала письмо АА из Кабула. Писала, что узнала из газет о смерти Блока, что хочется написать об этом АА, только с ней говорить. Называет Блока – колонной, упавшей около другой колонны АА... Очень много восхвалений АА. О Гумилеве – нет, но, несомненно, Лариса, не упоминая его, имела его в виду. Посылает посылку. Письмо это АА получила уже в январе 1922 года. Ей принес его Колбасьев.
А в 1916 – 1917гг. АА было безразлично кто – Л. Р., Адамович или еще кто-нибудь, поэтому Л. Р. могла смело рассказывать о себе, зная, что "супружеские чувства" АА не будут задеты.
АА тогда, в 21-м, не знала о Л. Р. ничего, что узнала теперь. Отнеслась к ней очень хорошо. Со стороны Л. Р. АА к себе видела только хорошее отношение. И ничего плохого Л. Р. ей не сделала...
ИЗ ДНЕВНИКА ЛУКНИЦКОГО
9.02.1926., Вторник
На столе моем лежала вырезка из газеты – извещение о смерти Ларисы Рейснер от брюшного тифа. АА поразилась этим известием и очень огорчилась, даже расстроило оно ее. "Вот уж я никак не могла думать, что переживу Ларису!" АА много говорила о Ларисе – очень тепло, очень хорошо, как-то любовно и с большой грустью. "Вот еще одна смерть. Как умирают люди!.. Ей так хотелось жить, веселая, здоровая, красивая... Вы помните, как сравнительно спокойно я приняла весть о смерти Есенина... Потому что он сам хотел умереть и искал смерти. Это – совсем другое дело... А Лариса!.." И АА долго говорила, какой жизнерадостной, полной энергии была Лариса Рейснер. Вспомнила о ней... ""Возьмите меня за руку – мне страшно", – сказала 16-летняя Лариса Рейснер АА на встрече (в Тенишевском?), – рассказывала АА о выступлении (кажется, первом) Ларисы Рейснер... – Бедная – о ней будут нехорошо говорить, нехорошо вспоминать ее за границей за то, что она так быстро перешла на сторону Советской власти".
Гумилев – Ахматовой ( 01.10.1916):
. "Дорогая моя Анечка, больше двух недель от тебя нет писем – забыла меня. Я скромно держу экзамены, со времени последнего письма выдержал еще три; остаются еще только четыре (из 15-ти), но среди них артиллерия – увы! Сейчас готовлю именно ее. Какие-то шансы выдержать у меня все-таки есть.
Лозинский сбрил бороду, вчера я был с ним у Шилейко – пили чай и читали Гомера.
Адамович с Г. Ивановым решили устроить новый Цех, пригласили меня. Первое заседание провалилось, второе едва ли будет. Я ничего не пишу (если не считать двух рецензий для Биржи), после экзаменов буду писать (говорят, мы просидим еще месяца два). Слонимская на зиму остается в Крыму, марионеток не будет 47.
После экзаменов попрошусь в отпуск на неделю и, если пустят, приеду к тебе. Только пустят ли?
Поблагодари Андрея (брата АА. – В. Л.) за письмо. Он пишет, что у вас появилась тенденция меня идеализировать. Что это так вдруг?
Целую тебя, моя Анечка, кланяйся всем. Твой Коля.
Вексель я протестовал, не знаю, что делать дальше.
Адрес А. И. неизвестен.
Курры и гусси!"
В течение 1916 года н а п и с а н о:
16 января. На экземпляре сборника "Колчан", подаренном Г. И. Чулкову, написано четверостишие "У нас пока единый храм...".
В январе – "Ты жаворонок в горней высоте...".
Февраль. В Ц.С. заканчивает пьесу "Дитя Аллаха".
К 30 августа, ко дню праздника 5-го Александрийского полка, стихотворение "В вечерний час, на небосклоне...", посвященное командиру полка.
Н а п е ч а т а н о:
Стихотворения: "Деревья", "Андрей Рублев", "Змей" (Аполлон, No 1); "Всадник ехал по дороге" (приложение к жур. "Нива", No 1); "Рабочий" (Одесский листок, 10 апреля, без заглавия); "Я не прожил, я протомился..." (альм. "Полон", Пг.); "И год второй к концу склоняется..." (Нива, No 9); "Городок" (Солнце России, No 3); "Я ребенком любил большие..." (Нива, No 13).
Драматическая сцена "Игра" (Альманах муз. К-во "Фелана", Пг.).
Рассказ "Африканская охота" – из путевого дневника (приложение к жур. "Нива", No 8).
"Записки кавалериста" (Биржевые ведомости. Утренний выпуск, 8, 11 января).
Переводы стихотворений Мопассана: "Как ненавижу я плаксивого поэта..." из рассказа "Сестры Рондоли", "Благословен тот хлеб..." из рассказа "Проклятый хлеб" (Г. Мопассан. Сестры Рондоли. Рассказы. Перев. С. Ауслендера. Университетская библиотека,.No 942. М., 1916).
"Письмо о русской поэзии":
"Георгий Адамович. Облака. "Гиперборей", Пг."; "Георгий Иванов. Вереск. "Альциона", Пг."; "М. Лозинский. Горный ключ. "Альциона", Пг."; "О. Мандельштам. Камень. "Гиперборей", Пг." (Аполлон, No 1).
О Г у м и л е в е:
Б. Еникальский. Неведомые. Заметка (Журнал журналов, No 8, 9). Упоминания о выходе сб. "Колчан" и влиянии на "Облака" Г. Адамовича.
А. Свентицкий. Рецензия на "Вереск" Г. Иванова (Журнал журналов). Упоминания о влиянии Н. Гумилева.
Рецензии на "Колчан":
А. Полянина (Сев. Записки, No 4); К. Ликсперова (Русские ведомости, 13 апр.); Н. Венгерова (Летопись, No 1); И. Оксенова (Новый журнал для всех, No 2, 3); И. Гурвич. Ласкающие стрелы. Библиограф. заметка (Вестник литературы. Изд. к-ва М. О. Вольф, No 2); Л. Скромного. Изданье распроданное (Журнал журналов, No 23). Фельетон З. Б. (Е. Зноско-Боровского) (Ежемесячное приложение к жур. "Нива", No 7); Б. Эйхенбаума (Русская мысль, No 11); В. Жирмунского. Преодолевшие символизм (Русская мысль, No 12); И. Оксенова. Литературный год (Новый журнал для всех, 1916). Упоминания о Н. Гумилеве.
1917
В скольких земных океанах я плыл...
Война изматывала. Незаметно все человеческие чувства превращались в чувства нечеловеческие; сострадание, сочувствие оказывались бессильными. Люди перестали видеть рядом с собой людей – только врагов, и единственное сильное желание было – убить врага и остаться самому живым.
В победу уже никто не верил, и никто больше не хотел платить жизнью за иллюзию силы, национальной гордости. Слова, раньше значившие так много для русского человека: "Родина, Честь, Отвага" – сейчас утратили смысл, от них остался лишь звон. Война убивала все человеческое в человеке...
Философ Николай Бердяев писал в это время то, о чем думал и тосковал далекий от политики Гумилев:
"Доктринерская, отвлеченная политика всегда бездарна – в ней нет исторического инстинкта и исторической прозорливости, нет чуткости и пластичности. Она подобна человеку, который не может поворачивать шею и способен смотреть лишь по прямой линии в одну точку. Живая реакция на жизнь невозможна.
Отвлеченная и максималистская политика всегда оказывается изнасилованием жизни".
Результатом такой политики и была война.
Еще в конце октября 1916 года Гумилев, не выдержав экзамена по фортификации, возвратился в полк и, с перерывом в несколько дней, – на фронте до конца января.
В конце декабря Гумилев приезжал по поручению командования в Петроград, там получил предписание в длительную командировку. И с конца января до середины марта 1917 года находился в Окуловке, где вместе со своим командиром заготавливал сено для полковых коней. Февральская революция прошла мимо, Гумилев ее "не заметил".
Каждый свой выходной день он стремился в Петербург, благо Окуловка недалеко. "Петербург, – говорил Гумилев, – лучшее место земного шара". Службой был вполне удовлетворен, так как, поняв бессмысленность войны, разочаровавшись в ней еще на фронте, все свободное время старался уединиться: по-прежнему читал философию.
ИЗ ДНЕВНИКА ЛУКНИЦКОГО
4.04.1925
В дни февральской революции АА бродила по городу одна ("убегала из дому"). Видела манифестации, пожар охранки, видела, как князь Кирилл Владимирович водил присягать полк к Думе, не обращая внимания на опасность, ибо была стрельба, – бродила и впитывала в себя впечатления.
...Николай Степанович отнесся к этим событиям в большой степени равнодушно... 26 или 28 февраля он позвонил АА по телефону, сказал: "Здесь цепи, пройти нельзя, а потому сейчас поеду в Окуловку". "Он очень об этом спокойно сказал – безразлично... Все-таки он в политике мало понимал..."
22 декабря 1917 года в журнале "Русская мысль", No 1, была напечатана пьеса "Гондла". Гумилев назвал "Гондлу" драматической поэмой, и этим он все объяснил. Что главное для него? Непримиримость зла и добра, но и невозможность лишить человека единственного его оружия, его защиты – чести, гордости, достоинства. И еще – то, что у человека всегда есть выход и надежда – уйти в мир иной. Но "та жизнь" будет чиста, светла и прекрасна настолько, насколько человек был чист и светел в жизни этой. И такой выход, такой уход – торжество победы над злом и несправедливостью.
Совершилось, я в царской порфире,
Три алмаза в короне горят,
О любви, о прощеньи, о мире
Предо мною враги говорят...
По весне у Гумилева возобновился процесс в легких. Поместили его в городской лазарет на Английской набережной (ныне наб. Красного Флота), 48.
В лазарете написал несколько стихотворений и начал большую повесть "Подделыватели".
Бывал на собраниях у С. Э. Радлова.
ИЗ ДНЕВНИКА ЛУКНИЦКОГО
1925
В. Ш и л е й к о:
"У Радловых. Сережа был универсальный человек. Женился. Жена (Анна Радлова. – В. Л.) начала писать стихи. Надо было создавать обстановку, и всяких литературных людей они звали к себе. У них был определенный день, кажется в субботу. Там читали стихи, затем шли чай пить. Потом разъезжались до домам..."
После лазарета апрель и половину мая Гумилев жил некоторое время у М. Л. Лозинского и недолго – в меблированных комнатах "Ира". Его возмущение разладом, несобранностью, анархией в войсках – вообще военными делами и рутинным мышлением российского командования – росло. Постоянно повторял, что без дисциплины воевать нельзя. Решил хлопотать о переводе на союзный, южный фронт, где, как ему казалось, еще была дисциплина, – на Салоникский. Воспользовался содействием своего знакомого по прошлому петербургскому лазарету М. А. Струве, служившего в штабе, чтобы получить место специального корреспондента в газете "Русская воля", выходящей в Париже, с окладом 800 франков в месяц.
Ахматова рассказывала, что, когда она его провожала, он на вокзале был особенно оживлен, взволнован и, очевидно, доволен тем, что покидает надоевшую ему застойную армейскую обстановку, говорил, что, может быть, попадет в Африку...
20 мая прибыл в Стокгольм, затем в Христианию и Берген, оттуда пароходом – в Лондон.
По рекомендации петербургского знакомого, близкого друга Ахматовой, художника Бориса Васильевича Анрепа Гумилев остановился у английского писателя Бекгофера и в течение двух недель знакомился с Лондоном, встречался с писателями Честертоном, Йейтсом, Гарднером. Дал интервью английскому журналу, получил предложение написать о русской поэзии, запланировал большую антологию русской поэзии для издания в Лондоне. Занимался английским языком.
Борис Анреп, специализировавшийся на мозаике, был единственным знакомым Гумилева в Лондоне. В 1912 году Анреп организовал русский отдел на Второй постимпрессионистской выставке в Лондоне и написал вступление к русскому разделу каталога; он был также автором обзорной статьи по выставке в "Аполлоне". Имея доступ к элитарным художественно-литературным кругам Лондона, Анреп ввел и Гумилева в этот мир. Через него Гумилев познакомился с Роджером Фрайем, известным английским критиком и художником, статьи которого печатал "Аполлон". Анреп возил Гумилева к леди Оттолине Мортел в деревню, где собирались известные писатели О. Хаксли, Д. Х. Лоуренс и другие.
Когда Гумилев прибыл в Париж, оказалось, что в газете он не очень нужен, и его оставили в распоряжении комиссара Временного правительства. Поселился на rue Cambon, 59.
Часто, практически постоянно, встречался с русскими художниками Натальей Гончаровой и Михаилом Ларионовым. Посвятил Гончаровой рассказ "Черный генерал", написал им обоим шуточное стихотворение – "Пантум". В Париже писал трагедию "Отравленная туника", поэму "Два сна" и стихи "Фарфорового павильона", изучал предметы восточного искусства, к которому его всегда влекло. Его интересовало не только искусство Востока, но и философия. Повторял слова Конфуция: "Кто не признает судьбы, тот не может считаться благородным мужем. Благородный муж думает о долге, а мелкий человек – о выгоде. Ученик спросил учителя: "Можно ли одним предложением выразить правило, которому необходимо следовать всю жизнь?" Учитель ответил: "Можно. Чего не желаешь себе, того не делай и другим"".
В Париже Гумилев страстно влюбился. Юная красавица, полурусская-полуфранцуженка, из обедневшей интеллигентной семьи – Елена Карловна Дюбуше. Гумилев называл ее Голубой звездой. Всю зиму он добивался взаимности, пленял своей страстью "без меры", любовью-"безумием", писал ей в альбом любовные объяснения в стихах. Некоторые вошли в посмертный сборник, изданный в 1923 году и названный составителем "К Синей звезде".
Елена оказалась вполне "земной". Поэту она предпочла американского богача и уехала с ним в Америку.
Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?..
Наверное, все же стоит "поблагодарить Колумба": мы имеем возможность читать прекрасную лирику, учиться красоте высокой любви, благородных разлук и расставаний.
Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир, волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.
Он мог стать вашим тоже и не стал,
Его вам было мало или много,
Должно быть, плохо я стихи писал
И вас неправедно просил у Бога.
Но каждый раз вы склонитесь без сил
И скажете: "Я вспоминать не смею,
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею".
Из воспоминаний С. М а к о в с к о г о:
: "...независимо даже от силы его чувства к "Синей звезде" эта неудача была для него не только любовным поражением, она связывалась с его предчувствием близкой и страшной смерти.
Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из другой страны...
и еще:
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще...
...Любовная неудача больно ущемила его самолюбие, но, как поэт, как литератор прежде всего, он не мог не воспользоваться горьким опытом, дабы подстегнуть вдохновение и выразить в гиперболических признаниях не только свое горе, но горе всех, любивших неразделенной любовью".
В течение 1917 года н а п и с а н о:
Стихотворения на открытках, отправленных Л. М. Рейснер в Петроград 6 и 23 февраля:
–"Взгляните: вот гусары смерти..."(шуточное);
–"Канцона" ("Лучшая музыка в мире нема..."), являющееся первым вариантом стихотворения "В скольких земных океанах я плыл..."
Вторая половина марта, апрель -стихотворения:
"Мужик", "Ледоход", "В скольких земных океанах я плыл...; начата повесть из русского быта – "Подделыватели" – (написанные в лазарете);
От 15 мая до начала июня – стихотворения:
"Стокгольм"; "Швеция"; "Норвежские горы"; "Так вот и вся она, природа..." (окончено в Лондоне), "На Северном море"(написанные в дороге);
.С июля 1917 года до половины марта 1918-го, кроме стихотворений сборника "К Синей звезде", – трагедия "Отравленная туника"(Париж); поэма "Два сна"; стихи "Фарфоровый павильон".
Во вторую половину года – пантум "Гончарова и Ларионов"( Париж);
Июль – рассказ "Черный генерал"(Париж), посвященный Н. С. Гончаровой.
Н а п е ч а т а н о:
Стихотворения: "Перед ночью северной, короткой..." (альм. "Творчество", кн. 1, Пг.); "Ледоход", "Оранжево-красное небо..." (сб. "Тринадцать поэтов", Пг.);
Отрывок из поэмы "Мик и Луи" (жур. "Аргус", No 9 – 10).
Пьеса "Дитя Аллаха"– арабская сказка в трех картинах с рисунками П.Кузнецова (Аполлон, No 6-7) . Вскоре вышла отдельным оттиском в "Аполлоне".
"Гондла" – драматическая поэма в четырех действиях (Русская мысль, No 1).
О Г у м и л е в е:
М. Тумповская. "Колчан" Н. Гумилева (Аполлон, No 6 – 7).
Д. Выгодский. Поэзия и поэтика. Обзор (Летопись, No 1). Упоминания о "Колчане".
Л. Рейснер. Рецензия на "Гондлу" (Летопись, No ?).
1918
И совсем не в мире мы, а где-то...
После свершения Октябрьской революции союзники отказались от наступления в Эгейском море. Салоникский фронт был ликвидирован. Гумилев, не разобравшись в происходящих событиях, решил проситься на Персидский фронт. Но в начале января управление русского военного комиссариата в Париже было расформировано. Рапорт о переводе в Персию остался неудовлетворенным. Гумилев попросил командировать его в Англию, чтобы получить назначение от военных властей на Месопотамский фронт.
В Англию Гумилева командировали, но выдали ему аттестат и денежное довольствие только до апреля месяца 1918 года...
Оставив в Париже свои вещи и часть коллекции по искусству Востока, папку с бумагами, книги, Гумилев на пароходе прибыл в Лондон.
На фронт он, естественно, не попал...
Снова встретился с Анрепом, попытался было через него устроиться на временную службу в отдел Русского правительственного комитета, но из этого ничего не вышло. Неуверенность в том, что он будет продолжать участвовать в военных действиях, привела его к решению возвратиться в Россию. Это было нелегко – получить по паспорту Временного правительства разрешение на въезд в Советскую Россию. Но Гумилев вернулся.
Оставив в Лондоне у Анрепа часть вещей и бумаг, он 4 апреля сел на пароход и кружным путем, через Мурманск, выехал домой.
Перед возвращением все же не выдержал – заехал еще раз в Париж...
Вспоминает М. Ф. Л а р и о н о в:
"Мы с Николаем Степановичем виделись каждый день почти до его отъезда в Лондон. Затем он приезжал в Париж на 1 – 2 дня перед отъездом в Петербург, куда отправлялся через Лондон же. Подобный альбом им был переписан и подарен Елене Карловне Дебуше (Дюбуше) (дочь известного хирурга), в замужестве мадам Ловель (теперь американка). Вначале многие стихи, написанные во Франции, входили в сборник, называемый "Под голубой звездой" – название создалось следующим образом. Мы с Николаем Степановичем прогуливались почти каждый вечер в Jardin des Tuileries. В Париже, знаете, помните, недалеко от Parc de Carrousel, на дорожке, чуть-чуть вбок от большой аллеи, стояла статуя голой женщины – с поднятыми и сплетенными над головой руками, образующими овал. Я, проходя мимо статуи, спросил у Н. С., нравится ли ему эта скульптура? Он меня отвел немного в сторону и сказал:
– Вот отсюда.
– Почему, – спросил я, – ведь это не самая интересная сторона?
Он поднял руку и указал мне на звезду, которая с этого места как раз приходилась в центре овала переплетенных рук.
– Но это не имеет отношения к скульптуре.
– Да! Но ко всему, что я пишу сейчас в Париже "под голубой звездой".
Как образовалось "К голубой" (М. Ф. Хотел сказать "К синей...", имея в виду название сборника Н. Г. "К синей звезде". – В. Л.), мне не ясно. Как мне кажется, это произошло под внезапным впечатлением одного момента... потом осталось так, но означает то же стремление – к г о л у б о й з в е з д е – н а с т о я щ е й. Не думаю, чтобы кто бы то ни было мог бы быть для него такой звездой. Почти всегда самое глубокое чувство, какое у Николая Степановича создавалось в любви к женщине, обыкновенно обращалось в ироническое отношение и к себе, и к своему чувству.
Н. С. был знаком близко с Честертоном и с группой английских писателей этого времени, а в Париже дружил с Вильдраком. Жил он, Н. С., на rue Galil e, в отеле того же имени. А последний раз в h tel Castille, на rue Cambon, где в то время и я жил. Самой большой его страстью была восточная поэзия, и он собирал все, что этого касается. Одно время он поселился внизу, в сквере, под станцией метро, у некоего г. Цитрона. Вообще он был непоседой. Париж знал хорошо – и отличался удивительным умением ориентироваться. Половина наших разговоров проходила об Анненском и о Жераре де Нервале. Имел странность в Тюильри садиться на бронзового льва, который одиноко скрыт в зелени в конце сада почти у Лувра...