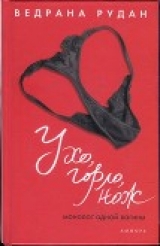
Текст книги "Ухо, горло, нож. Монолог одной вагины"
Автор книги: Ведрана Рудан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Послушаем вас. Я вас слушаю. Слышите?! Слу-ша-ю! Когда вас в последний раз кто-нибудь слушал? Именно слушал? Не ждал, когда вы закроете пасть, чтобы открыть свою, а слушал? Вам случалось посмотреть на своих детей, когда вы им что-нибудь говорите? Когда я что-нибудь говорю своей Аки, она смотрит на меня, а сама правой рукой дрочит мобильник и посылает эсэмэски. «Говори-говори, я тебя слушаю!» И я говорю. Потому что не хочу, чтобы она подумала, что я знаю, что она меня не слушает. Понимаете, да? Я не хочу ставить ее в неловкое положение. Я веду себя так, как будто Аки это кто-то, кто меня любит. Хрена лысого она меня любит. Да ей насрать на меня. У нее своя жизнь, про которую я ничего не знаю. Потому что я никогда не слушаю, когда она мне что-нибудь говорит. А она говорит. Она любит со мной разговаривать. Точнее, что-нибудь говорить мне. Но не любит, когда я ей отвечаю. Потому что я не отвечаю, а говорю. Каждая из нас живет в своем собственном фильме. Каждая вытягивает изо рта собственную жвачку. Когда я была маленькой, у нас в школе раз в неделю был урок музыкального воспитания. У меня с музыкой всегда дело было плохо. Мики музыку любит. Не Кики, а Мики! Хорошо, Кики тоже любит музыку! Но Мики в ней разбирается. Я понятия не имею, как включить диск. Или видео. Или субтитры. Или компьютер. Не умею искать в интернете. Или чатиться. Или послать имейл. А у нас есть и компьютер, и ноутбук. Все есть. Все контрабандное. И мобильник. У меня мобильника нет. И никогда не будет! Звуки приводят меня в ужас. Любые. Музыку ненавижу. Любую. И звук телефона. И мобильника. И жужжание толстой, мясистой, черной мухи. Я в таких случаях включаю свет в коридоре, гашу в спальне, и когда этот жирный кусок говна устремляется на свет, закрываюсь в спальне, зажигаю люстру и слушаю, как эта гадина бьется о стеклянную дверь. Без малейшего шанса на успех. Я люблю тишину. Тишину. Без всех этих си-ди, мух, мобильников, человеческих голосов, веселого детского гама, духового оркестра, мажореток, парадов ряженых. Тишину люблю. Тишину. Да. Короче, этот урок музыки я ненавидела. И в восьмом классе получила кол за дирижирование. Старухе я объясняла, как трудно дирижировать. Однодольный, трехдольный, четырехдольный, ну, в смысле, такт. Маши все время по-разному, и хрен его знает почему. Я ей объясняла, какое это страшное дело – дирижировать и что у меня к нему нет никаких способностей. Она меня не слушала. Просто повторяла: «Единица по музыке?! Ну ты действительно ненормальная! Ненормальная! Просто ненормальная!» И тогда я самой себе дала клятву. Не верите? Стойте, сейчас я опишу вам кухню, в которой я дала себе эту клятву. Я вам уже говорила. Мы жили в подвале. Я из кухни смотрела на ноги людей, которые поднимаются и спускаются по лестнице. Я смотрела на людей, как тот кот из мультика смотрел на ноги толстой негритянки. Эту негритянку никогда не видно, только ее толстые ноги. Вот так и я видела только ноги. Толстые. Худые. Мужские. Женские. Детские. Одетые во что-то – зимой. Голые – летом. Люди всегда бросали какую-то дрянь под то окно подвала, где у нас была кухня. Как будто это не окно нашей кухни. А просто подвал, где живет пара крыс. Но не это было главное. А то, что мужчины все время под наше окно плевали. Прямо харкали. Этот звук, а звуки я и без того не люблю никакие, но спросите вы меня, если бы вы, конечно, захотели меня спросить, какой звук я считаю самым отвратительным, так я бы назвала его, а вовсе не сирену воздушной тревоги. Хотя я слышала ее во время войны. И это было страшно. Сирена завыла, когда я сидела на обогревателе и что-то читала, а Аки была в школе. Да, это было страшно. Это чувство, что сейчас на город повалятся бомбы и мы с Аки погибнем вдали друг от друга. Она в школе, а я на обогревателе. Я не знала, да и откуда мне было знать, что сирена это только знак, что могут начать сбрасывать бомбы, и что совсем не обязательно, что так оно и будет. Это была первая в моей жизни война. ОК. Это было страшно. И тем не менее. То, о чем я вам говорю, было хуже. Когда те мужчины останавливались над нашим окном, хрюкали, харкали, стараясь отхаркнуть и выплюнуть прямо нам под окно как можно больше того, что скопилось у них в лобных пазухах или в другой дыре в их башке. Моя старуха каждый день поливала там кипятком и выметала веником все, что они нам оставляли. Ладно. Лучше опишу вам ту нашу кухню. Я сидела в углу, а старуха возле плиты, дровяной. Горел огонь. ОК. Я могла бы сказать, что в плите весело горел огонь, но это не так. Было бы так, я бы вам так и сказала. Старуха смотрела на меня, я смотрела на нее. И тут я ей сказала про кол. А она мне сказала то, что я вам уже говорила. Вот видите, так оно и было. Короче, я тогда поклялась, что своих детей я буду слушать. Слушать. Понимаете, именно слушать. Что меня будет интересовать то, что мои дети будут мне говорить. Что я не буду при этом куда-то уноситься в мыслях. Что буду не просто на них пялиться. Что мы с моими детьми будем в одном фильме. Вот видите. Что значит поклясться. И что значат клятвы. Ничего. Один пиздёж. Я не слушаю Аки. Никогда. И никогда ее не слушала. Самые лучшие мои дни с Аки были те, когда она больная лежала в кровати с температурой, а я смотрела итальянское телевидение. Пронто, Рафаэла! Я тогда думала, что существует несколько жизней. Что моя жизнь с маленькой Аки и Кики, который в то время был референтом в Комитете общенациональной обороны и общественной самозащиты, а потом его сократили, и теперь он торгует левыми галстуками и костюмами, так вот, что эта жизнь с маленькой Аки и Кики это что-то временное. И что это пройдет. Как проходит прыщик на брови. И тогда все у меня начнется сначала, и будет «Пронто, Тонка!». И я буду смотреть в камеру, и улыбаться, и говорить: «Пронто, пронто…» Я очень любила отправить Аки на груду песка, тогда рядом с нашим домом была стройка, она там могла часами валяться в песке, а я нежиться в другой жизни. В жизни без Аки, без Кики, без кредитов, без моей работы, где все женщины целыми днями вязали – кто крючком, а кто на спицах, все, кроме меня. Это страшное чувство. Когда вокруг тебя одни мастера высшего класса. Когда кто-то за пять минут может вывязать из мохера такого паука, какого ты не сделаешь и за три жизни. Это меня просто убивало. Моя сослуживица Кока, если не шла на обед, то за восьмичасовой рабочий день могла связать белую шаль из мохера. И вся шаль была сплошная паутина, снежно-белая, а по ней, по паутине, разбросаны большие нежные пауки. Настоящий шедевр. Нет, конечно, пауков я не люблю. У меня есть телескопическая швабра, которой я, когда есть время, задаю жару этим гадам. Но я говорю не об этом. Считается, что убивать пауков к беде. Нужно, говорят, нежно выбрасывать их в окно. ОК. Делайте что хотите. И я далеко не всегда жестока с пауками. Когда у меня проблемы, когда я взволнована, то я хватаю их за ногу и выбрасываю. А когда все в порядке, когда я в себе уверена, тогда… тогда да, жестока. Вот, вспомнила одну вещь. Когда сказала, что хватаю их за ногу… В Ядроплове работало много женщин. И там было много мышей. В том старом здании. Тогда Живко, да, кстати, ведь его звали Живко, он был секретарем первичной профсоюзной организации… Гляди-ка, мне только сейчас пришло в голову, что он, может быть, был сербом. А может, и нет. Неважно. В общем, Живко мазал клеем одноразовые бумажные тарелки и раскладывал на них кусочки сыра и грудинки, а мыши приклеивались. От их писка нам просто плохо становилось. Однажды ночью приклеилось три маленьких мышонка, и тогда взрослая самка, а может и самец, метнулась им на помощь, а на помощь этой самке ринулся самец, ну или если первым был самец, то ему на помощь рванула самка, короче, попалась вся семья. ОК. Я не об этом хочу рассказать. У нас там был и зубной, и терапевт, и кухарка, которая варила кофе. Очень, кстати, дешевый кофе. Так та кухарка, когда она утром вошла в свою маленькую кухню, она увидела приклеившихся к тарелке трех маленьких мышат. И двух взрослых, тоже приклеившихся. Родителей. ОК. Дальше вы мне не поверите. Я не буду клясться, что обещаю говорить правду и только правду. У меня нет Библии на тумбочке возле кровати, так что мне не на что положить руку. Кроме того, вы уже слышали, что я думаю о клятвах. Но это чистая правда. Она этим мышам отрезала ноги, «чтобы они не мучились». «Чтобы могли убежать куда захотят». Она освободила их. Вам это ничего не напоминает? Ничего? А вот теперь вы мне скажите, скажите и докажите, что мы, люди, не идиоты! Мы, в жопу, глупы как полные идиоты! Меня мучило, что я не умею вязать крючком. Что я аутсайдер. Что ничего не могу добиться. Таня могла за пять часов рабочего времени связать три пары тапок. А потом к нам в отдел пришла Гоца. Я ее и сейчас иногда встречаю на Корзо. Ее потом уволили. Она тогда взяла надо мной шефство. И своей большой любовью, терпением, терпением и еще раз терпением доказала, что если постараться, то все получится. И я на Пасху своими руками, да, вот этими пальцами, связала из яркого желтого мохера шесть чехольчиков для яиц. В виде цыплят. И к тому же каждому цыпленку сделала по одному черненькому глазу, из обычной шерсти, и красный клювик. Клювик из мохера. А потом я этих маленьких цыплят натянула на большие куриные яйца. На шесть пасхальных яиц. И почувствовала я себя просто прекрасно! Прекрасно! Именно прекрасно! Как после оргазма. Сразу после оргазма. Не через пять минут, а сразу. Потому что через пять минут в мозгу всплывает, что надо поднимать задницу и идти доставать цыпленка из морозилки, погладить на завтра рубашку, вымыть посуду, потому что трахались мы сразу после обеда, и выкопать из корзины с грязным бельем хотя бы шесть чулок, из которых можно составить три пары. Почему я рассказала вам про желтых цыплят? Да. Эти цыплята меня разнежили. Такое приятное воспоминание. И вот я уже перестала злиться. И больше не хочу рассказывать вам, какое дерьмо вся ваша жизнь. Вы правы! Кто я такая, чтобы копаться в вашей жизни? Может, вам как раз хорошо! А на мелочи вам, может, просто насрать. Может, вы не настолько строги и желчны. Люди все разные. И вы не обязаны смотреть на мир моими глазами. Я агрессивна? Да идите вы на хуй! Я такая же, как те, о ком я вам говорю? Те, которые, может, есть, а может, их и нет? Может, Они не существуют? Может, существуем только мы? Может, каждый творец собственного счастья? Это мы все учили в школе. Может, разговор о «них», о тех, кто уже достал нас до предела, это просто алиби для нас, трусов, у которых нет мудей, чтобы просто взять жизнь в свои руки? «Мы»? «Нас»? С чего это вдруг я превратилась в «мы»? Вы правы. ОК. Видите, я не такая уж плохая. Я всегда очень хорошо себя чувствую, когда признаю какую-нибудь свою ошибку. Или заблуждение. Когда признаю, что кто-то прав. Борьба меня утомляет. Действует мне на нервы. «Устал я, друг мой, я устал…» Это слушает мой Кики, когда думает, что никто не слышит. Когда думает, что я не слышу. И всем остальным эта песня нравится. Остальным? Нашим друзьям. Это «остальные». Да. У нас есть друзья. Но не буду сейчас их перечислять. Их имена вам ничего не скажут. Они меня не понимают. Они ничего не понимают. Они считают, что люди по своей сути добры. Что все эти убийства и резня вокруг нас, вся эта война на Балканах, или война из-за талибов, или война любого другого Пиздостана это все проблемы, которые будут решены. Что война начинается тогда, когда нужно решить какую – то проблему. Что война это всегда нечто временное, на то время, пока не решится проблема. А проблема это, например, когда на нас нападают сербы и хотят нас всех перебить. А мы хотим только защищаться. И остаться хозяевами того, что принадлежит нам. А когда мы перебьем всех сербов в хорватских городах, когда мы вытащим их из квартир в подвалы или в чисто поле и пустим им пулю в затылок, это будет оборонительная война. И когда мы колючей проволокой свяжем им руки за спиной и столкнем в реку, которая течет под нашим мостом, то это тоже самооборона. Или когда мы заберем все, что есть у них в доме, а дом подожжем, то это тоже только следствие. Потому что они первые начали. А если «они» первые начали, то все остальное это не что иное, как ответ правого, того, кто защищает свое. Вы просто защищаете свое. Я не могу сказать: «мы» защищаем свое, потому что из-за этого гребаного Живко я не имею права соваться в вашу компанию. Вы не можете сидеть сложа руки, когда четники ебут вашу мать. Понимаю. С этим я согласна. В общих чертах. Так думают все мои друзья. Понимаю и то, что какой-нибудь авторитет может посреди Загреба убить девочку и выбросить ее в яму за то, что она сербка. Могу понять и то, что вам на это насрать, потому что вы хорваты, и потому что была война, и потому что было такое время. У каждого есть право на собственное мнение. Кроме того, на диких Балканах мира никогда не было. И не будет. Сегодня убьют их девочку, завтра мою Аки кто-нибудь пырнет ножом или изнасилует посреди города. Понимаю. Согласна. Но знаете, я терпеть не могу, когда приезжают эти, из Европы, и начинают засирать мне мозги насчет того, что все это творится вокруг только из-за того, что я дочь Живко. Такое я не люблю. Такое мне не нравится. В такое я не верю. Типа, что мой Живко зверь. Он, один-единственный на всем земном шаре. Я думаю, что все мы – как мой Живко. Тогда, когда кругом война, насилие, резня, изнасилования, когда друг другу перерезают глотки, выкалывают глаза и ебут в задницу чужих матерей. Это нормальное человеческое поведение. А когда тебя заставляют вытирать нос бумажным носовым платком, не курить в автобусе, не плевать на пол, не совать нос в дела соседа – это принуждение. Диктат. Чей? Их. Кто Они? Вы меня что, не слушали? Они – наши повелители. Они – те, кто говорит нам: «Режь!» или «Вытри нос!» У меня такое чувство, что все мы – и Аки, и Кики, и Мики, и моя старуха – потенциальные убийцы, палачи. Только ждем случая. Рядом с каждым из нас где-то есть кто-то, кому мы готовы выколоть глаза, пустить пулю в затылок или выебать его в задницу, просто из ненависти. Война это что-то такое, в чем каждый нормальный человек чувствует себя как дома. Нормальный человек! Тот, кто хочет быть хозяином того, что ему принадлежит. Короче – каждый, мать его! И гребаный американец, и норвежец, и итальянец, и немец, и мой вонючий Живко. У всех у нас теплеет на сердце, когда мы всаживаем нож в чужих дочерей. Мы на свободе, мы резвимся, мы спущены с цепи. Мы наконец-то чувствуем себя людьми. Просто людьми. Но тут есть одна загвоздка. У войны имеется свой срок действия. И рано или поздно приходит день, когда начальники принимают решение. И нужно собирать ведерки, вытаскивать совки из песка. Это всегда проблема. Потому что мы уже вошли во вкус. Потому что сейчас нам очень хорошо: мы подожгли шестой дом и погрузили на свой грузовик девятый холодильник, мы выебли девчонку на пороге этого дома… И вдруг на тебе! Конец фильма. Конец? Конец?! Как это так – конец? Какие такие правила игры? Кто-то попрекает нас тем, что мы слишком высоко подбрасывали песок. Или слишком далеко его забрасывали. И что не хватает нескольких ведерок. И ни с того ни с сего оказывается, что это ненормально – ебать их девочек. Вот. Такое я не люблю. Это лицемерие. Люди всегда насилуют чью-нибудь маленькую дочку или ебут в задницу чью-нибудь старую мать. Я свидетель: на войне люди чувствуют себя очень комфортно. Подавляющее большинство людей. Все нормальные люди всегда чувствовали себя на войне хорошо. Хорошими. Именно хорошими и справедливыми. Почти все. На войне можно орать, распевать патриотические песни, размахивать красивым флагом, водружать его на крышу – он огромный, пусть развевается на ветру; можно резать глотки, можно красть, можно перебить полгорода во имя истины и справедливости. Было бы просто супер, если бы война продолжалась вечно. Но так не бывает. И отсюда наши проблемы. И ваши, и мои. Решение принято, войне конец. Вы считаете, что войну ведет Президент и что мир заключают два Президента. Какая наивность!.. Президенты только ставят подписи. Они ничего не решают. Клинтон не решал даже того, какая шлюха сделает ему отсос. Их приводили к нему, руководствуясь критериями его повелителей. Президенты?! Президенты это просто медведи на ярмарке. А вот кто цыган на другом конце цепи? Кто отдает приказы Клинтону и нашим авторитетам? Да те же самые, кто нам отдал приказ идти играться в песочке, выдал ведерки и формочки, а теперь нас оттуда выгоняет. Конец фильма. Готово дело. Тайм-аут. А еще и пиздят в наш адрес. Говорят, что это было ненормально – устраивать такую резню. А какую резню нормально устраивать? Этого они не говорят. Ебут нам мозги. Вешают на нас ярлыки и шьют дело. Навязывают мир. А нам бы еще играть и играть. До самой смерти. Но нет. Сейчас нам придется отвечать на их вопросы. Кто выебал ту старуху без левой ноги? Что это за женщина, которую заставили только за одну ночь принять девять хуёв? И чьи были эти хуи? Наши? Их? Девять это как, слишком много? Или слишком мало? Или как раз? Девочек принуждали сосать члены пьяным солдатам. Сколько было солдат? Насколько они были пьяны? Почему они были пьяны? Где был их командир? Кто их полковник? А в сущности, кому это важно? Кому есть дело до переёбанных девочек и перерезанных глоток? Могут ли теперь переёбанные девочки жить так, как будто у них между ногами не побывала сотня хуёв? Не могут. И что дальше? Какой суд может исцелить столько разъёбанных детских пиписек? Никакой. Над нами просто издеваются. Наши повелители нами просто манипулируют. Сначала позволяют нам быть такими, какие мы есть: насильниками, убийцами, могильщиками, поджигателями, душителями, люююдьмиии… Людьми! А потом вдруг на следующее утро – извольте вытирать нос бумажным платочком. Передо мной эту комедию можете больше не ломать! Я знаю, что есть те, кто начинает и заканчивает игру. И я знаю, что сейчас игре конец. Мы больше не имеем права разговаривать по мобильному, когда ведем машину. Или курить в кабинете для совещаний. Им нужно отдохнуть. Разделить добычу. В спокойной обстановке потрахать молоденьких пресс-атташе, перерезать массу ленточек цветов хорватского государственного флага или любого другого флага, посматривая на эпилированные ноги той пизды, которая раздает ножницы. Без дыма, танков, ракет и ножей. А смазливых мальчиков можно взять с собой на яхту и трахать на палубе. Или повезти на сафари. И там, в холодке палатки, совать свой член в их юные жопы. Можно фотографироваться в глории с женой, которую не ебёшь уже девять лет, но ей на это плевать, потому что она ебётся с двадцатилетним мальчишкой, которому платит за это всего пять тысяч евро в месяц. Чего нам с вами только не пришлось делать – вам, мне, моему Кики и Мики и всем, кого мы знаем, – чтобы этот старый козел, который сейчас смотрит на меня с экрана, мог срать всем тем, от чего он откажется во время поста. Вы подожгли тысячи домов, убили миллион человек, переебли тысячу детишек только для того, чтобы старый пердун, держа за ручку свою старую жену-курву, бубнил про то, что подарит ей на Рождество? Понимаете? Они нами манипулируют. Вся эта война велась только для того, чтобы этот жирный, богатый, старый гад мог сунуть свой член между ног моей и вашей дочке. За пятьдесят евро. Все войны в мире ведутся для того, чтобы эти говнюки могли за гроши ебать наших дочерей. Я прямо сатанею, когда слышу, что мы здесь «балканцы». Что мы здесь «дикари»! Как будто только мы перерезаем друг другу глотки, насилуем и поджигаем дома. А американы в Афганистане? Эти факеры не насилуют, не жгут? Когда они суют член в чью-то задницу, это не ебля, это – распространение демократии. Слышать не могу такое! Американы бросали бомбы на Белград… Прекратите ваши вопли! Не орите! Ладно, американы были правы! Так им и надо… OK. ОК! Они были правы! Это я ору! Вы что, оглохли, мать вашу?! Я не говорю, что американы не были правы! Теперь слышите?! А сейчас чуть-чуть помолчите. Они там бросали какие-то бомбы, с каким-то холодным то ли обогащенным, то ли обедненным ураном, который вызывает рак. Пусть их теперь сожрет рак! Пусть их сожрет рак! Пусть сожрет, но я сейчас не об этом. Это неважно! Я хочу вам сказать совсем другое. Те же самые американы, которые бросали на Белград бомбы, которые вызывают рак, теперь в Белграде собирают деньги на помощь детям, больным раком. Они рыщут по всему Белграду, разыскивают облысевших детей, сажают к себе на колени и фотографируются с ними, озабоченно глядя в камеру, а потом призывают помочь! Вот я о чем говорю! Как они над ними измываются! Как они над вами издеваются! И над вами, и надо мной! Но я, по крайней мере, понимаю, что меня ебут в жопу. Причем постоянно! И ныне, и присно, и во веки веков! А вы этого даже не понимаете, мать вашу! И даже чувствуете себя виноватыми за все, что сделали во время войны, как будто война это что-то ненормальное, что-то безумное. И вы теперь, терзаясь угрызениями совести, прекрасное все-таки слово «угрызения», с толстенным членом, который они сунули вам в задницу, посыпаете голову пеплом, восстанавливаете дома, которые вы с таким удовольствием жгли и которые вы, может быть, и не стали бы жечь, если бы тогда отдавали себе отчет, какого хрена вы их поджигаете. Вот! Вот! Если бы вы были умны, а вы не умны, вы просто идиоты с членом в заднице, то вы не были бы вы. Я все понимаю, но я не читаю лекций. Не использую свои богатые знания. Если бы мы с вами были умны, то вы были бы не вы, а я была бы не я, и мы были бы – Они. Эти вот мерзкие морды на экране. И сейчас мой Кики трахал бы молоденькую сучку, а меня бы трахал какой-нибудь молоденький кобель. Или не трахал бы. Но у меня было бы право на выбор. Выбор! Свобода – это право на выбор. Ебать! Или быть выебанным! Иметь право на выбор! У вас его нет! А у меня его отняли. Тогда, когда разбудили в той гребаной палате. И это меня мучает.
А теперь я расскажу вам, как мы с Мики в первый раз трахались. Для мужчины и женщины, состоящих в связи, это многое значит. Для мужчины и женщины, состоящих в связи, это ничего не значит. Женщины в основном не кончают – скорее всего потому, что не так-то просто держать в руке незнакомый член, а мужчины в основном кончают, но их всегда мучает вопрос, а действительно ли они были супер, потому что они думают, да, конечно, она кончила, потому что кричала и все такое, но тем не менее они подозревают, что, может быть, она и не кончила. И эта неизвестность их мучает. Поэтому она должна уверять его, что он был просто супер. Именно супер. Ну типа, пальчики оближешь, как сказал бы один мой приятель из Сплита, я его очень люблю, но к этой истории он не имеет отношения. Да. Короче, я расстегнула то самое платье, продемонстрировала грудь в черном бюстгальтере, и шелковое боди, и колготки. Если бы это было в кинофильме, то Мики, обезумев от страсти, бросился бы на меня, разодрал на мне белье, швырнул меня в кресло и оттрахал. Он бы стонал, я бы стонала, а потом одновременно, потому что на кой хрен тогда нужен оргазм, если не одновременно, мы бы с рычанием кончили. Но это в кинофильме. Мы-то были не в кинофильме, и Мики это вовсе не умопомрачительный Клинт Иствуд, который ебёт все живое. Мики адвокат, у которого, я тогда этого не знала, нет денег даже на то, чтобы заплатить вступительный взнос в адвокатскую палату. Другими словами, он всего лишь хорошо одетая церковная мышь. Кинофильмы иногда человека обманывают. Мики просто смотрел на меня. «Не понял», – сказал он, когда я сказала ему: «Трахни меня». «Трахни меня», – повторила я. Он продолжал смотреть на меня. Не то чтобы без интереса, нет, но как-то растерянно. И время от времени бросал взгляд в сторону окна. Хотя жалюзи были почти полностью закрыты. Я вовсе не чувствовала себя глупо. Я уже вам говорила. Мне было безразлично. Если он меня оттрахает, хорошо. Если отвергнет, тоже хорошо. Мики меня не отверг. Он просто сказал: «Не понял». И таким образом вернул мне мяч. И теперь я должна была объяснять, что хотел сказать автор. А это всегда очень трудно. Автор, как правило, ничего не хотел сказать. Автор просто написал, а объясняет кто-нибудь другой. Его главную мысль. Красную нить. В этой истории автором была я. И теперь мне предлагалось быть еще и «преподавателем хорватского или сербского языка и литературы». Как написано в моем дипломе. Из педагогического… Вот ведь какая дерьмовая ситуация. И я некоторое время смотрела на него, в расстегнутом платье и в своем дурацком бюстгальтере, боди и колготках. Я себя чувствовала примерно так же, как эксгибиционист в парке, который, завидев идущую навстречу монашку, распахивает плащ и демонстрирует здоровенный член, а она, вместо того чтобы закричать от ужаса и схватиться за четки или еще что-нибудь, что висит на ее невинной девичьей шее, останавливается, поправляет очки, берет указательным и большим пальцем его член и начинает разглядывать с интересом естествоиспытателя. Да, я чувствовала себя именно так. Как эксгибиционист, у которого монашка изучает член. Неприятное чувство. Тогда я села на стул для клиентов. Мики сидел в кресле из поддельной кожи, но он в то время еще не знал, что она поддельная. Нельзя сказать, что я рухнула на этот стул. И перевела дух. Нет, я просто села. Не застегнувшись. И сказала:
– Мне не то чтобы очень хочется, но мне нравится твой круглый затылок, и полные губы, и завитки на шее.
Абсолютно идиотский текст. Бред какой-то.
– Расслабься, – сказал Мики. – Сделай глубокий вдох. С тобой все в порядке? Ты не больна? Что случилось?
– Ничего, – сказала я. – Почему что-то должно было случиться? Тебе никогда ни одна женщина не говорила: «Трахни меня»?
– Нет, – сказал Мики. – Ты первая, и я растерялся. Что я должен делать? Наброситься на тебя?
– Да, – сказала я, но как-то неуверенно.
Потому что кабинет у него был маленький, и если бы он на меня набросился, трудно сказать, что бы из этого вышло. Между нами был письменный стол. Так что наброситься он не мог. Он мог встать, обойти стол, подойти ко мне, поднять меня со стула и отнести или отвести куда-нибудь, где побольше места. Только так. Понимаете? Это место было неподходящим для дикой страсти.
– ОК, – сказал Мики. – Пойдем в приемную.
Ладно. Теперь оцените ситуацию. Вы думаете, что уже хорошо узнали меня, но вам нипочем не угадать, что я ему сказала. Да я и сама никогда бы этого не угадала. А сказала я:
– Я тебе хоть чуть-чуть нравлюсь?
Ну не корова ли я? Идиотка! Расстегнуть платье, сказать: «Трахни меня», а потом выпрашивать любовные признания. Как будто это не может быть чистым траханьем, безо всяких там чувств, как будто это должно быть чем-то, типа, любовь. Притом что на любовь мне насрать, да я и знаю, что никакая это не любовь, а кроме того, мне и на траханье насрать, и на все остальное тоже насрать, а тут вдруг ни с того ни с сего вынь да положь то, что совсем не то. Как будто кто-то со стороны, кто-то то ли слева, то ли справа, а может, и сверху смотрит на меня. Кто-то, перед кем мне потом держать ответ. И я хочу иметь основания сказать ему: вот видишь, я это сделала, но я не шлюха. Как будто это важно – шлюха я или не шлюха. Как будто кому-то до этого есть дело. Как будто про женщину можно сказать, что она шлюха только потому, что она трахнулась с незнакомым мужчиной у него в кабинете. С почти незнакомым. А если я даже и шлюха, что тогда? Понимаете? Я постоянно, всегда, непрестанно, в каждую минуту каждого дня моей гребаной жизни отвечаю на незаданные вопросы. Я очень устала от этого. Меня это уже достало, мне это уже просто остопиздело до охуения. Кстати, о хуях существует один предрассудок. А может быть, это я считала, что такой предрассудок существует… Короче, существует мнение, что у людей умственного труда, у всех этих мужчин с высшим образованием, ну, разных там юристов, врачей, преподавателей, адвокатов, всегда довольно маленький член. А у портовых грузчиков и у сербов – большой. Типа, размер члена обратно пропорционален размеру мозга. Я с самого начала думала, я и сейчас, в данный момент, продолжаю так думать, что Мики умный. Может быть, именно это меня в нем больше всего и возбуждает. Я люблю умных мужчин. И женщин. Может, потому, что сама я глупая. Потому и люблю умных. Правда, тут возникает вопрос, каковы мои критерии. ОК. Попытаюсь быть точной. Чтобы вы не пиздели. Я думаю, что Мики умный. Это наверняка тоже предрассудок. Я имею в виду, что предрассудок считать его умным только потому, что он закончил университет. Я знаю многих людей с университетским дипломом, глупых как жопа. Оставим это. Это неважно. Короче, я ожидала, что у Мики член маленький. И что у меня с этим будут проблемы. То есть что мне придется его из-за этого утешать. Убеждать, что размер не важен, а потом, когда уже удастся его в этом убедить, придется, видимо, своей собственной рукой засовывать его в себя, пока, через некоторое время, Мики не обретет уверенность. И присутствие духа. Пока размер, а точнее говоря, небольшой размер члена не перестанет быть для него проблемой. Мы, женщины, и в этом я вам могла бы поклясться, но не буду, потому что и сама знаю, что для меня означают клятвы, так вот, мы, женщины, все-таки дуры космического масштаба. Самоуверенные козы, которые считают, что знают о мужчинах все. А мы о них знаем не больше, чем они о нас. То есть – ничего. Поэтому, увидев, что показалось из «боксерских» трусов Мики, я потеряла дар речи. Буквально. Потеряла дар речи. Это когда над головой облачко, в котором сто пятьдесят вопросительных знаков и столько же восклицательных, ну, в комиксах. На меня смотрел здоровенный дрын с приподнятой тупой головкой. ОК. Может быть, я не совсем точно выражаюсь. Я его никогда не измеряла. Но мне показалось, что это была, правда, это слово очень противное, похабное и не вполне подходящее, я имею в виду слово «колбаса», но это была действительно настоящая колбаса. Вот вы попробуйте произнесите вслух слово «колбаса» и тогда поймете, о чем мы с вами говорим. Колбаса, палка колбасы длиной в тридцать сантиметров. Может, на один маленький сантиметр, ну или на два короче. Не более того. У Мики между ног был член, с которым он мог бы сниматься в порнофильмах, вместо того чтобы сидеть на неудобном деревянном стуле в маленьком зале суда, где раздраженная судья-женщина, стенографистка, будущий бывший муж, будущая бывшая жена и адвокат будущего бывшего мужа дерутся не на жизнь, а насмерть из-за ста кун алиментов. Я как увидела, так и окаменела. А потом Мики меня раздел, кстати, я-то планировала, что мне придется раздевать его, потому что по возрасту я гожусь ему в самую старшую из сестер. Он прислонил меня к столу в приемной и засунул этот свой член в меня. Он орудовал им – вперед-назад, вперед-назад, а я в это время через полузакрытые жалюзи смотрела, что делается в бутике, в доме на противоположной стороне улицы. Бутик был на третьем этаже. Пока Мики меня трахал, я смотрела, как женщины меряют пальто. Длинные. Мура[17]? Кто его знает. Без очков я плохо вижу. В основном они рассматривали себя в зеркале. Молоденькие продавщицы помогали им раздеваться и одеваться. Мне очень понравилось одно темно-красное пальто, длинное, с пышным красным искусственным мехом. И я подумала, что можно было бы купить его после того, как Мики кончит и я приму душ в их ванной комнате, а потом оденусь, спущусь на Корзо и поднимусь в этот бутик. И куплю это пальто. Но правда, есть одно «но». Я уже говорила. У Кики гора прекрасных пальто. Все самые известные бренды. И было бы действительно идиотизмом носить ноунейм, когда можешь одеваться в акваскутум или барберри. Хотя реально я не вылезаю из своего черного, неизвестно какого, купленного по сейлу. Видите, люди в основном извращенцы. Да. Мики кончил, когда высокая черноволосая дама расплачивалась карточкой за зеленое пальто. Точнее, полупальто. Без меха.




