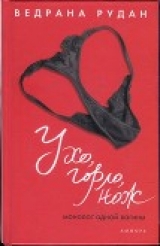
Текст книги "Ухо, горло, нож. Монолог одной вагины"
Автор книги: Ведрана Рудан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Annotation
Первый из пяти романов современной хорватской писательницы Ведраны Рудан (р. 1949) «Ухо, горло, нож» – это монолог женщины «пятидесяти с гаком», произнося который она, не стесняясь в выражениях, ставит убийственно точный диагноз себе и окружающему миру.
Ведрана Рудан
Пролог
Начинаем
Расслабьтесь
Вдохните
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Ведрана Рудан
Ухо, горло, нож
Моей маме, которая мне мама, моему мужу, который не муж, моим детям, которые не дети, и Олегу
С благодарностью
Наде Гашич, Хелене Семион-Татич, Неле Влашич, Франци Блашковичу, Хамдии Демитрович и Яне из Ловинца
Пролог
«Тонка, ты должна объяснить тем, кто смотрит на тебя со стороны, кто ты, а кто Они». – «Зачем?» – «Чтобы тем, кто смотрит со стороны, было понятнее» – «Но все просто. Я – Тонка, девичья фамилия Бабич, лежу в кровати и дрочу пульт от телевизора. Ночь, мне не спится. Перескакиваю с программы на программу». – «А кто Они?» – «Они те, кто вокруг меня». – «Где?» – «В моей комнате. В воздухе, в моих глазах, под моими веками, в моем носу, в моем ухе, в картонной коробке на шкафу, где я держу купальные костюмы и летние блузки и бермуды Кики, в ночнике из икеи, в космосе. Они не видят меня, я не вижу Их. Они слышат меня, я слышу Их». – «Было бы гораздо лучше, если бы ты была актрисой: сцена, за тобой – экран телевизора, ты играешь моноспектакль, а Они – публика, которая тебя слушает. Это было бы гораздо лучше». – «Нет, не было бы. Кто даст роль женщине пятидесяти с гаком? Ночь длинная. Кто сможет выучить столько текста? Кто выдержит такой длинный спектакль?! Если Они театральные зрители, то Им станет скучно и Они просто свалят». – «А почему бы тебе не быть гостем какого-нибудь ночного телевизионного шоу? Какого-нибудь „Ночного кошмара“? Сейчас это в моде. Ты в студии, лежишь в кровати, у тебя едет крыша, и ты несешь полную херню, а Они – люди, которые сидят дома и всю ночь смотрят тебя. У тебя за спиной экран, ты переключаешь кнопки на пульте, а история одна и та же…» – «Но у меня не едет крыша и я не люблю „Ночной кошмар“. В телевизоре я больше всего люблю документальные фильмы. О животных. Люблю бегемотов, когда они лежат в воде и смотрят на меня своими маленькими хитрыми глазками. Вот что я люблю. Понимаешь? Как это ты не понимаешь?! А ты сам кто такой?!» – «Я Тот, Кто Смотрит со Стороны».
Начинаем
Смотрю на часы, которые мы купили в икее. Под часами включенный телевизор. Без звука. Какие-то старухи что-то говорят. А может, эти женщины и не старухи. Просто волосы у них седые. И зубов нет. Я бы тоже выглядела как старуха. Но я раз в три недели плачу Александре сто евро. Поэтому волосы у меня рыжие. И во рту у меня четыре тысячи евро. Поэтому могу смеяться широко открыв рот. Но… Я так не смеюсь. Когда мне было четырнадцать, зубной вырвал мне второй верхний, слева. После этого я годами смеялась не открывая рта. Мы были бедными. Моя старуха, моя бабуля и я. Второй левый я купила себе в подарок на двадцать четвертый день рождения. Но и после этого я не начала смеяться во весь рот. Уже вошло в привычку просто усмехаться. Я лежу на кровати, на мне пижама Кики. Полосатая. Бенетон. И, спросите вы, какая связь со вторым верхним слева? Какая связь между пижамой и вторым зубом?! Боже, как я устала от этого! От этих вечных объяснений. От этих поисков связи. От необходимости вычленять субъект, предикат и объект. Почему все в моей жизни должно иметь связь с чем-то другим в моей жизни? Откуда у вас эта навязчивая идея о связях? О логике. О причине. О следствии. Я же вам говорю. Я лежу в кровати. На мне пижама Кики. Я смотрю на часы. Который час? А при чем здесь это? Под часами телевизор, он включен, но без звука. И все это не имеет никакой связи ни с чем другим. Я вам излагаю факты. А вы меня достаете своими вопросами. И своей озабоченностью. И своим желанием унюхать в моем банальном лежании драму. Что-то произошло. Или произойдет. Что-то должно произойти. Ведь и у вас нервная система не из гранита или какого другого камня. Вы обычные человеческие существа с крепкими нервами, да, да, именно с крепкими, но и ваше терпение имеет свои границы. И если я буду просто лежать и пердеть, если ничего не будет происходить, то вы меня просто пошлете на хуй. Вот такое вы говно. Чего вы от меня ждете? Я не Шекспир и не репортер желтой прессы. Я – Тонка. Я просто лежу в кровати. И пялюсь на стенные часы. Кики в Любляне. ОК. Может быть, изюминка все-таки есть. Я решила, когда мИнет эта ночь… МИнет, минЕт… Совсем неплохое слово «минЕт»! Даже отличное. Отличное! Итак, когда мИнет эта ночь, я уйду от Кики. Брошу его. Захлопну за собой дверь. Начну все с чистого листа. Сожгу все мосты. Перечеркну прошлую жизнь. Пошлю Кики на хуй. Ворвусь в новое утро. Вздохну полной грудью. A-а, я вас слышу. Заговорили. Супер. Все-таки что-то в этом есть. Эта глупая тёлка глубокой ночью, кстати, еще вовсе не так уж поздно, не просто так валяется одна в кровати и непонятно с чего не спит. Что-то ее грызет. Ну-ка, ну-ка! Послушаем! Что тебя грызет, старая кляча? Откуда мы знаем, что ты старая? По твоему болезненно дрожащему голосу… Слышны вибрации. Ну, давай! Скорее! Что?! Он пьет? Трахается с другими? Не трахается вообще? Колотит тебя? Почему ты от него уходишь? Ты что, ненормальная?! В наше-то время! Ты же старая! Одумайся! У тебя есть муж, мать твою! Так держись за него! Погоди! Погоди чуток! Ты уходишь?! В твои-то годы? Как же, хрена лысого уходишь! Рассказывай, рассказывай, почему герой твоей жизни бросил тебя! Чем он занимается в Любляне, пока ты лежишь в его пижаме? Почему вы все так меня ненавидите? Почему вы полны желчи и злобы? Вас не интересует моя история. Почему вас волнуют только кровавые истории? Что вы от меня хотите? Почему меня подгоняете? Я не собираюсь втискивать всю мою жизнь в три фразы только потому, что вы спешите. Куда вы так спешите? Что вас ждет за углом? В какую безумную жизнь вы нырнете, когда выберетесь из моей кровати? Вот то-то. Сую в голодный рот кусочек шоколаду. Разумеется, меня мучает то, что я не могу без шоколада. Проклятая нестле. ОК. Пердёж насчет шоколада прекращаю. Понимаю. Это вас отвлекает. Но это важно! Важно? Что важно? Я бросаю мужа и ухожу с любовником, который – а вот это вам действительно будет важно – на двенадцать лет моложе меня. Завтра утром, в семь, когда вы будете в ваших офисах, в маркетах, в постелях, потому что вы остались без работы, или в бюро по трудоустройству, или в смертельной агонии, или верхом на какой-нибудь курве, или под собственной женой, или над толстым мужем, или рядом со стройным любовником, или перед опухшим шефом-итальянцем, или немцем, или австрийцем, или венгром, или… Я распахну перед молодым любовником двери своего дома… Что за прекрасное слово «дом»! В руке у меня будет только один самсонайт, и плевать мне на все те мелочи, из которых состоит жизнь, на свадебные фотографии и первый молочный зуб моей дочки Аки, – я брошусь ему на шею и левой рукой схвачу его за яйца. Все это увидит сосед Томи. Он всегда все видит. Говно старое. Он подумает, что я блядую на пороге собственного дома. И не будет он знать, это старое говно Томи, что блядью я буду недолго, совсем недолго. Недолго. А потом стану хозяйкой нового мужчины. Совершенно официально. Мы зарегистрируемся Да. Мне придется развестись. И ему. Моему Мики. Зачем развод? К чему весь этот базар-вокзал? И почему моего любовника зовут Мики, а мужа Кики? Вы думаете, что это я над вами издеваюсь? Умышленно засираю вам мозги? Что, когда я это рассказываю, я рассчитываю, что вы перепутаете где «Мики», а где «Кики»? Что на самом деле я хочу внушить вам мысль, что большой разницы между Кики и Мики нет? Хочу сказать вам, что все мужчины одинаковы?.. Ну и мудилы же вы! И почему вас все время обуревает мысль о каких-то посланиях? Я к вам хочу обратиться с каким-то посланием?! Я хочу засрать вам мозги?! Да вы вообще хоть раз в жизни над чем-нибудь задумывались? Вам когда-нибудь приходило в голову, что никто и не думает обращаться к вам с посланием? Или говорить вам правду. Вам просто хотят навешать лапши на уши. Хотят вами манипулировать. Использовать вас. Без каких бы то ни было посланий. ОК. Это тоже послание. Вы правы. «Хочу задурить тебе голову!» Это, конечно, послание. Но я не собираюсь этого делать! Кики зовут Кики, а Мики – Мики. Почему? Ну что за идиотский вопрос! Не хочу даже отвечать на такой идиотский, бессмысленный вопрос. А почему меня зовут Тонка? Понятно? Идиотский вопрос! Вообще-то мне должно быть безразлично, что вы обо мне думаете. А вот почему-то не безразлично. Мне хочется рассказать вам свою историю и совсем не хочется предстать перед вами климактерической психопаткой на шестом десятке… Вот видите. Мне уже перевалило за пятьдесят, но… ОК. Я бы хотела, чтобы вы услышали мою историю, только не надо думать, что все это из-за войны. Что раньше я была другой. А потом началась война, и у меня поехала крыша. У многих тогда поехала крыша, и у меня тоже. PTS. Посттравматический синдром. Ладно. Чтобы получить что-то «пост» травмы, нужно сначала получить травму. Хорошо. Я расскажу вам свою историю. И вы можете думать что угодно, но если моя история это травма, она и ваша травма тоже. Я много об этом думала. А есть ли смысл бросать Кики? Что такого особенного сделал или не сделал мне Кики? Что это такое, чего я не могла бы ему простить? На что не могла бы закрыть глаза? Но неужели для того чтобы кого-то бросить, нужно, чтобы этот кто-то тебя избил, выковырял тебе вилкой глаз, загасил сигарету о твою пизду? Почему нельзя бросить Кики, если он хороший? Я его знаю как облупленного. Он для меня как прочитанная книга. Как вид из окон квартиры, в которой прожил тридцать лет. Как вечно текущая мутная река. Как часы на башне, которые никогда не ломаются. Как песня Иво Робича «А тебе всего семнадцать лет»[1]. Почему? А вы, женщины, вы, которые остаетесь со своими мужьями, скажите, случалось ли вам когда-нибудь воскресным вечером гладить белье, пока Он лежит на диване и переключает программы? У вас болит спина, дети гуляют, за электричество не заплачено, за квартиру тоже, Он толстый или худой. Вы Его знаете как облупленного. Сначала вы счастливы, оттого что гора неглаженного белья уменьшается. А потом вы останавливаетесь. И подняв утюг повыше… Стоп! Мне сорок! Или пятьдесят! Или тридцать, мать твою! Сейчас я переглажу всю эту гору и присяду отдохнуть. А потом запихну посуду в посудомоечную машину, приму душ и лягу рядом с «этим». Он мне больше не интересен. Но это моя судьба на ближайшие десять, или двадцать, или тридцать лет. Не приходило ли вам в голову, вам, которые остаетесь, прижать горячий утюг к его лицу, а потом под его вопли захлопнуть за собой дверь и уйти. Навсегда! Нет? Такое никогда не приходило вам в голову? Что же вы за лживые, лживые, лживые суки! Ну что вы за суки! Лживые! Кому я это говорю? С кем я здесь общаюсь? Ладно. ОК. Зачем вы врете? Думаете, ваша кома будет не такой глубокой? Думаете, обманули себя, так обманули весь свет? Как будто кому-то на свете есть дело до ваших проблем! Да всем плевать и на гору вашего неглаженного белья, и на орангутанга, с которым вы проведете остаток жизни! А то, то, в чем вы живете… Это что – жизнь? А я, я что – блядь?! Я блядь потому, что завтра утром, ровно в семь часов, схвачу Мики за яйца и уйду? И поэтому я блядь? А вы, значит, святые. А случалось ли вам из-за какой-нибудь ерунды срывать зло на вашем пятилетнем ребенке, которого вы называете «мамино солнышко»? За какое-нибудь «не хочу» врезать ему такой подзатыльник, что у малыша голова чудом остается на своем месте? Из носа кровь хлещет. Но вас это разряжает. Да-да, разряжает. Потому что именно это было вам нужно. Каждый раз, когда вам звонит ваша мама, этим своим еле слышным голосом умирающего в раскаленной пустыне, вам хочется ее… Только не говорите, не пиздите, что вам не хочется задушить ее собственными руками. Не вы ли постоянно подсчитываете, во что вам обходятся болезни отца и сколько вы могли бы сэкономить, если бы… Медсестра, памперсы, лекарства, обработка пролежней… Вонючие лицемерки! Между вами и мной только одна разница. Одна! Я ухожу, а вы остаетесь. Я не бесчувственная. Уйти не легко. Я со своим Кики прожила тридцать лет. ОК. Может, конечно, и война виновата. Может, все эти смердящие трупы на экране и в газетах заставили понять, как мало нужно для того, чтобы ваше двадцатилетнее, или сорокалетнее, или пятидесятилетнее тело превратилось в гору червей. Я все время смотрю телевизор. Десять лет я смотрю на людей в санитарных масках. Как они вытаскивают мертвецов из груды тел, или из могилы, или из ямы. Так было во время войны. А сейчас в Хорватии мир. И людей убивают в больницах. И поскорее закапывают. А потом вытаскивают из могил и из гробов, чтобы удостовериться, что их убили бракованные американские диализаторы[2]. Понимаете? Я по горло сыта хорватскими смертями. Я боюсь смерти. А она все время вокруг. Я ее носом чую. Нащупываю. Чувствую. Вижу. Я боюсь. Поэтому и ухожу от Кики к Мики. Мики молод. Может, он дальше от смерти. Вы думаете, что я блядь. Но бляди хитры. Они всегда найдут объяснение, почему торгуют своей пиздой, вместо того чтобы… Вместо? Вместо?! Что?! Вы своими пиздами не торгуете?! Вы, замужние дамы, которые остаетесь со своими мужьями? Вы предоставляете их в пользование бесплатно? Вы что, Красный Крест? Бросьте. Красный Крест не пизды предоставляет. Он раздает пакеты с гуманитарной помощью. Причем всегда этих пакетов меньше, чем требуется. Большую часть активисты продают, а деньги кладут себе в карман. И вы, милые дамы, предоставляете свои пизды не бесплатно. Вы варите, жарите, гладите, стираете, сжав зубы трахаетесь с мужем, продаетесь за статус Замужней Женщины. Вы – Замужние Женщины. И я Замужняя Женщина. Еще совсем недолго. А потом я опять стану Замужней Женщиной. Я вас понимаю. Нельзя быть нормальной женщиной, если ты не Замужняя Женщина. Вы правы. Но все имеет свои границы. С меня, милые дамы, хватит.
Безо всякой причины, я имею в виду нормальной причины, я буквально истребляю эту проклятую стограммовую нестле. И переключаю пульт. Документальный фильм. Какие-то старики рассказывают свою жизнь. Может, сегодня вечером День освобождения Хорватии? Или День беженцев? Или еще какой-нибудь важный День? Смотрю без звука. Хотя я люблю документальные фильмы. Только их еще и можно смотреть. Еще я люблю фильмы, основанные на реальных событиях. Стоит мне прочитать: «Основано на реальных событиях», – все, конец! Устраиваюсь в кресле поудобней, пусть даже в три часа утра, сна ни в одном глазу, и смотрю, что там произойдет с людьми. Люблю, когда женщина неожиданно, ни с того ни с сего… Ну, вы понимаете. Вот она входит в двери крупной фирмы, где работает. Огромный холл. Вокруг полно людей. Все спешат. Каждый к своему лифту. Она известный адвокат или преуспевающий менеджер. Ей около пятидесяти, но выглядит она на тридцать пять, потому что люди не любят смотреть на пятидесятилетних женщин, которые выглядят на пятьдесят. И вдруг она морщится. Узкой рукой проводит по лбу, ногти бледно-розовые. И падает на пол как сраженная ударом грома. Люблю гром. И грозу. Когда хлещет дождь, а я в кровати. Рядом с теплой задницей моего Кики. Это я люблю больше всего на свете. Да. И короче, эта женщина падает. Вой сирены «скорой помощи». Мы в больнице. Больница супер. Кругом неслышно скользят медсестры. Вы когда-нибудь были в нашей больнице? Представляете себе, каково оказаться в нашей больнице с инсультом?! Или без него?! Облезлые стены. Вы лежите на носилках, на полу, в коридоре отделения «скорой помощи», и врач стряхивает пепел прямо вам в глаз. ОК. Оставим это. Вернемся к той женщине. Она в больнице. В коме. Приходят ее дети. Взрослые. Дочь вся в армани, сын помладше. Муж ей в ухо, которое тоже в коме, шепчет только им двоим понятные нежности. И не какие-нибудь затасканные. Она в коме должна услышать что-нибудь вроде «лошадка моя». Потому что Он называл Ее «лошадка моя», когда вставил ей в первый раз. Или во второй. Короче, тип шепчет ей слова, которые любой женщине должны проникнуть в самые глубокие глубины мозга. А это всегда те самые слова, которые мужчина говорит женщине, когда трахает ее в первый раз. И от нас они, мужчины, ждут, что эти слова навечно западут нам в душу. А вот между прочим, моя приятельница Нада, это просто небольшое отступление, она все эти слова забыла. Она мне как-то сказала: «Ни одного слова не помню». Разные люди бывают. Некоторые не такие как все. Да. После шести месяцев комы и бесчисленного множества «лошадок» женщина приходит в себя. И тут конец! Титры! Потому что, оказывается, это сериал. И я жду не дождусь следующего вторника. Чтобы увидеть ее первые движения… как ее кормят через трубочку… как она заново учится говорить… писать… А, Б, В… В десяти сериях. Последняя серия. Она опять в огромном холле. В том самом, где вначале. Опять тонкой рукой медленно проводит по лбу, опять морщится… Вот оно! Замираешь от ужаса! Опять инсульт? Второй?! Еще более сильный?!! А ни хрена! Ух как я люблю этот прием в конце каждой реальной истории! Она просто прикасается рукой ко лбу, потому что забыла о Его дне рождения. Вытаскивает мобильник из своей дико дорогой сумки, типа от вуитона, и говорит: «Дорогой, это твоя лошадка…» Очуметь! Под такую историю я просто кончаю. Невероятно, но основано на реальных событиях. И еще люблю документальные фильмы. Самые обычные. Когда трахаются крупные олени или два самца дерутся за толстую самку. Люблю смотреть, как белая медведица-мать со своими белыми детенышами спасается бегством от белого отца, который преследует их, чтобы сожрать медвежат. Мне нравится эта гонка белых толстяков. Или когда жеребец вскидывает передние ноги на кобылу и крупным планом видишь его огромный член. Да. Это возбуждает меня гораздо больше, чем порно, где негр демонстрирует нежной рыжеволосой красотке, что выросло у него между ног. Не понимаю, почему они вечно именно негру насаживают на хер длиной в полметра хрупкую рыжеволосую красавицу с нежной кожей. Должно быть, людей возбуждает контраст. Он огромный, она – фарфоровая статуэтка. Он черный, она – белая. Красавица и чудовище. Люди так глупы. Всему верят. Я негров не люблю. Да. Не люблю негров. Не люблю тех, кто проигрывает. Аутсайдеров. Людей, которые вынуждены улыбаться. И быть приличными. Я не люблю и сербов, которые живут в Хорватии. Представляясь, они говорят: «Бабич» – и тут же добавляют: «С Корчулы». А ни с какой они не с Корчулы. Они из Далматинского Загорья[3]. Из этого Подхуёбья, где фамилия Бабич означает нечто совсем другое. ОК. И там встречаются Бабичи-хорваты. Но Бабич, если он действительно хорват, никогда не оправдывается. И не уточняет: «С Корчулы». Хорваты просто уверены, что по ним сразу видно, что они хорваты. В Хорватии только хорватские сербы постоянно подчеркивают, что они хорваты. И лучше хорватов знают все новые хорватские слова. И пердят в адрес сербов. Откуда я это знаю? Ну… потому что… потому… дело в том, что и я «с Корчулы». ОК. Вот я и сказала. Теперь можете этот факт хоть в жопу себе засунуть. Я это сказала. Негром быть хреново. Им деваться некуда. Где ни появятся, сразу все ясно. Их никто не любит. У них толстые губы, желтые белки глаз… Вот я вам сейчас расскажу. Один мой знакомый был футболистом, в молодости. И они, футболисты, часто переезжали из города в город в автобусе. А в автобусе и в раздевалке все они ужасно пердели. Мы, женщины, когда нас много, никогда не пердим. Но мужчины устроены по-другому. Да. Короче, эти футболисты пердели, пердели и пердели, а потом к ним в команду пришел негр. Ну, ясно, он тоже пердел.
«Но, – рассказывал мой знакомый, – это жуть что за вонища была. Нам всем прямо блевать хотелось. Что только едят эти обезьяны?»
И они запретили негру пердеть. А сами воняли и дальше. Так что я хотела сказать? А, да. Негры черные. И их кто-то любит, кто-то не любит. ОК. Может, их мама-негритянка любит. Но они негры. И не могут выдавать себя за белых. Не могут добавить, что они «с Корчулы», и побелеть. Понимаете? А вот если ты серб в Хорватии, ну или сербка, тут дело хуже, чем с вонючим негром. Потому что можно добавить «Корчулу» и обмануть уважаемую публику. Этот номер проходит. Или не проходит. И тогда ты в жопе. Правда, в жопе ты и тогда, когда номер проходит. Время от времени. Потому что ты постоянно ждешь, что кто-нибудь узнает, что эту проклятую Корчулу ты отродясь не видал. Вот в чем дело. А с другой стороны, некоторые люди – сербы и чувствуют себя сербами. Они думают, что это нормально – быть сербом. Понимаете? Мама сербка, дед лежит на сербском кладбище в Бенковце, и на его камне в высокой траве что-то написано кириллицей, у них свои праздники и бородатые попы, которым разрешают жениться… А когда родится маленький серб, ему дают имя Алимпие, или Сава, или Танасие. И этот маленький серб или сербка, какая-нибудь Лепосава, с самого детства знают, что они именно это, сербы. Им все ясно. Они иногда могут сказать, что они «с Корчулы», но на самом деле они знают, что это не так. Понимаете? Но вот я! Мой случай. Это проблема. Я не сербка. А мне приходится добавлять «с Корчулы». Я не сербка! Я даже сейчас, буквально в этот момент, больше всего на свете хочу вскочить и заорать в темноту: «Я не сербкааааа!..» Но кого это тронет? Тем хорватам, которым это безразлично, я ничего такого и не должна орать в их хорватское ухо, а тем, кому это не безразлично, я ничего этим не докажу. Поэтому лучше быть негром. Я негр, и отъебитесь. А так – я белая, а все равно как черная. Проклятье. ОК. Дело было так. Я утверждаю, что именно так и было дело году эдак в пятидесятом. Вам-то все равно, годом раньше, годом позже, а мне каждый год на вес золота. Никак не могу примириться со своим возрастом. Это не из-за войны. Это у меня и раньше было. Моя старуха. Она, знаете, участник войны, с сорок какого-то. Вероятно, не с сорок первого, но со второго или третьего точно. Она всю войну была в окопе или где-нибудь поблизости. Проводила каких-то «товарищей» тайными тропами в лес. Только не спрашивайте меня, зачем эти люди уходили во всякие там леса. Понятия не имею. Меня ее рассказы никогда не интересовали. И я ничего не знаю о партизанах. Ну, может, самую малость. Знаю, что они все были жутко худые и что Партия не разрешала им ни воровать, ни трахаться. И что некоторые все-таки трахались. Все они в тех лесах питались одной травой, но вот некоторые, другие, главные партизаны ели мясо. Про это мне рассказывал мамин приятель, который несколько лет провел в лагере на Голом острове[4]. После того как в сорок восьмом задал вопрос, почему некоторые партизаны и ели, и трахались. Не люблю историю. И географию тоже. Если бы моя жизнь зависела от того, смогу ли я показать на контурной карте какую-нибудь Чазму[5], пришлось бы мне расстаться с моей единственной жизнью. Понятия не имею, где эта проклятая Чазма. И не смогу назвать ни одного из великих наступлений, или народных героев, или секретарей СКМЮ[6], кроме Лолы[7]. Про Лолу знаю, что он погиб молодым и что был секретарем. Правда, не знаю, ни чьим секретарем, ни где секретарем. Про товарища Тито я, конечно, знаю. Кстати, в отличие от вас, я его сто раз видела. Старуха, бабуля и я жили в Увале, а Увала как раз на том шоссе, по которому Тито ездил на Брионы[8]. Я сто раз бросала цветы на его кадиллак и бешено размахивала бумажным флажком. Мы, дети, тогда вовсе не воспринимали это как какую-то невероятную честь или исторический момент и не испытывали особого волнения. Девочки надевали синие юбочки, на тонкие ноги натягивали белые носочки, белую блузку на костлявые плечи и размахивали флажками, пока колонна не исчезнет за поворотом. А когда Тито проедет, переодевались, залезали на крышу старого ресторана и там играли в доктора. Я всегда была доктором. С помощью тонкой короткой палочки осматривала пиписьки своих подружек или щекотала маленькие яйца у мальчишек. И ни разу ни у одного из них не встало. Потом у нас начали появляться сиськи. Пока мы сидели на берегу, на раскаленных камнях, они приподнимались, набухали. А в море пропадали. Поэтому мы то и дело прыгали в воду и выныривали. А потом пришло лето, когда холодное море уже не помогало их усмирять.
На экране старики вытирают слезы. Что там у них произошло? Все равно не буду включать звук. Не стоило бы вам этого говорить. Но я все-таки скажу. Кики, когда уезжал в Любляну, поцеловал меня в гостиной и сунул пять плиток нестле в карман моего махрового халата. «Думай обо мне, пока я не вернусь». В настоящий момент я достаю из фольги остатки второй плитки. Чтоб у меня руки отсохли. Ненавижу баб среднего возраста, которые не могут себя контролировать. Я когда-то была тоненькой как тростинка. И моя старуха была в том пятьдесят каком-то году тоже похожа на длинную тонкую бамбуковую палку… Да! В пятьдесят каком-то! Приморский городок Опатия. Отдел по распределению жилплощади. Моя старуха сидит за деревянным столом. Может, и не за деревянным, неважно. Входит тот товарищ. Высокий. Брюнет. Усатый. В военной форме. На самом деле тот усатый товарищ был просто представителем. Кем-то, кто должен вместо кого-то другого, то есть другого товарища, посмотреть несколько еврейских квартир в Опатии, потому что один важный товарищ из Центрального Комитета переезжает на жительство в Опатию. А моя старуха должна показать ему эти квартиры. Идем дальше. Один из опатийских особняков. Прекрасная квартира на каком-то этаже. На третьем. Старуха поднимает жалюзи. Море! Давайте посмотрим квартиру. Три большие спальни, гостиная, ванная, два балкона, высокие потолки, большие окна… Да. В квартире сохранилась вся мебель. На стенах картины. Хрустальная люстра. Моя старуха в юбке, блузке, хлопчатобумажных носках и солдатских башмаках. Летом в солдатских башмаках? Почему? Вы меня об этом спрашиваете? Я это видела на фотографии. Товарищ и моя старуха заходят в одну из комнат. Товарищ заваливает мою старуху на кровать. Стаскивает с нее толстые трусы, которые ей шила тетя Милка. Фланелевые, в цветочках. Товарищ сует моей старухе между ног и впрыскивает туда меня. Старуха не кричит и не задает вопросов. Товарищ слезает с моей старухи, снимает с потолка хрустальную люстру, заматывает ее в серое покрывало. Старуха вытирается простыней. Еврейской, шелковой. Вода в доме была отключена.
– Это для товарища из Центрального Комитета, – говорит товарищ и показывает на замотанную в покрывало люстру. – Ну, счастливо, – говорит товарищ.
– Счастливо, – говорит моя старуха.
Четыре месяца она ждала менструацию. Тщетно. Потом рассказала свою историю еще одному товарищу, мужчине. Да, мужчине. Не товарищу-женщине. Тот товарищ поехал в Карловац, но оказалось, что Живорад Бабич, который был не с Корчулы, состоит в счастливом браке. Но он был честным коммунистом и человеком. И признал меня. Поэтому у меня в свидетельстве о рождении написано: «Имя отца: Живорад Бабич». Вообще-то о деталях старуха мне не рассказывала. Я просто предполагаю, что Живко оттрахал мою старуху в прекрасной еврейской квартире. Это мне как-то легче принять, чем еблю в опатийском парке или в кабинете сотрудника госбезопасности. Я никогда не смогла простить моей старухе, что она не вселилась в еврейскую квартиру. Хотя она могла выбирать. Она была шишкой. Преданной Партии до мозга костей. Если бы в пятьдесят каком-то ее не трахнул тот офицер из гэбухи, она бы умерла девушкой. Партия значила для нее все. Мы – она, бабуля и я – провели жизнь в полуподвале. Из этого полуподвала я смотрела на проходившие мимо ноги. Как они поднимаются и спускаются по ступенькам. Вверх-вниз, вверх-вниз. Некоторые ноги, идущие вверх, не возвращались, потому что лестница выходила на шоссе. А некоторые только спускались, потому что от шоссе лестница вела на набережную. А ведь мы могли бы жить в еврейской квартире! Это мне старуха как-то сказала. Полностью обставленной! С люстрой, картинами, мебелью, бельем, посудой… Прикиньте! Просто поселиться. И чувствовать себя людьми.
Я ненавижу бедняков. Они мне отвратительны. Я всегда думала, что буду богатой. Мы, собственно, в определенном смысле и богаты. Когда моему Кики удается продать пять-шесть контрабандных костюмов, мы получаем разом две тысячи евро. Сразу чувствуешь себя по-другому. Когда на шее у тебя паломапикассо, на ногах бруномали, когда ты одет в кашемир барберри… превращаешься в кого-то другого. Как-то раз, когда еще была война и затемнение, мы с Кики на нашем старом стоядине[9] везли за бугор полмиллиона марок… Дело было так. По ящику показывали сантабарбару. А наша Аки обожает сантабарбару. Так же, как и я; думаю, вы меня понимаете. Если не хочешь на границе вляпаться, нужно тащить с собой маленького ребенка. Таможенники ведь тоже люди. Когда они видят в машине маленького ребенка, или пакет с памперсами, или детское питание… в общем, они становятся немножко другими. Ладно, давайте я начну все с начала. Чтобы вы въехали. Мой Кики должен был переправить пятьсот тысяч марок одному своему деловому партнеру за бугром. Поэтому мы погрузили в наш старый стоядин и нашу Аки, которая все время ревела из-за сантабарбары. Когда мы обдумывали план действий, нам показалось, что этого недостаточно. Поэтому Кики купил в цветочном магазине похоронный венок, а на ленте попросил написать: «Прощай, наша любимая тетя Йожица! Твои Аки, Кики и Тонка». Прикинули? Типа мы в ночь-заполночь везем венок нашим родственникам в Илирскую Бистрицу. Это, если не знаете, село рядом с границей. Не торопите меня. Полмиллиона марок Кики запихал в Акин розовый барби-чемоданчик. Вы думаете, что полмиллиона марок это гора купюр? Вовсе нет. Хорватские таможенники нам только рукой помахали. Но не словенские! «Куда следуете?», «С какой целью?» Я все время сидела, печально опустив глаза из-за покойной тети Йожицы. Мы с Кики ужасно поругались из-за этого венка. ОК. Теперь я понимаю, что это было глупо. Как сейчас помню, когда Кики появился в кухне с этим венком, я сказала:
– Кики, как ты мог проглядеть, они же написали «Прощай, наша любимая…» на белой ленте. Белая только для детей…
– Не перди, – сказал Кики, – фиолетовой у них не было. Война. Все разобрали. Какая разница, какого цвета лента?
– Кики, – сказала я, – нельзя пренебрегать мелочами, когда везешь за бугор полмиллиона марок. Кики, мы можем жутко вляпаться из-за этой ленты. А вдруг таможенник спросит, почему «Прощай, наша любимая…» для тети Йожицы, то есть старой дамы, написано на белой ленте, хотя белая лента полагается детям и молодежи…
































