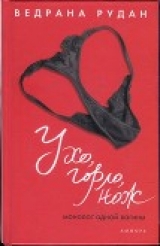
Текст книги "Ухо, горло, нож. Монолог одной вагины"
Автор книги: Ведрана Рудан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Я так и сказала: «молодежи». Чудное слово. Понятия не имею, как у меня эта «молодежь» с языка слетела. Кики просто осатанел. Жалко, что вы не знакомы с Кики. Он хороший. И мы с ним любим друг друга. Тридцать лет вместе прожили. Завтра я его брошу, но это не значит, что мы не любим друг друга. Просто люди, бывает, расстаются. A-а, ясно. Вас нервирует, что я собираюсь бросить Кики. Да. Кики редко сатанеет, но уж если осатанееееет! В тот вечер он осатанел! Он его швырнул. Венок. Изо всех сил треснул венком с прощайнашалюбимаятетяЙожица об пол. Кики вообще-то розовый. Я имею в виду цвет его лица. Но в тот вечер кровь куда-то отлила от его щек. Просто исчезла. Мой Кики разом стал белым. «Проклятая курва!» Мой Кики никогда, никогда, никогда не говорит мне «курва». «Это борьба за выживание! Борьба не на жизнь, а насмерть! Или мы попадем за эту вонючую границу или не попадем. Чего ты мне нервы треплешь? Чего ты мне голову морочишь? Лучше помоги мне! Помоги! Корова безмозглая!» Да. Тут Кики заплакал. Он скулил и скулил как дворняга. Я прижала к себе его голову, он сидел в кухне, на полу, рядом с венком с белой лентой. Да, я вам уже говорила. И скулил. Мне было грустно, что он назвал меня курвой. Но всегда можно найти смягчающие обстоятельства. И я прижала его голову к себе и сказала:
– Не плачь, не плачь, не надо… Просто я подумала, что нехорошо, если на венке для старого человека, для тети Йожицы, будет белая…
ОК. Вы не поверите. Кики захохотал. Громко. Да что там громко. Он заржал. Заржал, закинув голову. Я видела все его коронки. А под ними золото. Ему бы надо поменять их. Поставить полностью фарфоровые. По сто евро за штуку. Это куча денег. Только надо смотреть, чтобы не надули. Чтобы зубной, а они все жулики, не поставил фарфор и на верхние, и на нижние зубы. Потому что тогда что-то стирается. Когда зубы чистишь или жуешь. Не помню, что именно.
– Тонка, – сказал наконец Кики, – сконцентрируйся.
Ничего себе слово: «сконцентрируйся»! А он именно так и сказал: «Сконцентрируйся».
– Тети Йожицы не существует. Нет ее. Она не умерла. Она вообще никогда не жила. У нас нет ничего общего ни с какой тетей Йожицей. А даже если бы и было, то она бы плевать хотела на цвет ленты. Она же мертвая. Послушай, давай больше не будем об этом. Я устал.
Я прижимала голову Кики к своей груди, четвертый размер, 85С, и гладила его курчавые волосы.
– Кики, – сказала я. – ОК. Я понимаю. Но ты вспомни любой фильм. Преступники всегда прокалываются на мелочах. Всегда на мелочах. Строят грандиозные планы, а потом прокалываются.
– У нас нет грандиозных планов, – сказал Кики. – Я просто хочу, если только из-за тебя мы все не просрём, перевезти в Словению пятьсот тысяч марок. И за это Желько отдаст нам машину. Только это. Переправить проклятые деньги через границу. Это не грандиозный план. Красный ауди, который мы получим, стоит пять тысяч марок. Я не планирую заработать миллион марок! В фильмах попадаются те, кто играет по-крупному. Что такое ауди, которому семь лет? Херня, а не бизнес!
Я молчала. Потом мы сели в нашу заставу. И сзади посадили Аки. Словенцы начали нас расспрашивать, я вам уже говорила, а потом мы приехали в Илирскую Бистрицу, в один ресторанчик. Незанятых столиков почти не было. Тридцатое декабря. Пенсионеры, словенцы, праздновали свой Новый год перед общим Новым годом. Танцевали польку и хохотали. А потом официанты на огромном подносе, а может, это была просто доска, внесли здоровенного жареного поросенка с яблоком во рту. Пенсионеры зааплодировали. И я тоже. Аки была сонная. И тянула через соломинку колу.
– Кики, – сказала я, – им и в голову не приходит, что мы могли бы купить весь их ресторан и еще половину Илирской Бистрицы.
Кики был в жутком напряжении. А потом пришел тот господин. Темно-синий кашемир, темно-синий босс, рубашка босс, галстук босс и туфли чёрч. Классика. Кроме туфель. Кики передал ему барби-чемоданчик. Аки заревела. Он вышел. Потом вошел. Вернул Аки чемоданчик и погладил ее по головке. Аки всхлипывала. Мы сели в стоодинку. Не доезжая до границы, Кики остановился. Вытащил из машины венок, отодрал ленту с прощайнашалюбимаятетя и швырнул венок в кусты. Не знаю, поймете ли вы меня. Мне было очень тяжело. Почему у Кики нет никакого уважения к покойной тете Йожице? Этот венок, он ведь все-таки был знаком уважения. ОК. Лента была не та. Но мне было тяжело, что он зашвырнул венок под первый же попавшийся куст. А что если там кто-то насрал? Перед границей часто схватывает живот. От страха, стресса, паники. И поэтому мне было тяжело. Рядом с говном, засранными памперсами, полиэтиленовыми пакетами лежит венок для тети Йожицы. Мне было больно.
На экране плачут старики. Звук выключен, но я вижу их покрасневшие глаза. Вытирают носы и глаза. Старики никогда не пользуются бумажными платками. А когда идут на рынок, всегда останавливаются у палатки с трусами и майками из Турции, там есть и большие носовые платки. У моей старухи таких платков штук сто, и я всегда на день рождения покупаю ей носовые платки. Моя подруга, моя самая близкая подруга Элла считает, что это не ОК. Носовые платки для слез. Опять эти старики плачут. Я переключаю канал. Канал «Город». Интересно, почему по Корзо[10] прогуливаются только женщины-оглобли? Молодые девки. А где я? Почему меня на Корзо никто никогда не останавливает? Почему меня не снимают для ТВ? Мудилы, жертвы предрассудков.
Это была потрясающая замена. Мы пересели из стоединицы в ауди. Красный, здоровенный ауди-сто. Восемьдесят восьмого года. Я водить не умею. Нет, права-то у меня есть. Но водить не умею. Если я за рулем, вокруг сразу начинаются проблемы. Когда Аки была маленькой, это она мне потом рассказала, когда выросла, она просто умирала от счастья, если в садик ее везла я. «Все нам сигналят, гудят, а я им показываю язык». Тогда-то я этого не знала. То есть что гудят, знала. Помню. Идиоты. Кретины. Засранцы. Вечно они спешат. Я на права сдавать не хотела. В семьдесят восьмом. Кики настоял. Ты должна это сделать, должна, должна. ОК. Не люблю ссориться из-за всякой херни. И из-за крупных вещей тоже. Ну, отправилась я на курсы. Понять я там ничего не могла. Наверное, я очень глупая. Мы там заучивали идиотские тесты, но я в них ничего не понимала. Ваши действия в случае, если посреди дороги вы увидите камень. Убрать его? Оставить? Отпихнуть ногой? Отметьте правильный ответ! Ну что за бред! Такой же бред, как начертательная геометрия в гимназии! Должно быть, Кики кому-то заплатил, раз я сдала эти тесты. И вождение. Ненавижу водить. Я всегда обливаюсь холодным потом, когда веду машину. И всегда удивляюсь, почему люди считают, что это нормально, когда видят меня за рулем. Многие водят машину. Все водят. Но я знаю – тот факт, что вожу я, это ненормально. Это безумие. Вчера я выезжала на кольцевую. И мне надо было влиться с второстепенной дороги на главную. А перед этим остановиться. Потому что у них, на главной, преимущество. Короче, я не остановилась. И не посмотрела. Тип успел затормозить. Но все равно стукнул наш красный ауди-88. Да. Причем стукнул и меня. С моей стороны. Левая рука теперь болит. Поэтому держу пульт в правой. Вообще-то я левша.
Опять эти старики плачут. И разворачивают свои носовые платки. Странное занятие. Высморкаться в большой носовой платок, а потом развернуть его и рассматривать содержимое. Не люблю людей, которые целыми днями рассматривают все, что из них вылезло. Мой Кики просто помешан на своем говне. Какое оно – черное, светлое, темное? А потом расспрашивает меня, что это значит. Я редко читаю «Домашнего доктора», так что не знаю. Знаю только, что если насрешь черным, то это рак, правда, такое может быть и от свеклы, черники и красного вина. Чернику мы покупаем редко, она жутко дорогая. Я ее ела очень давно. Когда у меня железо в крови было два. Железо в крови два?! Это же кома. Ну, типа, ты мертвый. Такое бывает, если лейкемия, или рак, или какая-нибудь другая дрянь. И меня положили в больницу. Я ужасно, ужасно, ужасно боюсь докторов и смерти. Все время представляю себе, что доктор мне говорит: «Садитесь, прошу вас» – и смотрит на меня так серьезно-серьезно. ОК. Я знаю, что и этот серьезный доктор тоже помрет. И что он только для вида серьезен, а на самом деле ему на меня плевать. И что мне тоже было бы на него плевать, если бы я была обязана на него смотреть с серьезным видом. Но это меня не успокаивает. Когда у меня нашли железо два, была пятница. В больницу я должна была лечь в понедельник. Я купила черничный сок и еще пила красное вино и железо в таблетках. И у меня начался понос. Черный. Я сидела на электрообогревателе, и меня трясло. Человека трясет, когда у него лейкемия или рак. Меня так трясло, что я не могла держать рот закрытым. Не помню уже, почему мне было важно закрыть рот. Чем мне мешал открытый рот? Я держала себя рукой за подбородок. И тряслась. И плакала. И плакала. И плакала. Я иногда просто ненавижу мысль, что умру. А остальные останутся. Я не думаю, что моя песенка спета. Я люблю заходить в дьюти, покупать паломупикассо, я хочу развестись, выйти замуж за адвоката Мики. Он приедет за мной завтра утром, в семь. И я схвачу его за яйца. Это я вам уже говорила. А потом Кики отвез меня в отделение «Скорой помощи».
– Ложитесь, – сказал мне молодой доктор и вкатил в задницу шприц апаурина.
Я очень плохо засыпаю. Это из-за климакса. Или из-за войны. Я вообще не сплю. Вот и сейчас на экран пялюсь. Я вам говорила про этих стариков. А сейчас я смотрю канал «Город». Выборы. На Корзо шатры. Местные политики зазывают народ к себе, в свои шатры. Мать их за ногу! Я на выборы никогда не хожу. Политику я в гробу видала. С апаурином в заднице я спала, спала, спала. В больнице главный врач отделения спросил меня:
– Сколько прокладок вы тратите за время менструации?
Идиотский вопрос.
– Не знаю, – сказала я.
– Пейте железо и ешьте конину.
Я очень люблю лошадей. Но не в виде конины. Конь для меня это не то же, что конина. Но я ничего не сказала этому старому мудаку. В палате вместе со мной было еще четыре женщины. У одной был огромный живот. Но она не была беременной. У нее был цирроз. Она реально умирала. А физкультурница каждое утро поднимала ее из кровати и прогуливала по палате. Женщина с трудом передвигала ноги.
– Мы никогда не теряем надежду, – сказала мне докторша. – Поэтому она должна стараться поддерживать форму. Надежда всегда есть.
Надежда? Надежда для желтого, сгнившего, измученного тела?
А потом эта женщина попросила каффетин. У них не было. Апаурин. Не было. Андол. Даже его не было. Она кричала от боли. Весь день. И ночью. Можете мне не верить. Но в три часа ночи я вызвала такси. И вернулась домой. Как-то неуверенно позвонила в дверь. Вообще-то неуверенной меня не назовешь. В себе я уверена. Сиськи у меня еще торчат, потому что я не худая. Волосы всегда прокрашены до самых корней, на зубах прекрасные коронки. А если можешь свободно смеяться, то сразу молодеешь лет на десять. Читайте лизу. И тем не менее в ту ночь уверенность меня покинула. А что если Кики не один в нашей постели? Что если он меня списал? Что если у меня рак, а мне этого просто не хотят говорить? У меня вспотели ладони, я дрожала на пороге собственного дома. Постояла немного. Потом позвонила. И еще позвонила. Кики очень крепко спит. Открыла мне Аки. Я рассказала ей про женщину с циррозом. И завалилась в кровать. Умру дома. Прижалась к Кики. Схватилась за его маленький член и заснула. Когда-то мне трех зеленых таблеток хватало на целую ночь и еще полдня.
Включить вам звук, чтобы вы узнали, о чем говорят старики? Нет. Это депрессивно. Может быть, вам не понравится. Может быть, вы не любите слушать грустные истории в это время суток. В какое такое время суток? Вот в это. Мне-то какая разница, два часа ночи сейчас или пять утра. Я жду семи.
Короче, я вам уже говорила. Тот тип врезался в меня с моей стороны, слева, поэтому у меня и болит левая рука. Я все делаю левой. Правой только пишу. Когда пишу. А я никогда не пишу. Кому писать? Когда тот тип, а он оказался на вид настоящим господином, вылез из своей машины, не знаю какой, я в этом не разбираюсь, он заорал:
– Вы ненормальная! Вы что, ненормальная?! Вы же могли убить и себя и меня!!!
Я уже говорила вам, что ненавижу дискуссии, крики и споры. Я никогда ни с кем не ссорюсь. И я просто смотрела на него.
– Что вы молчите? Кто вам только права выдал?
Я сказала:
– Отдел МВД Матуль, в семьдесят восьмом. Я у них сдавала экзамен, но сейчас там этих курсов больше нет. В том здании. Там сейчас продают холодильники. Бош. Я это случайно знаю, мы недавно там купили большой бош, по карточке, поэтому я и знаю. В кредит. Я только не знаю, под какой процент…
Господин смотрел на меня во все глаза.
– Простите? Вы не в своем уме? Или вы пьяны?!
Я никогда не пью. И почему он решил, что я ненормальная? Люди всегда считают тебя ненормальной, когда начинаешь отвечать на их вопросы. Он же сам спросил: «Кто вам выдал права?» Я ответила: «Отдел МВД Матуль». Что не так? Может быть, надо было молчать? Вызвать своего адвоката? Наорать на этого господина и послать его на хуй? Признать свою вину? «Я виновата». Но он не спрашивал меня, виновата ли я. Он спросил, кто выдал мне права. Приехала полиция. Мы дули в пробирку. Я вам уже сказала, что никогда не пью. Наши машины увезли. Завтра я ухожу от своего Кики. И чего мне будет не хватать? Нашего старого красного ауди-88? Я вам главного не сказала. Почему я люблю эту машину. Когда я сижу за рулем в ней, мне никто не сигналит. Я могу просто ползти по дороге, и они видят, что я женщина, а все равно не сигналят. Понимаете? А когда я рулила стоодинкой, все сигналили непрерывно. Как будто я еду в свадебной колонне. И в зеркале заднего вида я всегда видела негодующие физиономии. Или мрачные. Или злобные. Я вам сейчас сразу сформулирую мою главную мысль, потому что не люблю, когда тянут резину. В ауди я чувствовала себя богатой и преуспевающей и важной. Когда я сидела в ауди, внимание было обращено не на меня, а на машину. Ненавижу, ненавижу, ну просто ненавижу, когда на меня пялятся. Когда меня замечают. Когда мне сигналят. Когда на меня кто-нибудь уставится, я просто сатанею. И не люблю отвечать на вопросы. Я от этого всегда нервничаю. Очень. Война? Это из-за войны? ОК. Пусть из-за войны. Я не требую от государства материальной компенсации за то, что я нервничаю. Да, я действительно нервничаю. Но у меня есть на это право. Понимаю, вы сейчас скажете, что я патетичная, неуравновешенная баба, которая не понимает, что такое война и что они с нами делали. Я вас понимаю. «А что они с нами делали». Но мне плевать на нас. Что они со мной сделали! Со мной! Со мной!! Со мной!!! Этот мой, извините за выражение, отец, это сербское говно, который сделал меня в пятьдесят каком-то… Да, в пятьдесят каком-то! Да! Зачем он меня признал?! Моей старухе было насрать на это. То траханье не стало для нее какой-то травмой. Она без проблем ходила с животом да еще получила за меня дополнительные карточки, постное масло, сахар плюс пятьдесят метров бязи на пеленки. Она не нуждалась ни в чьей любви. Она любила Партию, какой бы херней нам с вами это ни казалось. Я для нее была подарком от Партии. Который она получила через делегата Партии. Я пыталась, тысячу раз пыталась узнать у моей старухи, почему она не хотела получить от Партии еще что-нибудь. Впустую. «Я не за это боролась». «Это»? Что это за «это», не за которое ты боролась, корова глупая? А за что ты тогда боролась? Моя старуха сейчас померла бы с голоду, если бы Кики не продавал то костюм, то галстуки. «Зато я могу спокойно спать». Правда? Но я-то спокойно спать не могу, мама! Какого хрена ты меня лишила сна? Какого хрена этот чертов Живко признал меня? «Такое было время». Вот это время тебя и наебало, мама! Да, наебало тебя это ёбаное время, мамочка! Сейчас я вам расскажу, как я получала новый хорватский паспорт.
Я смотрела прямо в ее глаза. В глаза этой сучки, служащей паспортного отдела. Обычные глаза. Карие. Утомленные. Мутноватые. Типа, как ваши.
– Где находился Живорад Бабич… – процедила она.
– Живко, – сказала я, – Живко…
– Где находился Живорад Бабич в сорок седьмом?..
– А какое это имеет отношение… – начала я.
– Вон! – выкрикнула она. – Убирайтесь!
Я вышла из этого зала. У двери стояли два полицейских; когда я входила, их здесь не было, а хвост ожидающих теперь тянулся до самой Белградской площади, которая теперь называется по-другому. Я пробиралась через всех этих мусликов, албанцев, боснийцев и сербов, которые строили из себя хорватов, и думала только о том, как бы мне не задохнуться. Можете говорить обо мне что угодно. Но я не чувствую себя сербкой. Я не сербка! Я не сербка! Я не сербка! И отъебитесь от меня с вашим ёбаным Бабичем! Я зашла в кондитерскую на площади. Хотела выпить немного воды. И одну зеленую таблетку, ноль пять. Тогда мне этого было достаточно. И знаете что? Люди буквально шарахались от меня. И морщили носы. Тут до меня доперло, что я обосралась. Реально обосралась. Я зашла в туалет и сняла трусы. И увидела говно. Темного, почти черного цвета. И я почувствовала, вы мне не поверите, но мне плевать, почувствовала какое-то облегчение, даже радость. Вот видите, что вы со мной сделали! У меня развился рак! У меня рак прямой кишки! Сучка, это останется на твоей совести! Правда, у нее никакой совести нет! Теперь вы поняли, что это она была сербка?! Там, где сербы, хорватам делать нечего! Этой сербской пизде наплевать на мою сербскую жопу. Она свою бережет! Но я чувствовала себя настоящей праведницей. Чувствовала свое величие, осиянное луной и звездами. Чувствовала себя невинной жертвой. А потом вспомнила, что Кики обменял шесть галстуков на килограмм черники. Боро, ну, тот Боро, с рынка, собирался ехать к кому-то на свадьбу, и ему почему-то как раз были нужны эти галстуки. И до меня доперло, что говно у меня черное вовсе не потому, что я невинная жертва, а оттого, что сожрала слишком много черники на пустой желудок. А Кики потом дал этой бляди тысячу марок, и мне выдали новый паспорт. Слышу, слышу, как вы спрашиваете: а квартиру ты выкупила? Выкупила. Так какого хрена тогда возмущаешься? А что они с нами делали? Такое было время. Но сначала я получила отказ. Это вам говорю я. И вы получили отказ. Мы все получили отказ! ОК. Но вы получили отказ не потому, что вы вонючие сербы. Вы просто получили отказ. Потому что такие трудные времена. Вы не негры. Вы белые. Так ведь и у белых не всегда все гладко. Это так. Я была бы счастлива получить отказ в качестве ленивой белой коровы. Или в качестве белого излишка населения. Может быть, вы и правы. Кто виноват, что моя старуха переспала с первым же Живко, который перед ней вытащил из штанов свой гэбистский член? В пятьдесят каком-то году. Да! В пятьдесят каком-то!! Вот. Если бы моя старуха не стала тогда сербской подстилкой, я была бы не Бабич из Загоры, а Бабич с Корчулы. ОК. Вы правы. Но если бы моя старуха трахнулась с Бабичем с Корчулы, меня бы не было. Обо всем этом я уже думала. Как раз в этом и есть проклятая загвоздка. Проклятая дилемма! Проклятое говно сраное! Или ты сербка, или тебя нет! До вас доходит? Разумеется, доходит. Вы не идиоты. Но вы и не сербы, так что вам на это насрать. И вам насрать на то, каково было мне. У меня есть лучшая подруга. Элла. Она осталась рядом со мной, не бросила меня. Вы понятия не имеете, что я тогда испытала! Сидишь в кабинете на работе. И тебе никто не звонит. Никто тебя никуда не зовет. Сидишь в полном одиночестве. Голая. Как французская шлюха, которая всю войну терлась среди немцев, и теперь ей обреют голову. Пока не обрили, но вот-вот обреют. Ты – как шлюха с еще волосатой головой, но ждать осталось недолго. Элла звонила мне каждый день. И делала вид, что уверена в том, что все это скоро кончится. Как будто тот Живко это воспаление мочевого пузыря или грипп. И нужно просто посидеть в тепле, попить чай из медвежьих ушек. И от Живко следа не останется. А что они с нами делали? Ну вот, вы опять за свое. Ну так что с того! Что с того, что они с вами делали! Что они вас затрахали! Ну и пусть! Пусть! Пусть! Что, вы теперь на меня настучите?! Убьете?! Запишете в четники[11]?! Объявите меня четницкой подстилкой?! Но Кики не четник! Он хорват! И Мики хорват! И я никогда не трахалась с четниками! Только с хорватами! Это вы трахались с четниками! Зачем вы меня бесите?! Какого хрена?! Я спокойно лежу себе в кровати, старики на экране подтирают носы своими огромными платками и плачут. Ночь теплая, или холодная, или дождливая, или ветреная. Я держу в правой руке пульт и рассказываю вам свою историю. Зачем вы меня заводите? Я сама завожусь? Я?! Вы так считаете? Но вы в большинстве, а я в меньшинстве. Почему вы считаете, что мне следует расслабиться и не обращать внимания? Мне кажется, что нас совсем немного осталось, нас, Бабичей, которые не с Корчулы, так что, может быть, хватит уже нас трахать. Наш вопрос решен. «Наш»?! Вот, видите, до чего вы меня довели? Я уже стала «мы»! Я превратилась в мы! Наш вопрос?! Какой, на хрен, наш вопрос?! Я это я! Я! Я это я! На дверях нашей квартиры написали краской из баллончика: «Вон из Хорватии!» Кому они это написали? Мне?! Мне, которая вообще не ориентируется в географии и которая никогда не жила «там»?! Соседи перестали со мной здороваться. А Михайло, хозяин мясного магазинчика на первом этаже нашего дома, вдруг превратился в Мирослава. И за одну ночь стал хорватом. И не захотел продать мне полтушки курицы, а ашана у нас тогда в городе не было.
– Тонка, я не хочу, чтобы у меня появились проблемы из-за тебя.
Сербское говно! Я вдруг из «госпожи Тонки» стала для него просто «Тонкой». Мы переселились к Элле. Я боялась, что меня прирежут, если я останусь дома. Я каждый вечер баррикадировала входную дверь старым бойлером и еще придвигала большой стол. Кики был против этого.
– Не превращайся в шизофреничку.
Я ночи напролет вслушивалась в шаги на лестничной клетке.
– Я не хочу, чтобы они застали меня врасплох. Я буду сопротивляться! Я не хочу погибать покорно, как погибали эти глупые евреи!
– Запомни, – сказал Кики, – ты никакая, к чертовой матери, не Анна Франк. Да им насрать на тебя. Ты для них ничего не значишь! Если бы они захотели прирезать всех тех, кого сербы переебли по всей Хорватии, в этой стране не осталось бы женщин.
Это прозвучало довольно грубо. И это неправда. Поганый лжец! Я что-то не знаю женщин вроде меня. Или матерей вроде моей старухи. Послушать Кики, так получается, что почти все хорватки просто сербские подстилки. А это не так. ОК. Я не хочу сказать, что моя старуха шлюха или сербская подстилка. Но этого Живко я ей простить не могу. Не могу и не прощу. В те годы, только не спрашивайте, в какие именно, я в истории не ориентируюсь, я по телефонному справочнику начала названивать всем Бабичам на Корчулу. «Алло, я Тонка, Тонка Бабич с Корчулы… Я не знаю своего отца, ищу родственников… Если можете…» На том конце всегда бросали трубку. Корчула была тогда окружена военными кораблями. Да и в моем окне они тоже маячили. Им, Бабичам с Корчулы, плевать было на какую-то Тонку Бабич, по голосу которой сразу было ясно, что она не с их острова. По ночам я не спала. А днем вместе с другими участниками «кольца любви»[12] орала перед армейской казармой города. Мы, женщины и мужчины, кричали и требовали, чтобы из комендатуры вышли эти поганые сопляки, солдаты поганой ЮНА. И тогда мы им покажем! И тогда мы их порвем! Если бы я могла, я бы тогда всем этим ребятам собственными руками свернула их поганые тонкие югославские шеи. Свернула бы шею, подняла мертвое тело повыше и прокричала бы на все Корзо: «Смотрите! Смотрите, на что способна Бабич с Корчулы!» Но проклятые солдаты все никак не выходили. А конкретно в тот день я чуть не обосралась. Мы там уже долго стояли и орали. Глаза у всех вытаращенные, рты разинуты. Давка была страшная, мы там были как шпроты в консервной банке. Из орущих ртов воняло: и от курильщиков, и от тех, кто не чистит зубы, и от диабетиков. От диабетиков всегда несет чем-то совершенно особенным. Ну, в общем, мы митинговали. И вдруг прямо передо мной возникло лицо одного очень приличного господина. Я почувствовала запах готье. Готье я знаю отлично. Так пахнет от Кики.
– А вас я знаю, – прорычал он.
Вот тут-то я чуть и не обосралась. Да еще так, как никогда в жизни. Что если он меня схватит за горло? Куда бежать?! Ладони у меня стали холодными и влажными. Во рту пересохло. Да. Вся жизнь промелькнула у меня перед глазами. Как я прыгала в море в Увале, как моя бабуля ела яблоки, как было видно по ее тонкой шее, что кусочки проходят вниз через горло, как я познакомилась с Кики на Слатине, когда я упала и ободрала колени и порвала ажурные чулки. Как Кики меня трахал на пляже в Опатии, в первый раз, а я рычала. Он думал, что это от дикой страсти, а мне просто в задницу вонзился осколок разбитой бутылки. Как я лежала на животе на теплом песке, а Кики извлекал из моей задницы этот осколок. Как я забыла, каким было это первое траханье, потому что впечатления от него смешались с впечатлениями от осколка пивной бутылки. Как моя Аки пошла в школу. И как она боялась заходить в класс, хотя ей было уже семь с половиной лет, и как только она одна плакала. И я пошла с ней. На каждой парте лежали полевые цветы. Для этих детишек. И я плакала, и плакала, и плакала. А потом я вспомнила, что никогда не обнимала мою старуху. Что я должна обнять ее несмотря ни на что, обнять и поцеловать. До смерти. Моей, конечно. И дальше мне пришло в голову, что я люблю Кики, но уже много лет никогда не говорю ему этого. И я захотела сказать всем этим соплякам из комендатуры: «Сопляки, не бойтесь, я никому из вас не сверну вашу югославскую шею», – и тут я вспомнила, что вышла из дому в черном лифчике и белых трусиках и в драных черных колготках под брюками. И меня разденут в морге перед вскрытием и скажут: смотри-ка, у этой вонючей сербки не нашлось белого лифчика…
– Вы меня не знаете, – сказала я ему.
– Знаю, – сказал Готье весело, – вы мама девушки моего сына.
– Нет, – сказала я весело, – я сама девушка вашего сына.
И мы улыбнулись друг другу. А потом опять заорали.
Так на чем я остановилась? Да. Я ужасно нервничала. И поэтому мы переселились к Элле. Аки отправили к моей старухе, в Увалу. Во время войны у моей старухи никогда не было проблем типа «четницкая шлюха». Странно. И у Аки не было. Только у меня. Элла снимала жилье в районе Брда. Там плохие квартиры. Сборные дома, из готовых элементов. Тонкие стены, Даже не знаю, как вам это описать. И еще: в те годы у всех молодых семейных пар были двуспальные раскладные диваны производства «Горанпродукт Чабар». Обитые неокрашенной рогожкой. Это выглядело очень классно, отвязанно. Но на них было невозможно спать. Тем не менее мы с Кики улеглись на разложенный диван. У Эллы я чувствовала себя в безопасности. Только не спрашивайте почему. Не знаю. По ночам я больше не пила апаурин и не прислушивалась к звукам шагов на лестнице. Но зато я слышала, как Элла и Борис трахаются. Каждую ночь. Борис хрюкал. Как кабан. То есть это я предполагаю, что такие звуки характерны для кабанов. Я не могу знать это наверняка, я же не какой-нибудь вонючий охотник, который бродит по лесам и выслеживает кабанов. И за грибами я не хожу, как моя крестная, которая боится медведей и поэтому каждые пять секунд свистком подает сигналы крестному. А он от этого просто звереет. Потому что ненавидит звук свистка и не боится этих ёбаных медведей. Элла испускала высокие горловые тона. Как птица, которая одной тонкой лапкой попалась в силок. Если, конечно, у птиц в такой ситуации это принято. А потом шептала: «Тише, тише…» А потом снова хрюканье кабана и писк птицы, попавшей лапкой в силок… Как-то ночью я схватила Кики за член. Он ведь все это время не трогал меня, с пониманием относился к моему психологическому состоянию. «Не хочу тебя насиловать» – так говорил мне Кики. И вот как-то ночью я схватила его за член. И мы с ним потрахались. Я не кончила, но рычала и громко стонала. Просто так, назло всем. Пусть слышат, как вспарывает их хорватский воздух наш сербский рык и стон. И что я за глупая корова, да, глупая, глупая корова…
Когда я познакомилась с Мики? Как? Где? Хорошо ли он ебётся? Как это так, что мне уже столько лет, а ему на двенадцать меньше? Женат ли он? А дети? А не пидор ли он? Где мы будем жить?.. Ну что за вопросы! Что за банальные, глупые вопросы? Ну-ка давайте я вас порасспрошу. Изменяете ли вы вашему мужу? Может ли кончить ваша любовница? Почему ваши взрослые дети до сих пор по ночам писаются в кровати? Почему дочка у вас потаскуха? Как это вы ничего такого не знаете, когда это известно буквально всем? Почему вы платите по двести евро за каждый экзамен вашего сына? Почему вы ебёте лучшую подругу своей жены? Почему вы на весь свет пердите, что вы хорват, а на самом деле вы вонючий муслик? А хорватский паспорт получили только после того, как жирный, вечно пьяный поп с Истры покрестил вас за пятьсот евро плюс обед в ресторане его родного брата. И вы, Хаджиселимович, стали хорватом. Говно. Говно. Говно. Почему вы так любите рыться в чужих жизнях? Почему не приведете в порядок свою собственную маленькую ёбаную жизнь?! Говно любопытное! Ладно, хрен с вами! Сегодня ночью у меня прекрасное настроение. Я отвечу на все ваши вопросы. Эти старики в телевизоре. Это просто жуть. Журналистка сует им микрофон прямо под нос, а сама ненавязчиво, как бы спонтанно, пускает слезу за слезой. А камера показывает ее слезы крупным планом. Вот блядь! Лживая блядина! Плачет! Для репортажа. А намазана так, что слезы прямо по краске катятся. И хоть бы что. Даже глаза не краснеют. Остаются красивыми и блестящими. Ее грусть ненавязчива. Она тонкая. Благопристойная. Хорватская грусть. Когда я вижу такую гадюку, мне даже приятно, что я сербка. А не такая, как она, слюнявая хорватка. И мне приходит в голову, что эта гадюка, может быть, на самом деле такое же, как я, сербское или другое говно, а вовсе не коренное население, которое тоже говно, и мне делается легче, В общем-то эта проблядь зарабатывает свой хлеб тяжелым трудом. Репортеры. Вы считаете, что репортеры это герои. Они снимают на линии фронта. Они часто отдают свои жизни. Благодаря им многое изменилось. Если бы не репортеры, то здесь бы еще было… Ну что вы за глупые макаки! Что бы здесь такое было, если бы не было репортеров? Какой бы была моя жизнь, если бы не было репортеров? Я вам скажу, ослы тупые, она была бы такой же! Такой же! Готова поклясться вам сербским членом моего отца Живадина, что репортеры никогда ничего не могут изменить! В смысле, к лучшему. Никогда! И ничего! Вы считаете, что лучше бы мне помолчать! Что такого не стоит говорить! Репортеры всемогущи! Уверены в себе! У них сила! И с ними нужно поосторожнее! С улыбкой! А как они узнают, что я о них думаю? Как? На дворе глухая ночь. Это останется между нами – вами и мной. Вы же не станете об этом трубить. Никому не расскажете? Я буду очень рада, если не расскажете. Я была бы очень рада, если бы вы оказались головой без языка. Так в Далмации называют людей, которые умеют помалкивать. Не трещат на всю округу. Людей, которые умеют хранить тайны. Их поэтому и называют «голова без языка». Вот отличное выражение! Как это прекрасно, прекрасно, прекрасно сказано! ОК. Вы сейчас скажете, что я язык без головы. Потому что все время трещу. Ладно. Мне нравится и «язык без головы». Просто супер. Супер! У меня есть собственное мнение о репортерах. Я знаю, что они самое настоящее говно. Но у меня не хватит духа встать посреди площади Бана Елачича[13] и начать пиздеть на эту тему. Просто не хватит духа. Репортеры! Дешевки! Говнюки! Страна находится в тотальной жопе. Мрак и тьма. Голод и скандалы. Вы думаете, это из-за войны? Да ни хуя не из-за войны! Вы уверены, что это вспыхнула огнем тлевшая пятьдесят лет ненависть между сербами и хорватами? Неплохое слово «тлевшая»! Неплохое! И вы верите в этот рассказ о тлевшей ненависти?! Значит, я, сербка, пятьдесят лет ненавидела вас, хорватское отродье, а теперь за все отыгралась? Только не на том футбольном поле. Значит, я, получается, агрессор, но агрессор, у которого нет никаких шансов, потому что со всех сторон вокруг меня благовоспитанные человеколюбцы. Если бы я оказалась в Белграде, то ела бы мясо хорватов без хрена! Кстати, от хрена у меня всегда обостряется геморрой. Ладно, что с вас взять, не такое уж вы говно. На самом деле вам насрать, кто меня тогда сделал. Живко или Анте. Вам же журналисты объяснили, кто я такая. А журналистам на меня тоже насрать. Они не те люди, которые обо мне хоть что-то думают. И они не люди, которые неправильно думают. И они не люди, которые вообще думают. Они просто наемная рабочая сила. Что хозяин скажет, то для них и закон. У репортеров нет денег; будь у них свои деньги, машины, квартиры, дома, яхты, хрена лысого они бы поставили все это на карту ради того, чтобы распространять в мире истину. Вы следите за тем, что я говорю, вы, придурки с промытыми мозгами? Этим парням и тёлкам кто-то платит. Чтобы они поднимали панику и раздували скандалы. И тогда у вас на меня встает. И вы начинаете меня ненавидеть, хотя я ни в чем не виновата и никогда, никогда, никогда, никогда не видела этого проклятого, проклятого, ёбаного Живко! Чтоб его бродячие псы заебли! И мою бабулю Живадинку! Бабку! Бабку Живадинку! Бабуля – это мама моей мамы. Вот! Видите! Репортеры! Репортеры в Хорватии! В Хорватии у каждой газеты есть хозяин. И свои священные коровы. Нет ни малейшего шанса, чтобы репортеры газеты «Восток» опубликовали материал о том, что политик изнасиловал пятилетнюю девочку, если этот самый политик их священная корова. Но те же самые журналисты с радостью напишут про то, как девочку изнасиловал кто-то другой, какой-то зверь из соседней клетки, хотя он и не думал ничего такого делать. Смекаете? Они нахерачат что угодно, если это им выгодно. Вот эта гадина на экране. Какого хрена она там плачет? Из-за дрожащих стариков, которые все потеряли во время войны? Да она эту войну в гробу видала. Если бы не война, ее тупая физиономия никогда не попала бы на экраны. Когда идет война, когда все вокруг одно дерьмо, шефам срочно требуются глупые физиономии с огромными глазами, полными неиссякаемых слез. И они их находят. И их красивые ротики вываливают на нас всякую хуйню. Я на такое не покупаюсь. Эта блядина может хоть вся превратиться в море слез. Она может излить свои прекрасные глаза прямо себе между ног. Мне на это плевать с высокой башни. Я ей ни за что не поверю. И не стану включать звук. Реви, сучка, без меня! Вижу, вы меня не вполне понимаете. Считаете, что я преувеличиваю. Что это происшествие, ну, сегодня утром, вывело меня из равновесия. Вы не в своем уме! Это же не первое ДТП в моей жизни. Повторяю, машина врезалась в меня сбоку и ебанула меня в левую руку, а не в голову. ОК. Не понимаете? Ладно, давайте попробуем с другой стороны. Возьмем американов. Они во всех газетах. На экранах всего мира. Все международное сообщество говорит о несчастных талибанках. Каково им под паранджами. И в тапочках на ногах. Весь мир, весь, весь, весь мир говорит об этом. Как американы пошли воевать, чтобы освободить талибанок от паранджей и тапок. Чтобы талибанки могли шагать свободно и в чем хотят топотать толстыми пятками. Пусть эту хуйню проглотит кто-нибудь другой. Я на все это кладу настоящий сербский член, которого у меня нет. Если верить писанине репортеров, то получается, что американы – это борцы за свободу. Какой пиздёж! Получается, они приходят и вытряхивают эту свободу из своего хуя? Идем дальше. Но только не спеша, чтобы вам все было ясно. Вин Ладен разрушил их «близнецов». Трудно поверить, но нам в мозги вдувают именно это. У американов есть и ЦРУ, и ФБР, и спутники, и все что хочешь. Вот, к примеру, я сейчас пёрну, хотя я не позволяю себе пердеть в кровати, ну разве что только когда Кики крепко спит, тут я могу тихонько пёрнуть… да и то тут же поднимаю одеяло и проветриваю. Понятно… Но так, для примера, вот стоит мне сейчас здесь пёрнуть, как ёбаные американы тут же это где-то зарегистрируют. И где-то будет записано: «Тонка, дочь (надеюсь, уже покойного) Живко Бабича (разрази гром его мать Живку, если ее звали или зовут Живкой), пёрнула в…» И запишут точное время. Въезжаете? А про то, что готовится нападение на этих их ёбаных «близнецов», они, выходит, не знали?! Не знали?!! Я вас умоляю! Что вы так задышали? Что вы так возмутились? Вы же кретины! С промытыми мозгами! У вас ботва в головах! Вы верите репортерам! Да! Теперь сделайте глубокий вдох! Да! Я совершенно не сомневаюсь, американы принесли в жертву несколько тысяч своих же американов, чтобы оправдать свое нападение на талибанское отребье. Что им там нужно, нефть или какая другая херня, я не знаю. Но в том, что это никакая не борьба за свободу несчастных женщин, я абсолютно уверена. Вам кажется неправдоподобным, что американы погубили своих граждан. Американов. Оп-па! Оп-па, дамы и господа! А кого же еще?! Венгров? Кого приносят в жертву политики, чтобы поднять на ноги тупой народ? Своих граждан! Которые им ни с какой стороны не «свои» граждане. Они им просто граждане. Народ. Стадо скотов, электоральная масса. Мясо для пушек и мин, пассажиры для боингов с пилотами из Аль-Каиды. Пять тысяч американов отправилось на суд Божий. Остальные опизденели. И этим остальным политики урезали все права, а несколько тысяч из них отправили хрен знает куда срывать с талибанских женщин чадры. Въезжаете? Ни хера вы не въезжаете. Так и я бы не въехала, если бы моего отца не звали Живко. Если бы моего отца звали Хрвое, я тоже не въехала бы. Я бы не учуяла жертву. Жертву может учуять только жертва. Я не жертва? А что они с нами делали?! Еще раз говорю вам, оставьте меня в покое. Какая связь между мной и «ими»? А какая связь между талибанками и американами? Связи нет, но она есть. Я, дочь покойного, как я надеюсь, Живко, и ёбаная талибанка под чадрой – мы с ней одно и то же. И мы одно и то же с тем американом, который хрен знает как далеко от своего дома срывает с талибанских женских ножек их ёбаные тапочки. Кто-то от нашего имени играет в свои игры. Ради нашего блага срывает с кого-то чадру. Но вы, недоумки, даже не подозреваете, что мы все под чадрой. Под чадрой эти ёбаные талибанки. Под чадрой покойные американы из «близнецов» и все живые американы – и в Афганистане, и в Ираке, и в Иране, и в Боснии, и в Хорватии, и в Гватемале, и на Филиппинах, и в Италии. Под чадрой и я, и вы, глупые мартышки, ни хрена ни в чем не понимающие. «А есть ли кто-нибудь без чадры?!» – слышу я, как вы орете, полные надежды. Есть. На белом свете существуют, может быть, сто или сто пятьдесят дрочил без чадры, которые держат в своих лапах наши жизни. Пять кокакол ебут весь мир. А все остальные – талибанки.




