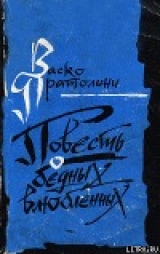
Текст книги "Повесть о бедных влюбленных"
Автор книги: Васко Пратолини
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Но для того чтобы добраться до Джулио, так же как и до Моро, нам нужно спуститься на самое дно.
Для Моро кража на виа Болоньезе была крупным делом, самым выгодным за всю его долгую карьеру мазурика. И он настолько потерял голову во время совершения кражи, что оставил на месте преступления «свою визитную карточку», а для сокрытия краденого не нашел другого доверенного, кроме Джулио. Более того, спеша спрятать «покойника» в безопасное место, он оставил в мешке футляр с ожерельем, который легко было запрятать в тысячу других, более верных мест. Поэтому нетрудно представить себе, что Моро не мог удержаться от попыток узнать, в сохранности ли украденные вещи.
Как известно, дети считают себя очень хитрыми – хитрее лисы. Поэтому Моро, ничего не сказав Джулио о своих планах, велел своей любовнице пойти к Нези и сказать ему: «Вещи стоят больше трехсот тысяч. Дай нам сто тысяч немедленно – и все будет твое». (Он велел девице запросить сто тысяч, потом спустить до пятидесяти.) «Или же отдай все обратно. Положи мешок на тележку, заложи сверху кулями с углем и отвези, куда я скажу. Это верное место».
Получив на свидании такую инструкцию от своего любовника, девица отправилась выполнять поручение. Она думала, что за ней никто не следит. Явившись на виа дель Корно в десять часов утра в четверг, она увидела, что угольная лавка заперта. Подручный посоветовал ей зайти к вечеру.
Но если бы Моро послал записочку Джулио, то он узнал бы, что на виа дель Корно сидит Нанни, который «снюхался с полицией», и поэтому опасно посылать кого-нибудь для переговоров с Эджисто Нези.
(Следовательно, Джулио ничего не сказал воровской компании, маласарде, что Нанни – доносчик. Джулио еще не говорил об этом ни с кем. Он предпочитал рассчитаться с Нанни лично в тот день, когда вернется с каторги, хотя бы из-за этого ему на следующий же день пришлось отправиться туда обратно.)
А наивная любовница Моро еще зашла поздороваться с Элизой!
Едва увидев Нанни, бригадьере сразу угадал по его лицу, что он что-то знает, но не хочет сказать. На этот раз бригадьере пришлось применить «особо убедительные методы», чтобы узнать от Нанни эту новость.
На следующий день, в пятницу, после полудня, Нези вытащили из постели, в которой он после, многих лет снова грелся около жены, и при ослепительном свете августовского солнца на него надели наручники.
Не успел бригадьере взять его за руки, как Нези признался, где именно в полной сохранности лежат краденые вещи.
Слишком поздно начали летать записочки между камерами Джулио и Моро. Слишком поздно! Бригадьере хотел победить по всем линиям и арестовал также любовницу Моро. Теперь их в тюрьме сидело уже четверо: Джулио, Кадорна, Моро и его «девчонка», и все они хотели есть и курить. Поэтому Моро передал Джулио ультиматум: «Твоя жена должна начать работать. И без хныканья». Джулио ответил ему, что он заставит ее работать, пригрозив разводом.
А что подразумевал Моро под словом «работать», догадаться легко.
Итак, укрыватель краденого Нези пошел навстречу своей судьбе.
Полицейским у нас полагается ходить пешком, как и прочим смертным, которые зарабатывают на жизнь в поте лица, своего. В редких случаях, если арестованный – человек почтенный, по его просьбе кому-нибудь из родственников разрешается привести извозчика с площади. Но не так обстояло дело с Нези, которого не жалела ни одна собака. Жена его, уже потрясенная предыдущими событиями, лежала в обмороке. Она едва успела воскликнуть: «Позор за позором!» – и потеряла сознание. А старая и глухая служанка по причине все того же позора скрылась в кухне, чтобы доложить о случившемся господу богу. Какая дерзость со стороны глупой старухи! Ведь господь наш, иже еси на небесех, и на земле, и повсюду – и, разумеется, на виа дель Корно, – собственными своими глазами видел, что произошло. Да разве не сам он все и предрешил? Так сказала Клоринда, высунувшись из своего окна, словно из ложи первого яруса.
– Что заработал, то и получи! Видно, за богом не пропадет, – пробормотала она. В ее словах звучала ненависть – Клоринда помнила все камни, которые Нези примешивал к маленьким меркам угля. Ее злорадство было мелочным и простодушным. Куда более глубокая и осознанная радость наполняла грудь Синьоры: Джезуина подробно рассказывала ей обо всем, что творится на улице. Девушка, не прячась, стояла у окна; этажом выше показалась Мария Каррези со своей собачкой на руках; а этажом ниже – Семира, маленькая Пиккарда и Бруно, который в тот день был свободен.
Все обитатели улицы были налицо; на мостовой перед подъездом толпились мужчины и дети, которых матери тщетно звали домой. Но господь бог знает, что делает: он позаботился удалить Луизу – ей пришлось пойти на Борго Пинти, чтобы забрать молоко и пеленки для внука из квартиры дочери.
Ветерок с реки не доходит до нашей улицы. Солнце, как насекомое, забирается во все уголки, жжет, как раскаленный утюг, который Фидальма забыла на плите; люди щурятся от яркого света и защищают глаза рукой, боясь упустить малейшую подробность происходящей церемонии.
И вот открывается дверь подъезда, появляется Нези в сопровождении бригадьере и двух агентов. У Нези лицо совершенно белое. «Как у Пролога в „Паяцах“, – скажет потом Стадерини. Одет Нези во все черное. Он идет без палки, сгорбившись, словно тащит на спине тяжкий груз и словно наручники его весят два центнера. Агенты поддерживают его под руки. Бригадьере идет впереди с видом Цезаря, возвращающегося из победоносного похода в Британию.
Именно при таких обстоятельствах испытывается дружба. Судя по той тишине, по тем взглядам, которыми зрители провожают арестованного, можно было бы подумать, что Нези – чужой на виа дель Корно. А между тем Нези прожил здесь тридцать лет. Неужели за все эти годы он не сделал ни одного доброго дела, которое позволило бы ему сейчас услышать ободряющее слово привета и поддержки? А ведь никто еще не знает, за что его арестовали. Нанни не решился оповестить улицу. Но ведь Нези так недавно испытал великое унижение. И, пожалуй, бригадьере похож скорее не на Цезаря, а на Марамальдо. Что же, никто так и не сжалится над бедным Феруччи [23][23]
Один из защитников Флорентийской республики, боровшейся против войск императора Карла V. Был смертельно ранен при Гавиньяне в 1530 году. Калабриец Марамальдо, капитан имперских войск, добил умирающего ударом кинжала.
[Закрыть]? Только Ристори с порога своей гостиницы машет рукой и подбадривает угольщика. «Крепись, Эджисто, – говорит он. – Иначе пропадешь». Но при этом Ристори подмигнул бригадьере с улыбкой сообщника.
У арестованного темно в глазах. Он весь закоченел, словно зимой в своей лавке; он не чувствовал даже боли в ноге. Ему было только холодно; особенно холодно голове, словно лоб его сжимала ледяная корона. Постепенно лед спустился к затылку, стянул шею, подбородок. На подъеме к виа деи Гонди холод дошел до сердца.
Джиджи Лукателли, который вместе с прочими мальчишками последовал за печальным шествием, влетел, как ракета, на виа дель Корно с криком:
– Его хватил удар! Вызвали скорую помощь!
И снова умчался.
Теперь на виа дель Корно остался только тот, кого ноги не держали.
Скорая помощь тоже ходит пешком. Явились санитары в голубой форме и привезли носилки на колесах. Впереди шествовал капрал, и давал гудки автомобильным рожком, который держал в руке. Растолкав толпу, санитары положили Нези на носилки. Он был неподвижен, как статуя, один глаз закрылся, другой был открыт; дышал он тяжело, как в агонии. Санитары задернули занавески носилок, приподняв лишь края с двух сторон – «для воздуха». Затем они взялись за ручки носилок и двинулись быстрым шагом. Начальник шел впереди с рожком, а один из полицейских (тот, что был помоложе и оказался способным выдержать такую гонку) замыкал шествие. За ними шли самые любопытные и назойливые зеваки и ребятишки, для которых все происходившее было нежданным праздником.
На дворе стояла августовская жара, но санитары привыкли бегать – это их ремесло. По дороге многие из сопровождающих отстали, а иные просто ушли. Отстал и полицейский. Когда скорая помощь добралась до больницы и угольщика сняли с носилок, то единственным представителем виа дель Корно был Джордано Чекки, и при нем Нези испустил последний вздох.
Начальник скорой помощи спросил у Джордано, знает ли он этого человека. Мальчик одно мгновение стоял в нерешительности, широко раскрыв свои детские глаза.
Потом он сказал:
– Это мой зять.
Через пять минут подошел полицейский и дал более подробные сведения.
Бригадьере сел на трамвай, не желая идти пешком до больницы. Но когда он явился, угольщик уже был покрыт простыней. А ведь бригадьере так надеялся заставить Нези говорить. И тут он с проклятием воскликнул:
– Даже смерть на стороне мошенников. Старуха и на этот раз вывернулась!
Глава восьмая
– Все говорят и говорят, а я первая догадалась. Ну, думаю, тут что-то неладно! – сказала Клара. – Как это Нези – и вдруг отказывается продать уголь! А сам такой страшный, как дьявол!
– Поцелуй меня! – говорит Бруно.
– У тебя лишь одно на уме.
– Да ведь у нас только и есть, что эти минуты. С тех пор как мы официально обручены, мы бываем одни еще реже, чем раньше. Все время то твоя мать, то Аделе мешают.
– Сам виноват! Ты ведь собирался умереть, если мой отец не даст согласия.
– Ах, как ты изменилась! – Что?
– Поцелуй меня!
– Послушай, Марио, ты вот теперь познакомился с Миленой, что ты о ней думаешь? – спросила Бьянка.
– Я ее представлял себе совсем не такой. Она не похожа на флорентинку. И уж совсем не похожа на женщину с виа дель Корно.
– Что-то я тебя не пойму. Впрочем, она действительно не из Флоренции. Она родилась в Милане, но на нашей улице живет с пеленок. Ее отец был судейским чиновником, и его перевели сюда. Потом он погиб на войне. Значит, она тебе нравится?…
– Ревнивица.
– Выдумаешь тоже!
– Перестань ребячиться! Ты чуть ли не силой затащила меня в больницу, чтобы познакомить с Альфредо и Миленой. А теперь допытываешься, нравится ли мне Милена. Я, видно, должен был ответить: «Нет, не нравится» – и добавить, что она косоглазая и хромая. Ну как вот: она косоглазая и хромая, и у нее растет борода. Теперь ты довольна?
– Милена – моя подруга!
– Неужели?
– Почему ты сердишься? Даже поцеловать меня не хочешь!
– Ты слышал про Бьянку? У нее тоже появился дружок. Милена говорит, что красивый парень.
– Чем он занимается? – спрашивает Бруно.
– Работает в типографии на Пино! И потом…
– Почему ты все время говоришь о других? Неужели тебе не надоело слушать, как кумушки, стоя у окна, целый день судачат о соседях?
– Когда мы вместе, ты ужасно нервный!
– Просто я хотел бы, чтобы мы немножко больше говорили о нас самих. Ну вот скажи, когда мы все-таки поженимся – в декабре или весной?
– Разве уже не решено, что в апреле?
– Решено. Но ты ведь можешь опять отложить!
– Ну зачем ты так говоришь?
– Потому что я тебя люблю.
– А я, думаешь, не люблю тебя?
Бьянка сказала:
– Я хотела кое-что рассказать тебе, но теперь не скажу.
– Когда же наступит такой вечер, любовь моя, что ты не будешь дразнить меня какой-нибудь новостью, которую тебе самой до смерти хочется мне рассказать?
– Такой вечер как раз сегодня.
– Глупая! Я хотел сделать тебе комплимент.
– Конечно! Так говорят с маленькой девочкой-несмышленышем: «Вынь, детка, пальчик изо рта!».
– Ты видела когда-нибудь в театре пьесу Альфьери «Наказание сумасбродов»?
– Нет. Но я сию же минуту побегу смотреть. Прощай.
– Иди сюда. И перестань сердиться.
– Ты никогда не говоришь со мной серьезно!… Так что же происходит в «Наказании сумасбродов»?
– Об этом я обязательно расскажу тебе, но только в другой раз!… Ну, а что ты мне хотела сказать?
– Я вот о чем думала. Ты совсем один на белом свете, и никто о тебе не заботится… Перестань, глупый! Ты же знаешь, что сейчас мы не можем пожениться!… Слушай хорошенько. Помнишь, я тебе говорила о Маргарите, жене кузнеца? Так вот, у нее наверху есть маленькая пустая комната. Там она держит картофель и всякие другие продукты, которые ей присылают родные из деревни. Она могла бы без особого ущерба освободить ее. Комнатка маленькая, но очень славная, ее можно обставить за гроши. Там тебе будет хорошо: Ты не будешь тратиться на наем квартиры, потому что Маргарита отдает этот уголок тебе бесплатно. Я часто прихожу к ней и, значит, смогу постирать и погладить тебе белье… Маргарита постарается уговорить мужа. Коррадо – душа человек!
– Ну, теперь уж ты не спасешься от поцелуя. Но кто он такой, ваш Коррадо? Это тот, кого прозвали Мачисте? Как подумаю, что иуду жить у Мачисте, даже дрожь пробирает.
– Как, по-твоему, Отелло и Аурора вернутся? – спросила Клара.
– Если они не вернутся, квестура сама их разыщет. Если только они не… Ведь они оба такие сумасшедшие!
– Господи! Только бы они не покончили с собой! Этой ночью я проснулась и сейчас же вспомнила об Ауроре. Не могу себе представить, что мы были подругами. Аурора кажется мне уже пожилой женщиной. А ведь она всего на три года старше меня. Как она могла бросить ребенка?
– Эта Аурора была, кажется, твоей подругой? – допытывается Марио.
– Да, – отвечает Бьянка. – Пожалуйста, не думай об Ауроре слишком плохо. Неверно о ней написали в газете. Что ни говори, у нее хватило смелости ради любви оставить все, даже ребенка.
– Не волнуйся так. Потом тебе опять станет нехорошо!
– Подумать только… Через два часа я узнаю, согласился ли Мачисте. Как было бы хорошо переговариваться через окно.
И вот наступило четвертое августа. Ночь еще не кончилась, а из дома Нези уже донеслось «ку-ка-ре-ку», торжественное и звонкое, как пение рожка. Немного спустя рассвет окрасил в розовый цвет крыши домов. Часы на Палаццо Веккьо пробили шесть, первый трамвай с грохотом выехал на виа деи Леони, направляясь к конечной остановке в Грассина или Антелла.
В комнате Освальдо зазвонил будильник. Но в это утро его звон был заглушен голосами.
Марии, мусорщику Чекки, землекопу Антонио и другим нынче не понадобилось никаких будильников: ссора двух фашистов подняла с постели даже тех, кто никогда не вставал раньше восьми. Фашисты на этот раз не закрыли у себя окон, и в утренней тишине крики их отчетливо доносились до каждого.
– Каждый день новое представление! – сказал Стадерини, протирая сонные глаза.
– Наша улица стала вроде театра! – добавила Клоринда.
Нанни попросил их помолчать – своими разговорами они мешают слушать.
Но общее любопытство по-прежнему оставалось неудовлетворенным.
Освальдо и Карлино всячески оскорбляли друг друга, распалялись все сильнее, и казалось, спор вот-вот перейдет в драку. Однако ни тот, ни другой не входили в подробности, и собравшиеся у окон любопытные – кто совсем голый, кто в одной рубашке – тщетно прислушивались к злобным крикам: понять причину ссоры они не могли. Карлино был, по всей видимости, настроен агрессивнее. В голосе Освальдо слышалось негодование, но вместе с тем он звучал почти покорно. Отсюда можно было заключить, что коммивояжер не прав.
– Все прячешься! Трус! Дезертир! В кусты полез! – кричал Карлино.
– Поосторожнее выбирай выражения, наглец ты эта– кий! Бессовестный человек! Фанфарон! – кричал в ответ Освальдо.
– Мальчики, успокойтесь! Что вы такой крик подняли? Люди спят, – пробовала утихомирить их Арманда.
Должно быть, она говорила из коридора, а двое друзей, вероятно, заперлись на ключ в гостиной: их голоса доносились как раз оттуда.
– Оставьте нас в покое, мама! – ответил Карлино. – Ступайте к себе, читайте свои молитвы! – И тут же снова заорал: – Ты понял, мошенник? Зачем, спрашивается, ты записался в фашистскую партию? Захотелось побахвалиться значком в петлице?
– Я считаю, что служу революции лучше, чем ты! – крикнул Освальдо.
– Ну, теперь мы начинаем понимать, что к чему! – воскликнула Клоринда.
Но ее муж: сказал;
– Отойди-ка от окна! В постели все слышно ничуть не хуже!
Между тем Освальдо продолжал:
– Мы обязаны показывать пример порядка и дисциплины!
– Все трусы так рассуждают. В двадцать первом году тебе совестливость помешала, в двадцать втором у тебя объявился тиф, а теперь ты прикрываешься какой-то выдуманной дисциплиной. Ты и мошенник и трус!
– А ты фанфарон и сумасшедший. И все, кто рассуждает вроде тебя, тоже сумасшедшие. Вы не считаетесь даже с заповедями господними.
– Ах ты, бессовестная рожа! Не смей упоминать имя божие всуе.
– И не забывай ходить по праздникам в церковь, – пробормотал Антонио, натягивая на ноги грубые рабочие башмаки.
– Послушать тебя, так нам пора уходить на пенсию, – гремел Карлино. – Все уже сделано, и остается только радоваться: ах, какая прекрасная жизнь наступила! Хотел бы я знать, черт побери, в каком ты мире живешь?
– Как только начнется вторая волна, я… – протестовал Освальдо.
– Вот видишь, ты сам себя выдаешь! Ты настоящая мразь! Вторая волна уже поднялась. Это и есть вторая волна!
– Мальчики, успокойтесь ради бога! Мальчики! – уговаривала Арманда, стуча в дверь.
– Может быть, ты ждешь телефонограммы из Рима, в которой говорилось бы: синьор Освальдо, вторая волна начнется в такой-то день и час. Ты трус и предатель!
– А ты кровопийца! – закричал Освальдо.
– Кто я, кто?
И тут же их голоса прервал звук двух пощечин, резкий, точно щелканье кастаньет. Послышался шум потасовки, грохот падающих стульев, жалобные вопли Арманды.
– Потише вы! – не удержавшись, громко крикнул Нанни. И тотчас из осторожности отошел от окна.
Мольбы Арманды возымели наконец свое действие. До слуха любопытных долетели лишь слова Карлино: – Погоди, вечером мы еще поговорим об этом в федерации!
Потом голоса, приглушаемые стенами, стали затихать.
Освальдо Ливерани, коммивояжер по продаже оберточной бумаги, вместе с Лилианой и Маргаритой составляли на виа дель Корно троицу провинциалов или, как без малейшей иронии говорит Стадерини, «бродяг, получивших здесь право гражданства».
Родина Освальдо – деревня Биккио в провинции Муджелло. Там часто бывают землетрясения, крестьяне проезжают по главной улице в телегах, запряженных волами, а студенты и чернорабочие, чтобы попасть во Флоренцию пораньше, едут с первым поездом, отходящим в 5.37. Освальдо родился в 1900 году и был призван в армию в последние дни войны. Все вокруг – и газеты и люди – твердили одно: призывники девяносто девятого года остановили немцев, а девятисотый год вышвырнет неприятеля вон. Судьбу родины решат мальчишки с молочными зубами и в коротких штанах. Однако немцы не стали дожидаться, когда на помощь итальянской армии придут новые гавроши, и подняли руки вверх. Освальдо и его сверстники мчались в воинских эшелонах и в конных повозках, но, когда они достигли передовых позиций, уже было подписано перемирие.
Призывник 1900 года рождения ушел на войну «спасителем родины», а вернулся опереточным королем победы. На каждом постое, на каждом эвакуационном пункте, в каждой казарме ветеранам был обеспечен радушный прием и веселый отдых, а призывников девятисотого года называли «шляпами». «Шляпы» были юнцы, страдавшие от жестокого разочарования; на них сыпались насмешки и колотушки, лилась вода из фляг и падали вещевые мешки. Это были восемнадцатилетние юноши, понимавшие, что они потеряли «единственный в жизни случай». Освальдо продержали в армии до февраля 1922 года. Сначала он охранял военнопленных, потом нес гарнизонную службу на присоединенных территориях и, наконец, тянул лямку в одной из казарм Турина. Его разочарование перешло в злую горечь, в желание отплатить за несправедливую обиду. Красный от стыда, уязвленный незаслуженной честью, он маршировал вместе с ветеранами войны, когда бывших фронтовиков, по большей части уже демобилизованных, не хватало для инсценировки патриотических демонстраций против «людей без родины». Возбужденный и довольный, он стрелял в воздух и прикладом винтовки бил в спину этих «предателей». Командиром у него был лейтенант рождения 1899 года с двумя серебряными медалями, трижды раненный в бою. В сентябре 1920 года, в одно из воскресений, в полдень, решилась дальнейшая судьба Освальдо [24][24]
В сентябре 1920 года в Турине происходила всеобщая забастовка.
[Закрыть].
Неисповедимы пути Добродетели, бесчисленные, как и пути Греха. Демонстранты, рассеянные вначале, снова двинулись вперед. Освальдо схватился с юношей, одетым в черное, с соломенной шляпой на голове. «Наверно, южанин», – подумал он. Пареньку удалось разжать Освальдо руки, и, уцепившись за винтовку, он пытался отнять ее. В схватке шляпа свалилась у него с головы. Освальдо изо всех сил дернул винтовку и вырвал ее. Паренек закричал и упал на колени: Освальдо нечаянно ранил его штыком. Он решил, что убил парня, и на мгновение похолодел от страха. Но юноша быстро поднялся, правая рука была у него вся в крови. Кровь капала на мостовую. Освальдо подумал: «Ему нужен платок», – однако инстинкт самосохранения удержал его на месте, и он стоял, наведя винтовку на парня. Все это было делом нескольких мгновений. Солдаты уже разогнали «людей без родины» и бежали к нему на помощь. Раненый поднял с земли соломенную шляпу и сказал:
– Ах ты, свинья! Как я буду завтра работать? Вопрос этот был обращен скорее к самому себе.
Освальдо же он крикнул:
– Продажная шкура!
Услышав знакомый акцент, Освальдо уже собирался отвести винтовку и спросить: «Ты тосканец?» Но юноша внезапно плюнул ему в лицо и бросился бежать. Плевок пришелся Освальдо прямо в верхнюю губу. Оскорбленный и разгневанный, он вскинул винтовку, прицелился в бегущего и успел выстрелить три раза – впервые в жизни он стрелял в «живую мишень» из «механизма для заряжения и стрельбы». Но рекрут девятисотого года стрелял плохо: пули попали в каменную колонну. Четвертый и на этот раз, возможно, меткий выстрел пришелся в воздух: лейтенант толкнул его руку. Он сказал, что Освальдо может считать себя арестованным. За этот «инцидент» Освальдо подвергли строгому наказанию. Сообщая ему о взыскании, лейтенант сказал:
– Как офицер, я обязан был доложить о тебе рапортом, поскольку имелся приказ не стрелять. Но как гражданин и итальянец, я выражаю тебе свою солидарность. Очень жаль, что ты промахнулся.
Гауптвахта – отличное место для размышлений, там каждый может собраться с мыслями. Тишина одиночной камеры помогает прийти к определенным заключениям. Тот, у кого своих собственных мыслей или оригинальных суждений не имеется, заимствует их. Газеты и высказывания уважаемых особ прекрасно служат успокоению мятущейся души.
Пятнадцать дней строгого ареста и тридцать дней простого составляют полтора месяца – срок, достаточный для размышлений. Освальдо постепенно убедился в своей правоте. «Как я буду завтра работать!» «Выражаю тебе свою солидарность!" „Продажная шкура!“ (Старший сержант ругает меня похуже, – думает Освальдо.) «Очень жаль, что ты промахнулся!» (Сейчас у меня на совести была бы человеческая жизнь. На войне убивали немцев! Теперь даже немца убить – уже преступление. Немец тоже стал цивильный, штатский. А ведь все штатские – предатели!) «Дезертиры, отступники, красное знамя!» (Он плюнул мне в лицо, потому что на мне военная форма. Значит, верно то, что пишут о них газеты. Он думал, что я был на войне.) «Кровь, пролитая за родину… Земля, политая нашей кровью… Кровь наших павших братьев вопиет о мщении… Мы отомстим, да, отомстим всем коммунистам!» (Тот парень тоже, наверно, был коммунист. Если он был коммунист, то я, значит, поступил правильно. Жаль только, что промахнулся!)
В июле 1922 года Освальдо демобилизовали, и он вернулся в родную деревню, в дом зятя, где и поселился вместе с сестрой, племянниками и потерявшим память отцом. Во время войны зять оставался во Флоренции, в территориальных войсках. Вместе со своим родственником, имевшим в Прато небольшую текстильную фабрику, он основал товарищество на паях, получил много заказов и сумел «сделать кое-какие сбережения». Теперь у зятя был свой мотоцикл, и он приобрел в собственность дом, в котором они жили.
В первый же вечер по возвращении Освальдо зять, хлопнув его по плечу, сказал:
– Ну, пошли записываться! Странно было бы, если б мой родственник и вдруг не записался в фашистскую партию.
– Я как раз и собирался это сделать, – ответил Освальдо.
– Весь наш район мы уже продезинфицировали. Но, конечно, и тебе представится случай попробовать свои силы.
«Счастливый» случай отличиться представился месяц спустя. Однако за день до «боевой операции» Освальдо с утра слег в постель с температурой сорок.
– Самый настоящий тиф. – сказал врач, тоже фашист. – Жаль! Ты упускаешь случай совершить прогулочку в Рикони.
– Это было бы мое боевое крещение, – пролепетал Освальдо. В бреду он почувствовал приближение смерти.
А врач продолжал:
– Подготовлена операция по всем правилам. Хотим навести порядок в одном небольшом районе. Нам на помощь придут отряды из Борго и Понтассьеве, а возможно, даже и из Флоренции!
Освальдо слышал, как они уехали и как потом вернулись, горланя песни, стреляя в кошек и в водосточные трубы. Он рыдал, как ребенок, который слышит на улице шум карнавала, а его заставляют лежать в постели.
Тиф при благоприятном течении этой болезни длится сорок дней. Освальдо для выздоровления понадобилось целых шестьдесят. Он встал с кровати худым и тонким, «словно хилое деревце в палисаднике», – говорила сестра. А тем временем прошел и октябрь. За два месяца, проведенные в постели, Освальдо потерял десять килограммов веса, лишился шевелюры, ибо его остригли наголо, и испытал второе в жизни разочарование.
– Я опоздал на войну и не участвовал в революции! [25][25]
Так фашисты именовали свой «поход на Рим» 28 октября 1922 года, в результате которого король сделал Муссолини главой правительства.
[Закрыть] Зачем тогда жить?
Замирая от восторга, слушал он рассказы зятя, врача и других фашистов, возвратившихся из похода на Рим.
– А ты всегда опаздываешь, – сказал ему зять.
Освальдо готов был провалиться сквозь землю от горького стыда, он предпочел бы лучше умереть от тифа, чем снова появиться на улицах села. Несмотря на все заботы сестры, ему никак не удавалось оправиться после болезни. Долгие часы просиживал он возле дома и не показывался даже на танцах, которые страстно любил. Врач говорил, что Освальдо страдает истощением нервной системы; в селе толковали об этом: одни объясняли это последствиями болезни, другие – разочарованием в любви. Нашлись и такие, которые говорили:
– Просто ему опротивело жить у богатого зятя нахлебником!
Наступила годовщина совершенного в Рикони «геройского подвига», благодаря которому в районе вновь установилось «полное спокойствие и тишина». Камераты [26][26]
Обращение фашистов друг к другу.
[Закрыть] решили торжественно отметить годовщину дружеским ужином.
Из Понтассьеве, Борго и Флоренции приехали камераты в старой боевой форме. Гостей принимал зять. Народ собрался веселый, любители поесть и посмеяться, все больше фашистская молодежь. Все или почти все – участники войны, с ленточками медалей и боевых орденов. При взгляде на них у Освальдо щемило от обиды сердце. Но Вецио, его зять, пожелал, чтобы и он принял участие в празднике.
– Разве ты не был душою вместе с нами в Рикони?
Освальдо пошел на празднество, весь дрожа от волнения, благодарный за эту незаслуженно доставленную ему радость. Он один был одет в штатское, и лишь из-под пиджака виднелась черная рубашка. Это увеличивало его растерянность. Он чувствовал себя незваным гостем и испытывал горькое унижение.
Ужин был устроен в «траттории Джотто с меблированными комнатами»; за столом вкусно ели, пили вино и ликеры, пели песни, делились воспоминаниями, кричали «да здравствует» и «долой». И многих интересовал важный вопрос:
– Когда же дуче еще раз развяжет нам руки? Столы были расставлены подковой, Освальдо сидел на последнем месте справа. Всего приглашено было двадцать два человека; на почетном месте сидел сержант карабинеров, сторонник фашистов и высшая власть в селе.
– Если ты фашист, то кричи: «Долой короля!» – крикнул ему рыжеволосый сквадрист [27][27]
Член боевого фашистского отряда.
[Закрыть], сидевший рядом с Освальдо.
Сержант велел ему утихомириться. Но рыжеволосый, возбужденный вином, выхватил кинжал и всадил его в стол. Он заявил, что король останется только до тех пор, «пока это будет выгодно дуче».
– Вторая волна выбросит короля вон вместе со всеми его наследниками!
Положение спасли равиоли [28][28]
Кушанье, напоминающее пельмени.
[Закрыть], вовремя поданные хозяином. Все же начальник карабинеров что-то сказал недовольно своему соседу, молодому человеку лет тридцати, с черными сверкающими глазами. («В лице у него что-то волчье, но оно очень умное», – подумал Освальдо.)
– Инцидент исчерпан, сержант, – ответил тот. – А ты, Бенчини, умерь свой пыл.
Бенчини послушно убрал кинжал, но все же в заключение буркнул:
– Тебе видней. Но ведь, по совести, и ты, Пизано, одного со мной мнения.
Пизано вынул из кобуры револьвер и прицелился в тонкую бечевку, на которой в углу комнаты была подвешена липкая бумага от мух. Выстрел – и бумага упала на пол. Пизано снова вложил револьвер в кобуру и, повернувшись к Бенчини, веско проговорил:
– Понял? Но язык научись держать за зубами! – И он снова погрузился в безразличное молчание.
В этом шумном сборище Пизано вел себя, или пытался вести, словно синьор, приглашенный на сельскую пирушку. Он ел лениво, с небрежной медлительностью и непрерывно жадными затяжками курил сигареты.
Освальдо не сводил с него глаз. Так это и есть Пизано! Командир отряда, покрывшего себя такой славой накануне переворота. Пизано! Легендарное имя!
В начале ужина Вецио подвел к нему Освальдо.
– Пизано, позволь тебе представить моего шурина Освальдо Ливерани. Он один из наших. Еще солдатом подколол штыком забастовщика. Только что демобилизован. Призывник девятисотого года. Горит желанием быть нам чем-нибудь полезным. Имей его в виду, пожалуйста.
Пизано пожал Освальдо руку и сказал:
– Прекрасно! Случай отличиться наверняка скоро представится. – И он покровительственно улыбнулся, блеснув крепкими белыми зубами.
Всем своим видом Пизано производил впечатление серьезного и сдержанного молодого человека. В его взгляде сквозили воля, хитрость и ум.
После равиоли, обильно орошенных кьянти-руффино, подали рагу, сопровождавшееся возлияниями того же кьянти-руффино, и тогда пошли рассказы о подвигах в Рикони. А когда подали жареных цыплят, воспоминания распространились на тысячи других «боевых операций». В ожидании рыбы под майонезом Пизано приказал почтить минутой молчания память павших – это забыли сделать в начале ужина. Тишина была нарушена громкой икотой, которую камерата Амодори, по прозвищу Усач, никак не мог сдержать. Он извинился и тут же снова икнул. У камерата Амодори, мужчины уже в летах, были серые усы и длинное худое лицо с тонкими губами.
«Какое у него решительное, смелое лицо», – думал Освальдо, восхищенный ленточками его боевых медалей.
Только что собранный с дерева инжир и крупный виноград вызвали бурные восторги. Разговор перешел на женщин. А один из сквадристов, низенький человечек с розовым поросячьим лицом, начал декламировать стишки «Толстозадые из Сан-Рокко». В салоне царило буйное веселье. Лишь Освальдо и Пизано сохраняли спокойствие. Пизано время от времени, почти не разжимая губ, смеялся самым сальным остротам и был так же скуп на слова, как сдержан в возлияниях и равнодушен к вкусным яствам, подававшимся за ужином. Сотрапезники устало развалились на стульях или же зычно хохотали, корчась от смеха и пригибаясь к самому столу, дружески похлопывали друг друга по плечу, перекидывались хлебными шариками. Врач, у которого был больной желудок, облегчал его рвотой, устроившись в углу.








