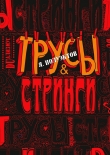Текст книги "Черный огонь"
Автор книги: Василий Розанов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
Так. обр. история (европейская) в значительной степени испорчена "способными людьми", из "типа адвокатов". Она вся ужасно омещанилась, опрозаичилась, потускла и понизилась решительно до болота; "научно осушаемого", но которого никогда не осушат и невозможно осушить, потому что "все" это место "прогнило и погибло". "Соляного озера" с проклятой нефтью Содома-Гоморры – невозможно превратить в "Светло-Озеро", где "Град Китеж". Из истории исчезло святое. Вот причина "понижения и падения всех религий", мусульманства и буддизма столько же, как и христианства. Всё "деловые люди" сделали. Какая же "вера", где "деловой человек". Не станет же человечество молиться с "кардиналом Ришелье". Вот в чем дело. Люди типа Ришелье погубили не только королевство, но и католичество: потому что в лице его пришел Фигаро "на все руки"... Втайне и отдаленно – пришел мясник. Еще тайнее и отдаленнее пришел нигилист; и уже совсем до невидимости далеко – пришел монгол, "разрушитель царств и религий, оставляющий позади себя "горы черепов". Был храм.
Пришел молот и разрушил храм.
29.5.1914
(Дожидаясь поезда. Дописано дома).
ПОЛИТИКА И ОШИБКИ ТОНА
Совершилось самое горькое, самое печальное, что вообще можно было ожидать: рабочие на некоторых заводах, изготовляющих военные снаряды, объявили забастовку и прекратили работы; т. е. ставят нашу армию, которая ни на один день, ни на один даже час не может задержать стрельбу, – уже по той простой причине, что в нее стреляют, – под вражеский расстрел. Сегодняшнее объявление Управляющего Петроградским военным округом предупреждает, что этот отказ от необходимых для армии работ повлечет за собою самые грозные последствия для отказывающихся и бастующих. Нам хотелось бы всеми силами разума и сердца сказать рабочим, что они как можно скорее должны отказаться от своего решения и стать на работу. Нет сомнения, что эти забастовки находятся в связи с роспуском Г. Думы, – и являются как бы отомщением или угрозою за этот роспуск. Но здесь рабочие нарушают свой гражданский долг, ибо выступают арбитрами, судьями не подлежащих их суду и разбирательству авторитетов. И действие их так же оскорбительно в сущности для Думы, как и для правительства. Если рабочие суть арбитры, то и каждый частный человек и всякая приватная людская масса может выступить в такой же роли арбитра и судьи. Тогда все и всех могут судить, и получается не правильная гражданственность, а хаос и бессмыслица. Рабочие суть граждане: а долг гражданина во время войны всячески защищать и охранять свое отечество, и блюсти особенно строго те границы и формы, в которые поставлен каждый гражданин.
Оборачиваясь назад, к источнику этого несчастья, – надеемся самого кратковременного, – т. е. к временному перерыву занятий Г. Думы, мы не связываем этот перерыв с образованием в Думе коалиционного большинства ("блок"), как это высказывали в качестве частного своего мнения некоторые правые члены Думы, – а приписываем его неосторожному и неблагоразумному тону, каким сейчас же после образования своего заговорил этот блок. Когда выработалась его программа-минимум, то в газетах был употреблен термин, конечно, вышедший не от самых газет, а от членов этого блока, о том, следует ли эту программу "предъявить правительству как ультиматум", или просто частным образом осведомить его об этой программе, или даже ограничиться одним напечатанием ее в газетах. Однако, раз был произнесен термин "ультиматум", несомненно, в кулуарах и говорились слова в этом духе и тоне. Потому что иначе откуда взяли самый термин? Вот этот-то повышенный, меткий, требовательный, как бы "диктующий" тон политической силы, едва только родившейся, – и был, думается, причиною всего. И в таком тоне поистине не было нужды. Дума и министры, Дума и правительство – переговариваются, соглашаются, взвешивают предложения и ограничивают их; или отказывают в них – но в вежливой форме. Вежливость вообще [не] мешает всякой обоюдности. А парламент – это обоюдность. Откуда же парламент вдруг выступил, как Цезарь? И как Цезарь-победитель, хотя он еще никого не победил. Все это – молодость и молодой задор, и особенно печально, что он был допущен в минуты страшной борьбы за границы отечества, увы, давно перейденные. Несомненно, правительство показало бы себя и почти назвало бы себя трусом, если бы, обернувшись спиною, побежало перед этим тоном, сейчас сдалось бы, сейчас же уступило бы. Довольно естественная человеческая гордость диктовала ему другое поведение. И получилось то, что получилось. Дума пусть будет горда, может быть горда; но она должна помнить, или ей следовало не забывать, что всякий человек имеет право быть гордым, или держать себя соответственно. Кто не хочет быть унижен, не должен и унижать. Между тем термин: "нашу программу мы представим правительству как ультиматум", пусть он и не осуществился в полной мере, но все-таки для него были какие-то основания в думских разговорах – решительно был оскорбителен для правительства.
И все это напрасно и ни к чему не вело. Скромность есть мудрость не только частного человека, но и политических групп. Что в Думе образовалось коалиционное большинство – это решительно хорошо и обещает быть плодотворным. Лично не соглашаясь с некоторыми пунктами заявленной им программы, мы и о ней скажем, что она все-таки умеренна и приемлема к обсуждению. Ибо парламент ведь обсуждает и без обсуждения и борьбы не делает ни одного шага. Крайние элементы Думы пусть и боролись бы около этой программы справа и слева. Все это не худо, все это решительно хорошо – в будущем. Ведь и блок не надеялся же "диктуя" осуществлять свою программу? Ему для этого не надо [не дано?] никаких средств. Все дело потеряно или "отложено в долгий ящик" из-за цезарианского тона, который не вызывался никакими обстоятельствами, и перед которым не могло же правительство побежать, как побитый воин. Оно еще не побито, и, увы, для Думы это доказало. Но непонятно, как историк П. Н. Милюков не обдумал этих подробностей делаемых шагов; удивительно, как вообще он, столько муштровавший свою партию, не дал ей "наказа" добиваться успеха, не закинув гордо голову кверху, а держа голову вполне вежливо и учтиво, говоря со всеми с тем уважением, с каким он хотел бы, чтобы все относились к нему и к его партии. Увы, личный его недостаток, заносчивость, передалась и окружающим его. И все это возвращает нас к истине поговорки: "то же бы ты слово – да не так бы молвил".
В. Розанов [сент. 1915?]
ДЕКЛАРАЦИЯ МИЛЮКОВА
Судьба играть роль неумного хитреца словно написана на роду Милюкову. Никак он не может перепрыгнуть через эти жалкие оглобли, которые роднят его или сближают с теми "левыми друзьями", которым он дал потом другой памятный эпитет. Сам он никак не может не только далеко уйти от этих левых приятелей, но и дать заметить сколько-нибудь значительную разницу между собою и ими. Разница есть, но не в уме и не в содержании души, а только в прибавке единственно хитрости. Отнимите прямоту у радикала – получится Милюков. Придайте "левому ослу" двуличность и изворотливость – получится он же. Но ни в одном, ни в другом случае не надо прибавлять ума. Как вы прибавите – уже получится совсем новая фигура, а не пресловутый лидер провалившейся партии.
Его объяснение с русскою публикою по поводу сказанных в Англии слов об "оппозиции Его Величества, а не Его Величеству" служит ярким примером этой несчастной его двойственности. Слова его в Англии были так ясны, что ни у кого не возникло двух мнений об их смысле. "Оппозиция Его Величества" – эта формула выражает положительное отношение к лицу Государя, настолько фундаментальное и веское, что оно становится исходною точкою всей политической деятельности; вся политическая деятельность, критика министров и даже борьба с кабинетом базируются на чувстве преданности Государю, мотивируются тем, что в данной деятельности такого-то министра или целого кабинета усматривается нечто, наносящее ущерб интересам, достоинству и намерениям Государя. Никакого другого смысла эта формула не имеет, и Милюков, сказавший перед лицом англичан и во всеуслышание России, что дотоле, пока в России есть палата, контролирующая бюджет, до тех пор в России "оппозиция будет оппозициею Его Величества, а не Его Величеству", – высказал, как лидер оппозиционных фракций в Г. Думе, твердый тезис, что никакой борьбы с лицом Государя и с положением Его в отечестве они не ведут, что они являются оппозициею министрам и кабинету, но не Государю, и что в оппозиции с министрами они стоят на почве преданности Государю. Славянофилы, и в частности И. С. Аксаков в газете "Русь", постоянно боровшейся с министрами и даже со всем направлением тогдашней "петербургской политики", дали у нас прекрасный самобытный образец такой оппозиции "Его Величества", с величайшей буквальностью.
Что же такое написал Милюков в своем изъяснении с соотечественниками? На протяжении трех печатных столбцов он не проговорился ни о каком положительном отношении к лицу Государя, не дал ни одного ясного слова в этом направлении, не выразил ни тени того общего чувства к своему Государю, какое питают все русские люди, как питают подобное чувство и англичане к своему королю, не обмолвился ни разу такими привычными выражениями, как "мой Государь", "наш Государь", "наш русский Царь", что у читающего не может остаться никакого сомнения о том, что он не имеет абсолютно никакого утвердительного отношения к этой основной власти русской истории. На всех трех столбцах он только твердит, что с манифестом 17 октября "Государь стал ограниченным", и вот эту фразу он повторяет несколько раз. У читателя не может остаться никакого сомнения в том, что единственно ценная сторона в Государе для Милюкова есть то, что он уменьшился в своем значении для русских, что власти у него не так много, как было прежде, до 17 октября, что теперь он сужен, связан в своих действиях, по крайней мере в некоторых отношениях. Но не таков ли в монархических и в конституционных государствах взгляд на лицо Государя республиканцев, и притом только их одних? "Он есть, но он уже стал меньше", вот мысль и пожелание республиканцев. Как только к этому не прибавлено ничего другого положительного, нет никакого иного добавляющего чувства к лицу Государя, так получилась программа и исповедание республиканца. Конституционный монархист любит конституцию, чтит ее, бережет ее, ничего из нее не уступает, но с такою же горячностью, чистотою и прямизною он чтит, уважает и любит своего Государя. Таков состав, или вернее, такова дума конституционного монархизма. Но если в Государе человеку мило только то, только одно, что у него власти стало меньше, то, конечно, в таком человеке монархического не осталось ровно ничего и мы имеем перед собою республиканца, который, живя в монархии, сдержанно и деловым образом так или иначе относится к монархии, ну "признает" ее, что ли, как некоторое неизбежное несчастие и некоторый срам своей души. Вот именно в этих оттенках Милюков и написал свое "изъяснение" соотечественникам, после которого, конечно, ни у кого не останется сомнения, что он нисколько не "конституционный монархист", а... республиканец, что ли?
Нет, и этой чести ему нельзя дать. Нельзя дать чести прямого, открытого, добросовестного республиканца. Все очень просто и соответственно нашей русской действительности. Это просто заболтавшийся и замотавшийся русский говорун, из нехрабрых во всех направлениях, льстящий английским чувствам и английским понятиям, когда он говорит в Англии, и льстящий русской большой толпе, когда он говорит или пишет в России; самолюбивый и рвущийся к роли, которая требует и некоторой доли железа в характере, и золота вообще в натуре; требует ума и наличности больших планов. А здесь – глина, размоченная нашими русскими дождями, которую в просторечии называют просто "грязью". Из нее лепятся иногда фигурки; но ни "королями" и вообще никак их не называют, а, помяв в руках, бросают в лужу, из которой взят материал. Милюков все "разъясняет" русского Государя и его судьбу, но ему давно пора бы разъяснить самого себя, и погадать о своей судьбе, и всего лучше вслух всей публики.
Старый читатель
Статья напечатана не была.
II
"В НАШИ ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ..."
1917 ГОД
К НОВОЛЕТИЮ 1917 ГОДА
Трудное новолетие – вот уже третье. Все народы Европы, и мы в их числе, как бы задыхаются в тяжелом ярме, возложенном на образованное человечество бесчеловечием германского кайзера, которому судьба забыла положить в колыбель главное качество монарха – благородство и великодушие. Ибо с тою обширностью власти, какая ему вручена, что такое монарх без благородства и великодушия? Вот чего не напомнили Вильгельму его политические и ученые друзья, среди которых есть и пастор Штекер, и историк христианства Гарнак.
И вот льется кровь, истребляется целое поколение, – и когда-то, когда-то еще удастся возрождающим силам Европы залечить те раны, ту убыль людей, ту убыль драгоценной крови, какая расточается на полях от Соммы до Евфрата.
Нам всем в Европе остается ждать и бороться. Никакой мысли об уступке не может быть, ибо в этой борьбе уступить или ослабить значит погибнуть. Железное время. И оно требует железного духа.
Все вести, какие приходят из армии – и крупные, и мелочные, – говорят о ее великом духе, неистощимом терпении, и все это поддерживается и укрепляется тою безотлагательною ежечасною работою, которая не ждет работника ни минуты и не дает ни на минуту ему забыться, заснуть и опозориться. Иное дело в тылу. Эта гражданская безурядица изводит душу. И свежие и сильные люди прямо уезжают на фронт, чтобы отдохнуть душою в сырости и холоде окопов.
Мы напоминаем об этом и нимало этого не скрываем, потому что уверены в победе русской души над ее сном. Пробудись, кто жив! Сон в теперешние времена – это предсмертный сон.
Мужества, мужества и мужества! Гражданского мужества, потому что военное не убывало и охраняет Россию с львиною храбростью! Вот что нам нужно и вот с каким призывом мы обращаемся в это новолетие 1917 г. И пусть не забудется следующее. Сынов своих отечество познает в трудные минуты. Именно теперь-то необозримым и наблюдательным оком высматривается все лучшее на Руси и определяются качества всего худшего. После войны сейчас же начнется "переоценка человеческих ценностей", и померкнут глаза у всех, кто сейчас веселится, празднует, пользуется всеобщим несчастьем или затруднением. У них померкнут глаза, потому что после войны сейчас же они окажутся никому ненужными "лишними людьми в своем отечестве". Теперь-то, именно теперь, проходит тот исторический час, когда многое из захиревшего в былые годы может подняться, сложиться в новую силу; а празднующее свои вчерашние праздники может опуститься на дно.
Труд, дело, творчество – вот к чему зовет нас этот год. Вся печаль и страда с 1914г. ведь основывается на том, что Германия кинулась на Россию, как оригинал на своих подражателей, с естественным неуважением к этим своим подражателям, которые "200 лет учились и не выучились". Но "подражательная Россия" оканчивается в эту войну. "Подражательность" есть вообще негодность; "подражательность" есть вообще бездарность. На 200 лет Россия втянулась в косную, бессильную, немощную подражательность Европе, сперва вообще, а с ХIХ в. – по преимуществу в германскую подражательность, плоды коей мы пожинаем сейчас.
Наша наука, наша литература, наша философия германизованы. Университетская русская наука прямо обратилась в библиографию германской науки по данному предмету, данной кафедре, и в общем объеме – по всем наукам и всем кафедрам. Оригинальная русская мысль не то чтобы гналась, а произошло гораздо хуже: на нее не обращалось никакого внимания. Высокомерно заявлялось, что "наука едина и космополитична".
Но так же было и во всем. И особенно печально, что это было в "реальных" министерствах. Как ученые компилировали германскую науку, так министерства компилировали и вторили германским указаниям и германским примерам. Что в русских школах русского? Все это – шаблоны, взятые из Германии и перенесенные в Россию. От гимназического учебника до центральных государственных учреждений везде в России были господами "не русские". И все это было прекрасным подготовлением к войне.
И вот она грянула. Поистине грянула на нас неподготовленных. Мы, как недокормленная и отощавшая нация, вступили в борьбу с упитанною на наших хлебах Германией.
Да не повторится же и не продолжится же это впредь! На свои ноги становитесь, на свои ноги! В работе, но прежде всего в мысли, в характере, в достоинстве. Будь горд, русский человек, – вот завет на Новый год. А горд ты можешь быть лишь как рабочий и как творец в своей работе.
без подписи
"Новое время". 1 янв. 1917. No 14664
ПОГАНАЯ ВЛАСТЬ ИЛИ ДОБРЫЙ СОВЕТ?
Последние годы, размышляя об устройстве и судьбах церкви, я иногда прикидывал в уме своем, чем или кем, собственно, Иисус Христос представляется нашему духовенству? Т.е. представляется согласно мероприятиям этого духовенства и его вечной проповеди. И вот со скорбью и мефистофелевски я думал, что Христос представляется нашему духовенству дюжим мужиком, который на всех накидывается за то, что мало его почитают, что недодают ему денег в мошну, и мало его украшают золотом и всяким снадобьем. Что не звонят о нем в колокола и мало о нем говорят, да не пускают его на председательские места. Как, спросит читатель, где же вы это видели, чтобы духовенство так проповедывало? Ведь оно проповедует кроткого и прощающего Христа! Но я отвечу на это, что, конечно, проповедуя христианство, духовенство полагает себя самого на месте Христа, учителем благим, – а паству или прихожан оно воображает мысленно на месте язычников, выслушивающих проповедь и учение Христа: и вот этим язычникам-мирянам духовенство точно внушает быть кроткими, послушными и нести как можно больше денег и чести себе; но самого-то себя, т. е. того, кто стоит на месте Христове, оно не представляет никак иначе, чем со властью, деньгами и почетом; мужиком толстым и разукрашенным. И вот когда в недавнем совершившемся перевороте посыпались звезды с неба, – и само небо свилось, будто свиток ветхой хартии, – все точь-в-точь как по Апокалипсису, то я невольно подумал, что одною из подспудных причин и переворота было это преображение духовенством Христа из тонкого в толстого и из неимущего в богатого и везде председательствующего. Люди не захотели молиться председателю, и пошло все далее, как пошло.
Говорю же я это по поводу письма ко мне одной образованной женщины, которая удивляется тому, что петроградское духовенство, организующееся сейчас для выбора нового митрополита, и приглашая на выборы и мирян, почему-то не пригласило мирянок. Действительно, я вспомнил, что апостол Павел изрек, что "для Христа Иисуса несть эллин, ни иудей; и несть мужеск и женский пол; но все одно суть". Это – первое. А второе: да сколько же мучениц, праведниц в церкви и ее истории?! И, наконец, последнее, уже теперешнее: да неужели же сокрыто от кого-нибудь, что именно женщины несут факел веры впереди всех, заботливее всех, пламеннее всех?
Три пункта. И все говорят за одно, чтобы к выбору благочестивого лица, которое окормляло бы всех словом и даром усердия к Богу, – были вызваны и женщины, потрудившиеся на ниве Христовой столько же, как и мужчины. Пусть и они указывают и определяют лицо митрополита. Это совершенно соответствует делу, сущности и исторической роли женщины в истории христианства. Несомненно так и поступлено было бы, если бы этому не препятствовал мефистофелевский принцип, развившийся в нашем духовенстве, именно – постоянное его воображение, что Иисус Христос был толстым купцом, стоящим на торге, и крайне неуступчивым. По образу Христа, они не отталкивали ли от себя женщин; по образу Христа, они были ли "с мытарями и грешниками". По образу Христа, они отпустили ли вину даже грешнице. Но не таков [...]: он хочет стоять один и просится председательствовать. Мне кажется, я сказал достаточно, чтобы напомнить духовенству, что оно должно дать место около себя и наследницам мучениц и праведниц.
Будем, братие, стоять в добром совете; и не будем искать поганой власти. О слове того же Апостола, что "женщина в собраниях да молчит", я не забыл: но это соответствует быту древнего положения женщин на Востоке, и в этих словах Апостол только отразил свое время, и эти слова не принципиальны и теперь для нас более неприменимы; слова же о том, что "для Христа несть мужеский и женский пол" – суть вечный принцип.
Обыватель
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РУССКОЙ ЗЕМЛИ
Вся Россия встречает Святую Пасху в каких-то совершенно новых озарениях, о которых ни один человек еще не помышлял в последние дни минувшего 1916 г. Все – новое. И самая душа – она новая, и наполняет фибры тела совершенно новою кровью. Пульс жизни бьется страшно быстро. Прошли минуты самых страшных замираний сердца, самых опасных тревог, самых мучительных колебаний. Перед нацией пустое, очищенное поле, по которому ей предстоит только шагать вперед и вперед. И все почти дело заключается в том, чтобы сама она, не пошатываясь, шла именно вперед, не оглядываясь назад, но и не допуская скачков со стороны, не перепрыгивая "через время", а делая правильный ход в море, хотя еще и очень бурном, но уже не смертельно опасном.
Самое невероятное время пережито нашим поколением – эпоха двух страшных войн и двух таких внутренних потрясений, которых не запомнит наша история, а что касается до последней войны, то не запомнит подобной и история всего человечества. Религиозные люди имеют все причины вспомнить об Апокалипсисе: потому что события вполне апокалиптические, будем ли мы думать о войне, обратимся ли мыслью к нашему внутреннему потрясению и перевороту.
Но в противоположность потокам крови, которыми заливаются края нашего отечества во внешней войне и заливаются границы всех наций, пришедших в небывалое от начала мира столкновение, – внутреннее наше потрясение, на месяц почти заставившее забыть и самую войну своим неизмеримым смыслом и содержательностью, это потрясение произошло почти бескровно. И в самом же начале, в самые первые дни его, была дана благородная клятва в бескровии. Между тем, именно подобные перевороты как-то не щадили крови, почти "не считались с кровью", хотя она и была своя собственная, народная кровь. В этом отношении замечается особливая черта, делающая русскую революцию непохожею на все остальные революции, и ее нужно беречь, как зеницу ока. Нам уже пришлось видеть столько угнетения и притеснения в прошлом, что душа наша не переносит самой мысли о нем, самого звука, напоминающего лязг оружия, меча или топора. И душа вся полна одного вопля: "не надо этого!" И вот этот вопль отвращения и дал нам бескровное отхождение от него в сторону.
"Было" и "нет его". Так будущий Апокалипсис нашей истории расскажет о происшедших событиях нашего времени, о царстве "бывшем" и "не ставшем" в один месяц. "Дивились народы совершившемуся", – как не повторить этих слов Апокалипсиса о перевороте. Мы сами "дивились", в то же время совершая его. "Дивились великим удивлением". "И свилось небо, как свиток, и попадали звезды", – всё это слова Апокалипсиса! Всё – до чего применимо к нашим дням.
Воскресли "без кровавой жертвы"! Как и Христос был уже последнею кровавою жертвою и запретил навсегда таковые жертвоприношения на земле. В этом отношении не будет преувеличением сказать, что единственная "христианская революция" совершилась народом, который его вещим пророком был назван "богоносцем". Этот ужас перед кровью и кровавостью был высказан, как мы заметили и как всем известно, в первые же дни, как только поднялся "занавес над революцией", ее справедливым министром юстиции, и вместе народным другом и предводителем народных масс. Здесь он сказал историческое слово русского народа, и слово это запомнится летописцам. И хотя оно вырвалось из его личной души, но оно вместе было и народное, которое вместе с тем объясняет, почему именно его народ угадал себе в вожди. Вспомним при этом и слово народнейшего из писателей, Глеба Успенского: как он отделял и противополагал в чаяньях народных звероподобного Ивана от праведного и кроткого Глеба, который сам страдает, но никого другого страдать не заставляет. Революция наша только тогда глубоко отделится от прошлого, – от всего того, что видели глаза и наши, и особенно наших предков, если хорошо выдержит и проведет разницу между христианскою "бескровною жертвою" и языческими "кровавыми жертвоприношениями". Это лозунг, это завет. Да он кажется и крепок.
Обратимся к "вину новому", которое принес Христос. И вот ныне мы обильно видим, как оно вливается во все фибры нашего организма. "Радость свобод всем заключенным..." В самые же первые не дни, а минуты мы видели разрушение узилищ, тюрем, этих ужасных каменных мешков, где томились души заключенных старым судом. И опять же быстро после этого последовало или начало следовать освобождение и целых народов, освобождение чужих вер, – которые томились в других и еще более страшных "узилищах" по приговорам своей печальной истории. И это также глубоко народно. Русский народ никого не теснит. Он ни у кого не отнимает веру его предков. Русский народ совершенно терпим и этнографически, и религиозно. Нужно было совершиться какому-то безумию историческому, – нужно было, чтобы правители его пошли "совершенно против народного духа", чтобы были у нас и притеснения поляков, и притеснения евреев. Это возвращение чужим народностям своего дыхания есть вторая прекрасно-христианская черта совершившегося переворота... Собственно, он весь поднят был против бесчеловечности в государственности, против того, чтобы земля наша уподобилась тому мифическому Левиафану, с которым сравнивал всякое государство английский философ XVII в. Гоббс, – и полагал при этом, что государство и не может быть ничем иным, что такова его лютая природа в самой себе и вообще извечна. Наша же русская мысль и смысл "бескровной Пасхи", ныне пережитой, заключается в обратном движении: "если государство имеет право вообще существовать, то только тогда, если оно никого не ест, а всем дает пищу". Это есть нравственное оправдание государства, – и мы стоим перед задачею такого оправдания. Это есть величайшая проблема всемирной истории: не устанем же доказывать ее еще и еще.
Государству нашему, освобождавшему из-под восточных деспотий (Турции и Персии) маленькие народности Кавказа и Туркестана, – как легко было это сделать!! Оно не сделало. И вот "жезл правления" был у него отнят и передан другому. В права и пределы монархии вступила русская великая община, вступило народовольчество и народовластие. Понятно, какие обязательства перед народами и перед самой собой она приняла. О них мы должны думать денно и нощно.
Было трогательно наблюдать последние дни марта месяца, как народные волны опять тою же массою, как всегда это время, вошли под тихие своды наших церквей... Опять слушали в Великий Четверг, на стоянии, слова трогательной молитвы о "благоразумном разбойнике", противополагаемом злому разбойнику. Один отрекся от Христа, другой сказал Ему, страдая в муках на кресте: "Господи, помяни меня, егда приидеши во Царствии Твоем". Какие слова! И Христос утешил измученного страдальца: "Днесь будеши со мною в раю". Какая мистерия жизни и воскресения.
Все будет хорошо, если мы сами будем хороши; все хорошо кончится, если мы сами не начнем худого. Не покинем же этого политического и нравственного "благоразумия". Со старым и вместе с новым Светлым Христовым Воскресением, добрые читатели!
без подписи
"Новое время". 2 апр. 1917. No 14742.
(1)
В СОВЕТЕ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ
ДЕПУТАТОВ
I.
Ну, наконец, – билет, и я в Думе. Это Великие Пятница и Суббота. И, как "княгиня Марья Алексевна" или "Коробочка" Чичикову, расскажу читателю все сплетни. Билет у меня – на проход в "Совет Рабочих и Солдатских Депутатов", т. е. в самое пекло, где пекутся события, угрозы, – ветры, тревоги и т. д. и т. д. – значит, есть о чем рассказать, о чем рассказать маленькому политическому сплетнику.
В пятницу я замешкался; разные хозяйственные дела – "нет ни фунта сахара в дому", апрель еще не наступил, новых карточек не выдано, или их можно "получить только к 6 часам после обеда", и я все время провел в мыслях о сладкой пасхе и подслащенном куличе, и в Г. Думу попал только тогда, когда густой толпой "рабочие и солдаты" выходили из зала совещания, и я уже мог только "облизаться" на речи. Но сперва – о пропусках. Билет мне дан был самый официальный, за всеми подписями, но почему-то перекрещенный крест-накрест синим карандашом. Я, когда брал, "усомнился о крестах". Мне ответили: "Ступайте! Знаем!" Я подчинился, как старый обыватель старого порядка, и робко показал солдату со штыком в воротах Госуд. Думы. Солдат задумался: "Это что значат кресты? Нельзя, значит". Я, видя, что дело "пропадает", извиняясь, сказал, что "там дальше", т. е. дальнейшие ревизоры "прохода", вероятно, понимают условное значение крестов, солдат задумался, а я уже проскользнул дальше – на парадный вход...
Только какой же это "парадный"? Вход, конечно, тот же, как при Муромцеве, Головине, Хомякове, Гучкове, т.е. тот же по устройству, по архитектуре. Но цвета?!!... – Прежде был дворянский, палевый, золотистый, солнечный. Теперь он стал какой-то бурый, "захватанный", "демократический". Дело ясное: просто нет ремонта. Но это "нет ремонта" отозвалось в душе какой-то угрозой. "Смотри и не зевай".
Правда, я несколько лет не был в Государственной Думе: но неужели это Екатерининский зал, с его исключительною красотою, с его блеском и торжественностью? Тут-то, в первой Думе, я помню прогуливавшегося "в антрактах" Аладьина, в его коротком пиджачке, разговаривающего на скамеечке Герценштейна, и откуда-то дюжих депутатов, в широченных поясах, с Волыни и Подола (Подольская губ.), и ксендзов, и татар. Куда все девалось!!! Солдаты, больше всего солдаты, с ружьями, с этими угрожающими (мне казалось) штыками, которые стоят перед всякой комнатой, перед всяким проходом, и все что-то "сторожат". "Кого они сторожат?" "Что они сторожат?" – "Ах, увидеть бы комнату, министерский павильон". "Но, очевидно, нельзя". Мне только показали длинную лестницу кверху, которая "ведет в министерский павильон". Боже, и я пропустил те дни, когда по ней вели "сих старцев". Сих "бывших министров" и их интересных жен, как m-me Сухомлинова. Розанов вечно есть тот "мушкетер, который всюду опаздывает".