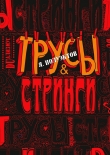Текст книги "Черный огонь"
Автор книги: Василий Розанов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Так убедительно! Он называл революцию "святым делом": "как же он мог быть провокатором"?
Об этом случае писали в свое время. Не обратили внимания, до какой степени все это замечательно... крайней элементарностью!
Степень законспирированности, т.е. потаенности, укрывательства революции чрезвычайна. Когда в "Подпольной России" Кравчинского читаешь о "знаках", какие ставились вокруг конспиративной квартиры, и как по этим знакам сторожевых людей узнавали, что она свободна от надзора, и, идя в нее, не нарвешься на западню! – то удивляешься изобретательности и, так сказать, тонкости механизма. "Хитра машинка". Да, но именно машинка. Все меры предосторожности – механичны, видимы, осязаемы, геометричны и протяженны. Видишь западню и контр-западню. Все это в пределах темы о мышеловке. Да, но самая-то тема – ловли мышей и бегания от ловли – мизерна, ничтожна, мелка. Просто, это ниже человека. Если бы задать такую тему поэту или философу, Белинскому, Грановскому, Станкевичу, Киреевскому, задать ее Влад. Соловьеву, они бы не разрешили ее, или устроили бы вместо мышеловки какую-то смешную и неудачную вещь, которую только бросить. Но если бы в комнату, где сидели эти люди, Станкевич, Тургенев, вошел Азеф...
Поэты и философы, художники и сердцеведы посторонились бы от него.
Им не надо было бы осязательных доказательств, кто он; чтобы он "кричал" о том-то, махал руками при другой теме. Просто, они "нутром", говоря грубо, а говоря тоньше – музыкальною своею организацией, художественным чутьем неодолимо отвратились бы от него, не вступили бы с ним ни в какое общение, удержались бы звать его в какое бы то ни было общее дело, или откровенно говорить при нем, посвящать его в задушевные, тайные свои намерения.
Азеф и Станкевич несовместимы.
Азеф не мог бы войти в близость со Станкевичем.
Чудовищной и ужасной истории с русскою провокациею не могло бы завязаться, не могло бы осуществиться около людей не только типа, как Станкевич или Грановский или как Тургенев, – но и около кого-нибудь из людей типа любимых тургеневских героев и героинь. Это замечательно, на это нужно обратить все внимание. То, что "обрубило голову революции", сделало вдруг ее всю бессильною, немощною, привело "к неудаче все ее дела" – никоим путем не могло бы приблизиться и коснуться не только прекрасных седин Тургенева, но и волос неопытной, застенчивой Лизы Калитиной.
Лиза Калитина сказала бы: "нет".
Тургенев сказал бы "нет".
И как Дегаев, так и Азеф никак не подкрались бы к ним, не выслушали бы ни одного их разговора, и им не о чем было бы "донести".
Что же случилось? Какая чудовищная вещь? Как мало на это обращено внимания!
Революционеры сидят в своей изумительной, гениальной "мышеловке". Это их "конспирация" и потаенные квартиры. Как они писали о своих "законспирированных" типографиях – это такая тайна и "неисповедимость", что ни друзья, ни братья и сестры, ни отец и мать, ни сами революционеры, так сказать, на других "постах" стоящие, никогда туда не проникали. "Немой, отрекшийся от мира человек работает там прокламации". Он полон энтузиазма и проч., и проч.
Великая тайна.
В нее входит Азеф.
"Рядового" революционера туда, конечно, не пустят. Но нельзя же отказать в "ревизии" приехавшему из Парижа куда-нибудь на Волгу "товарищу", который имеет пароль члена центрального комитета. Все им руководится. Как же от руководителя что-нибудь скрыть?
С потаенными знаками, в безвестной глухой квартире собираются товарищи, оглядываясь, не идет ли за ними полицейский, не следит ли шпион. Идут безмолвно, "на цыпочках".
На цыпочках же, оглядываясь, не следит ли и за ним полицейский или шпион, входит в это собрание Азеф. Здоровается, садится, говорит и слушает. У него спрашивают совета. Он дает советы.
Величайший враг, самый злобный, единственный, который им может быть опасен, который все у них сгубит и всех их погубит – постоянно с ними.
И они никак его не могут узнать!!
В этом суть провокации.
На этом сгублена была, прервана революция.
На неспособности узнавания: не правда ли, поразительно!
Сидят в ложе театра мудрецы, как кн. Кропоткин, Вера Фигнер, В. Засулич, Лопатин. Перевидали весь свет. Век читали, учились, – правда, все особливые и однородные книжки. На сцене играется "Отелло" Шекспира, – и главную роль играет Сальвини. Они смотрят на сцену, внимательно вслушиваются: и никак не могут понять, что на ней происходит, по странной причине, не могут различить Отелло от Яго и Сальвини от Ивана Ивановича!
Как не могут? Весь театр понимает.
Но они не понимают.
Весь театр состоит из обыкновенных людей. А они – ложа террористов, необыкновенные люди. Они "отреклися от ветхого мира": и в то время, как весь театр читал Шекспира, задумывался над лицом и философиею Гамлета, читал о нем критику, и во все вдумывался свободно, внимательно, не торопясь, не спеша, пять, семь "членов центрального комитета" никогда не имели к этому никакого досуга, а еще главнее – ни малейшего расположения, точь-в-точь как (беру специальности) Плюшкин, копивший деньги, или Скалозуб, командовавший дивизией. Все равно, в чем специальность: дело – в специализации. Зрители партера свободные люди, не специалисты. Но в "ложе террористов" – специалисты. Нужно бы здесь цитировать те замечательные слова о печатнике конспиративной типографии, которые собственно вводят в душу революции. Они не лишены поэтичности, потому что вдохновенны; но смысл этого вдохновения сводится к черной точке – полному разобщению с людьми и их интересами, с человеком и его заботами, с мудростью человеческой, ошибками, глупостями, шутовством, смешным и возвышенным.
Ничего. Одна "печатаемая прокламация"... Типографский шрифт и конспиративно переданный оригинал.
Вполне Плюшкин революции.
У людей есть песни, сказки. У людей есть вот Шекспир. Они смотрят Сальвини, плачут, смотря на его игру. Все это развивает, одухотворяет, усложняет, утончает нервы, утончает восприимчивость. Люди сердцем переживали Шопенгауэра и Ницше – в тридцать лет одного и в сорок другого, и, чтобы перейти от Шопенгауэра к Ницше, сколько надо было продумать, да и прямо переволноваться. Ведь так не сродны оба философа.
Зачитывались Тютчевым. Строки Фета, Тютчева, Апухтина ложились на душу все новым налетом. Сколько налетов! Да и под ними сколько своей ползучей, неторопливой думы. К 40-50 годам, с сединами в голове, является и эта поседлость души, при которой, подняв глаза на Азефа, с его узким четырехугольным приплюснутым лбом, губами лепешкой, чудовищным кадыком, отшатнешься и перейдешь на другой тротуар.
После первого же посещения, которое он навязал, скажешь прислуге:
– Для этого господина меня никогда нет дома.
Лицо Азефа чудовищно и исключительно. Как же можно было иметь с ним дело? Лицо само себя показывает, – именно у него. Но весь партер узнает Сальвини, знает, где Яго и где Отелло: одни террористы никак не могут этого узнать.
Они вообще не узнают людей, не распознают людей.
Но отчего?
От психологической неразвитости, – чудовищной, невероятной, в своем роде поистине "азефовской", если это имя и историю его неузнания можно взять в пример и символ такого рода заблуждений и ошибок.
Как Азеф был в своем роде единственное чудовище, – и имя "сатаны" и "сатанинского" часто произносилось в связи с его именем: так террористы дали пример совершенно невероятной, нигде еще не встречающейся слепоты к лицу человеческому, ко всей натуре человеческой.
Как булыжники. Тяжелые, круглые, огромные. Валятся валом и на чем лежат давят. Но какое же у булыжника зрение, осязание, обоняние?
Азеф, растолкав этот булыжник, вошел и сел в него. И стал ловить. "Они ни за что меня не узнают, не могут узнать. Механику свою я спрячу, а чутья у них никакого. Они меня примут за Гамлета".
Они действительно его приняли за Гамлета, страдавшего страданиями отечества и пришедшего к сознанию, что иначе как террором – нельзя ему помочь.
*
* *
Как это могло случиться?
А как бы этого не случилось, когда к этому все вело? Над великой ролью "Азефа в революции", "введения Азефа в социал-демократию" работали все время "Современник", "Русское Слово", "Отечественные Записки", "Дело", "Русское Богатство"... Ему стлали коврик под ноги Чернышевский, Писарев, критик Зайцев, публицист Лавров; с булавой, как швейцар, распахивал перед ним двери, стоя "на славном посту" сорок лет, Михайловский... Столько стараний! Могло ли не кончиться все дело громадным, оглушительным результатом? Сейчас Пешехонов, Мякотин и Петрищев изо всех сил стараются подготовить второго Азефа "на место погибшего".
Как?!
Да ведь все дело в неузнании. Будь они способны узнавать, имей они чуткость, кто же бы послал им такую грушу, как Азеф? Провокация, или так называемое "внутреннее освещение" конспирации, основана на возможности войти в комнату к зрячим людям как бы к незрячим, т. е. которые имеют физический глаз и не имеют духовного. Не яблоко глазное видит, а мозг видит. Механизм зрения есть у конспирантов, а ума видящего у них нет; и на этом все основано, базировано и рассчитано. А ум видящий, глаз духовный...
Боже, да ведь в атрофии его вся суть радикальной литературы, вся ее тема.
Все устремлено было к великой теме: создать революционного Плюшкина.
Когда писал Писарев свое "Разрушение эстетики" – он работал для Азефа.
Когда топтал сапожищами благородный облик Пушкина, – он целовал пальчики Азефа.
Ничего, кроме этого, не делал Чернышевский, когда подымал ослиный гам и хохот около философических лекций проф. Юркевича.
Вся сорокалетняя борьба против "стишков", "метафизики" и "мистики", – все затаптывание поэзии Полонского, Майкова, Тютчева, Фета, – весь Скабичевский со своею курьезною "Историею литературы", по "преимуществу новой", – ничего другого и не делали, как подготовляли и подготовляли великое шествие Азефа. "Приди и царствуй"... и погубляй.
Последнее, конечно, было от них скрыто. Всякая причина, развертываясь во времени, входит в коллизию с другими, непредвиденными. Да, но эти "непредвиденные" никак не могли бы начать действовать этим именно способом, не встреть они "гармонирующее" условие в этой первой причине.
Влезть в самую берлогу революции могло придти на ум только тому или только тем, кто с удивлением заметил, что там сидящие люди как бы атрофированы во всех средствах духовного зрения, духовного ощущения, духовного вникания.
Но корень конечно в слепоте!
А вытыкали глаза, духовные глаза, у читателей, у учеников, у последователей, и, в завершении и желаемом идеале – у практических дельцов политического движения, решительно все, начиная с левого поворота нашей литературы и публицистики, начиная с расщепления литературы на правое и левое движение. Все левое движение отшатнулось от всего духовного.
Тут я имею в виду вовсе не содержательную сторону у поэзии или философии, мистики или религии, – которою, признаюсь, и не интересуюсь, или сейчас не интересуюсь, – а методическую сторону, учебную, умственно-воспитательную, духовно-изощряющую, сердечно-утончающую. Имею в виду "очки", а не то, что "видно через очки". Между тем весь радикализм наш боролся против "средств видения", против изощрения зрения, против удлинения зрения. Разве Чернышевский опровергал Юркевича, делал читателей свидетелями спора себя с ним? Кто не помнит, когда, вместо всяких возражений, он, сказав две-три насмешки, перепечатал из Юркевича в свою статью целый печатный лист, – сколько было дозволительно по закону, – перервав листовую цитату на полуслове, и ничем не кончив? "Не хочу спорить: он дурак". И так талантливо, остроумно... Публика, читатели, которые всегда суть "средние люди", захохотали. "Как остроумен Чернышевский и какой movais ton этот Юркевич".
Так все и хохотали. Десятилетия хохотали. Пока к хохотунам не подсел Азеф.
– Очень у вас весело. И какие вы милые люди. Я тоже метафизикой не занимаюсь и стишков не люблю. Не мистик, а реалист.
Азеф совершенно вплотную слился с нигилистами, и они никак не могли различить его от себя, потому что и сами имели это грубое, механическое, анти-спиритуалистическое, анти-религиозное, анти-мистическое, анти-эстетическое, анти-деликатное сложение, как и он. Разница в калибре, в задушевности, в честности, в прямоте. Но в прочем, во всем остальном составе души, "убеждений", "мировоззрения", какая же разница между ним и ими?
Никакой.
Тон души один. А по "тону" души мы общаемся, сближаемся, доверяем один другому. Азеф был не прям, и эту машинку скрыл от людей, "в метафизику не углублявшихся": а в прочем, во всем духовном костюме своем или скорей бескостюмности – он был так же гол, наг, дик, был таким же "отрицателем", как и они.
Они отрицали не мыслью, а хохотом. И он. На мысли можно поймать оттенки; в мотивах спора можно уловить ум, тонкость его, подметить знания, подметить науку, на которую нужно было время потратить и способности иметь. И на всем этом можно бы было выделить неискренность. Но когда все хохочут над метафизикой, религией, поэзией, – когда все сопровождают только саркастическою улыбкою, то как и кого тут различить? Все так элементарно!
Но элементарность-то и была методом русского радикализма! "Высмеивай, вытаптывай! Не спорь и не отвергай, но уничтожай".
Как тут было не подсесть Азефу? Как Азефа было узнать?
*
* *
"Который Гамлет, который Полоний? Где Яго, где Отелло? Где Сальвини и Иван Иванович?" Но разве к этому уже не подводил все Скабичевский, которого историю литературы единственно было прилично читать в этих кругах? Не подводила сюда критика Писарева и публицистика Чернышевского? Не подводили сюда дубовые стихи с плоской тенденцией? Повести с коротеньким направлением?
Все вело сюда, все... к Азефу! "Они разучились что-нибудь понимать".
Около этого прошло сколько боли русской литературы! Отвергнутый в его художественный период Толстой, Достоевский, загнанный злобою и лаем в консервативные издания официозного смысла, с которыми внутренне он ничего не имел общего... Да и мало ли других, меньших, менее заметных! В широко разлившемся и торжествующем радикализме ничего не было принято, ничего не было допущено, кроме духовно-элементарного, духовно-суживающего, духовно-оскопляющего!
"Ничего, кроме Плюшкина", – вот девиз. "Плюшкина", т. е. узенькой, маленькой, душной идейки. Идейки фанатической, как фанатична была страсть Плюшкина к скопидомству. Радикализм сам себя убил, выкидывая из себя всякое разнообразие мысли и разнообразие лица человеческого. Неужели я говорю что-нибудь новое, что не было бы известно решительно каждому? Но какой ужасный всего этого смысл, именно для радикализма! Как и либерализм, как и консерватизм, как национализм и космополитизм, радикализм есть непременный, совершенно нужный элемент движения. Но стих Шиллера:
Будь человек благороден
– конечно и в нем есть такой же канон, как всюду. Конечно, радикал перед собою и даже перед своею партиею обязан вдыхать в себя все цветочное из всемирной истории, все пахучее, ароматистое, лучшее, воздушное. Пусть он не молится, но должен понимать существо молитвы; пусть будет атеистом, но должен понимать всю глубину и интимность религиозных веяний; пусть борется против христианства, против церкви, но на основании не только изучения, но талантливого вникания в них. И все прочее также в политике, в семье, в быте. Я не об изучении, которое может быть слишком сложно и поглощает жизнь, отвлекает силы: я за талант вникания, который решительно обязателен для каждого, кто выходит из сферы частного, домашнего существования и вступает с пером в руке или с делом в намерении – на арену публичности, всеслышания и всевидения.
Но выступали, как известно, хохотуны. Талант острословия, насмешки, а больше всего просто злобного ругательства, был господствующим качеством и ценился всего выше. Самая сильная боевая способность. Была ли какая другая способность у Писарева, Чернышевского и их эпигонов? Смехом залиты их сочинения. Победный хохот, который все опрокинул.
Смех по самому свойству своему есть не развивающая, а притупляющая сила. Смех может быть и талант смеющегося, но для слушателя это всегда притупляющая сила. Смех не зовет к размышлению. Смех заставляет с собою соглашаться. Смех есть деспот. И около смеха всегда собираются рабы, безличности, поддакивающие. Ими, такими учениками, упился радикализм, и подавился. Ибо какого даже талантливого учителя не подавят тысячи благоговейных ослов!
В самом успехе своем радикализм и нашел себе могилу; пил сладкий кубок "признания" и в нем выпил яд лести, "подделывания" к себе, впадения "в свой тон", поддакивания... Он не боролся, как должен бороться всякий борец: он парализовал сопротивление ругательством и знаменитою коротенькою ссылкою на "честно мыслящих" и "нечестно мыслящих". Он объявил негодным человеком того, с кем должен бы вести спор, и этим прекращал спор. Все разбежались. Победитель остался один. В какой пустыне!
Все это до того известно! Но все это до чего убийственно!
Ни малейше никто не боялся радикализма как направления, как программы, как действия. Он – гость или соработник среди всех званых во всемирной цивилизации. Но это его варварство, варварство нашего русского радикализма, мутило все лучшие души: он явно вел страну к одичанию, выбрасывая критику (художественную), выбрасывая "метафизику", или, собственно, всякое сколько-нибудь сложное рассуждение, посмеиваясь над наукою, если она не была "окрашена известным образом", растаптывая всякий росток поэзии, если она "не служила известным целям". Он задохся в эгоизме – вот его судьба. На конце этой судьбы все направления оказались богаче, сложнее, – наконец, оказались талантливее его. Просто оттого, что ни одно направление не было враждебно собственно таланту, а радикализм, начавший очень талантливо век или почти век назад, шел систематически к убийству таланта в себе, через грубую вражду к свободе лица человеческого. Какая тут свобода, когда стоит лозунг: "одна нечестность может не соглашаться со мною"!
Полувековой лозунг. А в полвека много может сработать идея. Капля точит камень... Все разбежались в страхе быть обвиненными в "бесчестности"... Вокруг радикализма образовалась печальная пустыня покорности и безмолвия... Пока к победителю не подсел Азеф.
*
* *
Весною появились "Вехи", – книга, в короткое время ставшая знаменитою. После неудачных или полуудачных сборников – "Проблемы идеализма", "От марксизма к идеализму", кружку людей, не вполне между собою солидарных, но солидарных во вражде к радикализму, удалось написать ряд статей и собрать их в книгу, которая в несколько месяцев выдержала три издания и, как никакая другая книга последних лет, подверглась живейшему обсуждению во всей повременной печати и вызвала специальные о себе чтения и диспуты в Петербурге и в Москве.
Книга призывает к самоуглублению. Ее смысл вовсе не полемический: полемика звучит в ней как побочный параллельный тон, полемика, так сказать, вытекает из ее тем и содержания. Но содержание это есть просто анализ среднего образованного русского человека, – вот "читателя" все радикальных книжек, и лишь отчасти творца этих книжек и практического деятеля. Она занимается не главами, а толпою, не учителями, а учениками, не учением, а характерами, поступками и образом мысли толпы. В этом смысле она есть критика "русской образованности", не в вершинах ее, а в низшем уровне, – увы, радикальном! Радикализм, "без поэзии и метафизики", сам сюда съехал. Книга эта не столько политическая, сколько педагогическая; отнюдь не публицистическая, – нисколько, а философская. Она непременно останется и запомнится в истории русской общественности, – и через пять лет будет читаться с такою же теперешнею свежестью, как и в этот год. Не произвести глубокого переворота во многих умах она не может. По смыслу и историческому положению она напоминает "Письма темных людей", но только "темных людей" она не пересмеивает, а укоряет, и не в шутливо-эпистолярной форме, а серьезным рассуждением.
Что "темные люди" поднялись на нее лавиной – это само собою разумеется! Почувствовалась боль, настоящая боль в самых далеких уголках литературы и общества. Вся критика не поразила бы, не будь она так метка и точна, так научно верна. Научная верность диагноза и составила ее силу: без нее просто не обратили бы на книгу внимания, ибо предметом этим и этою темою занимались множество раз ранее. Но после многих неудачных кривых зеркал перед "интеллигенциею" было поставлено научно выверенное зеркало, – взглянув в которое она отшатнулась и закричала.
Конечно, прежде всего вытащена была старая оглобля, которою радикализм поражал недругов: "измена! предательство! не наши! нечестная мысль".
– Ну, что тут нового, – писал в "Русском Богатстве" Пешехонов: давно известно! Повторяют Крестовского, Незлобина, и еще кого-то.
Убийственную сторону книги составляет то, что она написана людьми без всякого служебного положения, иначе ее живо похоронили бы; не помещиками, не богачами, не дворянами, – иначе разговор с нею был бы короток. "Камень на шею и бух в воду". Нет. Выступили свободные литераторы совершенно независимого образа мыслей. Выступила просто мысль и гражданское чувство. Это убийственно.
Но куда же зовут эти мыслители? К работе в духе своем, к обращению читателей, людей, граждан внутрь себя и к великим идеальным задачам человеческого существования. Зовут в другую сторону, чем та, где сидит Азеф и азефовщина, где она вечно угрожает и не может не угрожать, они призывают в ту сторону, куда Азеф никогда не может получить доступа, не сумеет войти туда, сесть там, заговорить там.
Книга эта не обсуждает совершенно никаких программ; когда вся публицистика целые годы только этим и занята! "Вехи" говорят только о человеке и об обществе.
"Прочь от Азефа"... Но Митрофанушке легче было бы умереть, чем выучиться алгебре. Зовут к сложности, углублению. Критика на "Вехи" ответила:
– Нам легче с Азефом, чем с "Вехами"... Углубиться – значит перестроиться, переменить всю структуру себя! Значит родиться вновь или возродиться. Лучше уж пусть Азеф посылает нас на виселицы, или мы его убьем. Это элементарно и мы можем. Но углубиться... мы всю жизнь, вот уже сорок лет идем в сторону от углубления: куда же и как мы повернемся, когда на вражде-то к углублению и базирован весь русский радикализм!
Вот историческое положение дел.
В. Розанов
"Новое Время", четверг. 20 августа
(12-го сентября) 1909 г.. No 12011. стр.2-3.
ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО РОССИИ
Читаю с необыкновенным интересом и поучением длинный ряд статей Б. Б. Глинского в "Историческом Вестнике" – "Эпоха реформ" и "Террор". В самом деле, ничего нет полезнее, как разом в одном обзоре схватить эту длинную цепь событий, начавшуюся с такого "горчичного зерна" и развернувшуюся в такие ужасы. Интересны и мелочи, интересно и целое. В "целом" отмечу следующее. И пусть не судят меня либералы, если я скажу то, что думаю вне шаблонов обычного литературного суждения. Скажу, как у меня подумалось на душе, когда я читал статьи "на сон грядущий", т. е. мою мысль "про себя", "не вслух".
Прежде всего у меня шевельнулась жалость к императору Александру II. Именно по поводу двух случаев: 1) – в утро подписки манифеста 19 февраля он вышел к тогда еще маленькой и любимой своей дочери Марии Александровне и, подняв ее на руки и целуя, сказал: "Я пришел расцеловать мою дочурку в самый счастливый день моей жизни". Это так человечно, так задушевно и искренно, что было бы хорошею строкою во всякой биографии. И не будем завистливо отнимать у трона того, что ему принадлежит: не будем уже потому, что ему не завидуем, не будем, наконец, тогда отнимать, если его отрицаем.
Что кому принадлежит – пусть принадлежит. Этот случай я сопоставляю с другим: всего года через два после 19 февраля приехал в Петербург один из губернаторов. На аудиенции Государь стал спрашивать: "Как у тебя в губернии?" Он изложил "благополучие" и в особенности, что все так благодарны Государю за его "великодушие". Государь взволновался и стал ходить по кабинету. "Ты сам не знаешь, – ответил он, – Россия мною недовольна". И с мрачным чувством, не негодующим, но глубоко горьким, он опроверг оптимизм своего служаки, может быть недалекого, может быть льстивого, а может быть не думавшего и просто "отстаивавшего" тяжелые минуты аудиенции.
Кто знает. Кто разберет.
Бог с ним, с губернатором. Хочется заглянуть в Царя.
Судя по словам, сказанным им в большом собрании министров и сановников о колебавшемся вопросе освобождать ли и как освободить крестьян: "Я так хочу, требую, повелеваю", – несомненно, что крестьяне наши свободою обязаны лично Александру II. Это есть его личный подарок крестьянству. Не может быть оспорено, что, склонись его желание, хотя бы внутренне, сокровенно, в другую сторону, на сторону крепостников, – и свобода крестьянству вовсе не была бы дана, или дана была бы без земли.
Но если это так – а несомненно это так, – то как должно было отозваться в сердце его, что освобождение крестьян приписывалось... большею частью Тургеневу и его "Запискам охотника", Юрию Самарину и славянофилам, "мировым посредникам 1-го призыва", Николаю Милютину, Ланскому, Ростовцеву, и кому угодно еще: а Государь будто бы только "подписал" и вообще "уступил требованиям времени". Все активное его, все личное его, настояще-великодушное и совершенно-свободное в его сердце было кем-то и как-то, очень скоро, отодвинуто в сторону, как внутренне неважное, внутренне несущественное. За всю жизнь мою я не прочел ни одной неблагодарной строки в печати относительно "мировых посредников 1-го призыва", Ланского, Ростовцева и роли в реформе Тургенева и его "Записок охотника". Все, что касается лично Александра II, то, по крайней мере в либеральной и радикальной печати и в либеральном и радикальном обществе, о нем в отношении крестьян и их освобождения говорилось кисло, неопределенно и неохотно. "Ну, освободил, – ну, что же, пришло время... Вы что стараетесь: орденок себе выслуживаете?" Этот тон, парализующий искреннее чувство лично к Государю, царил везде, по крайней мере я за всю мою жизнь только его и помню. Ничего больше. Ни одного настоящего слова, настоящей благодарности.
Так я помню про себя. В провинции, в столице. Гимназистом, студентом, чиновником, писателем. "Тургенев освободил крестьян", или, под сурдинку, у каждого, особенно у литератора: "освободили крестьян – это мы, литераторы, или вообще интеллигенция. Мы скорбели, жаловались, кричали. И крестьян не могли, не смели не освободить".
Без штемпеля и распространенно, – мысль была именно эта. И мы ужасно гордились. Вся литература целиком приписала себе освобождение крестьян. Смысл этого – аксиома печати. Нельзя так определенно, как я это говорю, не выговорить это, но думают именно так все.
И, читая Б. Б. Глинского, я перенесся в душу свою:
Как бы я почувствовал в себе, если бы то настоящее доброе дело, какое я сделал и никто кроме меня сделать даже не мог, – незаметно, исподволь, косвенно, умолчаниями, оговорками стали приписывать совершенно другим, которые в лучшем случае "пахали", как та муха, которая сидела на рогах мужика. Добро, доброе дело – это, в сущности, и есть вся собственность царей. Так как все остальное принадлежит им наследственно, и только добрая воля и добрый поступок принадлежит им лично. И у Александра II была отнята величайшая его собственность. Зачем, к чему?
А результаты этого были неисчислимы. Ибо кто омрачает сердце царей, омрачает судьбу народа.
Ведь это так. И совершенно невольно.
*
* *
Вторая "общая мысль" касалась Чернышевского. Известно, что он был арестован и сослан "без повода". Это дало толчок бесчисленным обвинениям по адресу власти, "осудившей и наказавшей человека без определенного криминала". На это негодовал, между прочим, историк С. М. Соловьев. Да и вообще тогда и потом негодовали бесчисленные лица.
Негодовал и я.
В изложении Б. Б. Глинского мелькнула одна фраза Чернышевского: "меня ни за что не поймают и потому, что я не сделаю никакого прямо незаконного поступка". И еще: "Чернышевский держался очень конспиративно, – и когда волновавшиеся в Петербурге (по какому-то поводу) студенты хотели с ним говорить, как с вождем молодого движения и своим кумиром, он сухо отказался и не принял даже выборных от депутации". Вообще он держался постоянно "в стороне" от резких событий. Между тем решительно вся волна движения шла от него, и, наконец, он прямо подымал ее. Глинский не дает полного очерка деятельности Чернышевского, и даже прямо почти не говорит о нем: прямые деятели – другие. Но именно потому, что он прямо не говорит, что на это имя он не делает никакого нажима, а только во всех важных случаях замечает, что нити происходящих событий как-то и почему-то все уходят и теряются возле редакции "Современника" и квартиры Чернышевского, становясь тут неясны, перепутаны и неисследимы, убеждаемся вполне в аксиоме: "Да не будь Чернышевского, не было бы в России и революции", не было бы ее как не угасавшего полвека подземного пожара, вроде ужасного горения торфяников, которое и потушить нельзя, потому что как же залить водой землю, и как же гасить то, чего и не видишь, границ и распространения чего не знаешь. В Чернышевском была смешана та доля практичности и та доля литературности, которая весь пожар и вызвала: Герцен был слишком блестящий писатель, слишком эстетический человек, слишком художник пера и слога, чтобы подействовать, толкнуть, создать событие.
Сладко... Еще перечту...
Эти убийственные слова, приложимые ко всякому великому литератору, лишают действенности все настояще-великое в литературе, которое переходит в гипноз, грезы, сладость и дрему читающего. Для "действенности" нужны писатели "поплоше", 2-го сорта.
Таким и был Чернышевский, гениальный работник пера. Работник, а не художник. Работник, а не мыслитель. Статьи его, понятные гимназисту, ненужные для старика, смешные или презренные для философа, были факелами, бросаемыми на улицу. И решительно – они зажгли все. Тут именно мера смешения, трагично очень боялись департаментские сферы, которые он уличал мелочами; им, как великим стилистом, зачитывались писатели со вкусом. Но что он мог дать гимназисту, студенту, "стриженой девице", бежавшей от родителей или мужа? Увы, без таковых революция просто не может подняться. Не может подняться без элемента, очерченного Пушкиным в "Братьях разбойниках":
Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей...
Не недовольные же чиновники, не отставные министры "из Кутлеров" и не "фрондирующие профессора" полезут на баррикаду, "дадут в морду" городовому, что необходимо же как зацепка для революции, подставят под удар лоб; отсидят десять лет в тюрьме: для этого надобны мальчики, пламенные, неумные, без учения, без воспоминаний, без традиции и привычек, без дома и семьи, "бежавшие" и вообще на положении "разбойников". Но их надо соединить, одушевить и бросить к великой цели, предполагаемой великой. Это и сделал Чернышевский, и, больше всего, совершенно как в свое время два-три "Discours" Руссо. То же действие во Франции – гениальных речений, в России – плоских, банальных, но в высшей степени общедоступных слов. "Что делать" в своем роде "Конек-горбунок" революции. Усвояется в полчаса: а программа действия на всю жизнь. "Перелом убеждений" полный...