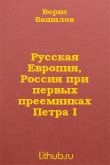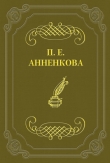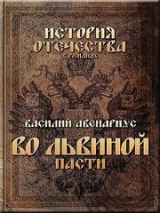
Текст книги "Во львиной пасти"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
– Уходи, милый человек, уходи с Богом, проваливай!
– Да куда же ему уйти, братцы? Нешто он может идти? Совсем его, вишь, горемычного, размочалило! – вступился старый смолокур, седенький старичок, наклонясь над распростертым на земле калмыком. – Ахти! Да ведь он совсем, поди, кончается.
– Смерть моя пришла… – прошептал Лукашка, у которого в ушах уже зазвенело, в глазах круги пошли, и, ослабевшею рукою кое-как достав из-за пазухи свой план, он сунул его старику. – А вот, дедушка… спрячь, спрячь…
– Отдать кому, что ли?
– Да… царю… Петру…
Тут нагрянул майор де ла Гарди; но план был уже за пазухой старика-смолокура. Оттого-то у беглеца при обыске никаких улик и не отыскалось.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава первая
Не дождаться мне, видно, свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко над землей,
А у двери стоит часовой.
Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки.
Лермонтов
Хотел ли полковник Опалев оказать своему родовитому арестанту последнюю формальную любезность или же просто желал лично убедиться, что стены и затворы каземата достаточно надежны, но он собственною персоной проводил Спафариева до места его заточения.
Впереди шел тюремный сторож с фонарем и связкою ключей, за сторожем – Иван Петрович, за Иваном Петровичем – комендант, а за комендантом – трое конвойных с заряженными, конечно, «фузеями». Когда они таким образом спустились во подполье цитадели и массивная железная дверь, тяжело ухая, раскрылась перед нашим арестантом, из мрака подземной кельи пахнуло на него такой подвальной затхлостью, таким могильным холодом, что он невольно содрогнулся, отшатнулся.
– Ну, что же? Прошу, – сухо сказал комендант с пригласительным жестом. – У нас, не взыщите, не парижский отель с номерами в разную цену: всем заключенным одна цена, один почет. А вот и ваша постель.
При слабом мерцающем свете фонаря Спафариев разглядел в стороне, у кирпичной стены, на земляном полу сноп свежей соломы и брошенный на него старый арестантский халат. Изнеженного европейским комфортом молодого человека невольно покоробило.
– Но как же лечь так?.. – пробормотал он. – У меня нет с собой даже нужнейшего из моего ночного гардероба, из туалетных вещей…
– Туалета вам ни для кого здесь не придется делать.
– Но это мое дело!
– Ваше, но вещи арестантов у нас выдаются им не ранее как по предварительном осмотре и с разрешения подлежащей судебной власти.
– Уж не ждать ли мне разрешения из Стокгольма? Опалев пожал плечами.
– Что касается всех вообще пожитков ваших – да. Относительно же туалетных принадлежностей я, пожалуй, могу еще возбудить вопрос у нас в военном совете, хотя не обещаю вам успеха. Впрочем, – прибавил он в виде утешения, – у нас они несомненно будут сохраннее, чем здесь: не испортятся, по крайней мере, от сырости.
– Ничего мне от вас не нужно! – буркнул Иван Петрович с юношеским упрямством и задором.
– Ничего? И прекрасно: хлопотать меньше. Белья смену, впрочем, получите. А за сим – доброй ночи.
И свет фонаря погас, железная дверь стукнула, ключ в ржавом замке дважды хрустнул, и мерные шаги коменданта и конвойных удалились.
«Доброй ночи!» Да, ночь охватила его, глубокая, безрассветная: ни зги не видать, дышать нечем… «Как есть, заживо погребен. Со святыми упокой! Правду сказал комендант: здесь, в этом сыром каменном гробу, хоть какая вещь испортится, сгноится – и человек тоже! Ведь еще август месяц, а что будет здесь в октябре, в ноябре, в крещенские морозы? Обратишься в ледяной столб… Нечего сказать, перспектива!.. Но не вечно же стоять этак на ногах; хоть бы сном забыться…»
Расставив вперед руки, чтобы не наткнуться на стену, Иван Петрович шаг за шагом направился к тому месту, где было указано ему давеча ложе. Вот оно… Брезгливо отбросив в сторону арестантский халат, которым невесть кто уже прикрывался, он рассыпал сноп соломы по земляному полу так, чтобы лежать хоть было сухо, вместо одеяла постлал сверху свой дорожный плащ, а вместо подушки – свой запасной носовой платок.
«Ну, а насчет гардероба какую диспозицию учинить? Есть же тут какая-нибудь мебель».
Ощупью вдоль стены он двинулся на разведку и, точно, нащупал небольшую скамью и рядом стол. Сложив на стол шляпу и парик, а на скамью верхнее платье, он возвратился к своей постели, чтобы наконец растянуться и накрыться плащом. На беду модный, довольно короткий парижский плащ не был приспособлен служить и одеялом. Спафариев подтянул под себя ноги, но прикрыть их как следует ему не удалось, и его понемногу начала пронимать дрожь.
«И зачем было так глупо отказываться наотрез от всего! Кое-что потеплее все бы пригодилось. Ну, да нет так нет, и толковать нечего. Где ж этот противный старый халатишко? Хоть бы ноги-то укутать. Благо темно, не видать этой мерзости».
Приподнявшись на локоть, он стал шарить рукой кругом себя по полу.
«Земля, слизистая земля! Даже досок не подостлали, сквернавцы! Да где же он? Fi!»
Благодаря старенькому, но ватному халату, по телу арестанта вскоре разлилась благотворная теплота.
«И вовсе не так уж дурно! – рассуждал он сам с собою. – Лежать этак на свежей соломе ничем не хуже, пожалуй, чем на перине, в известном отношении даже аппетитней: никто раньше не лежал, прямо с поля. В деревне, помнится, еще мальчуганом тоже этак валялся, бывало, на скирдах соломы, – славные были времена! Правда, что колется и щекотит, но зато так здорово пахнет и заглушает затхлый запах подземелья. Дышать-то холодновато: изо рта, вероятно, пар идет, но, по уверению медиков, в нетопленых горницах спать куда здоровее. И за весь плезир-то этот ни гроша медного, ни даже простого спасиба. Благодетели, да и только! Любопытно знать, однако, чем продовольствовать станут? С голода, понятно, не уморят: и самых отъявленных душегубов-разбойников ведь откармливают до высшей ступени их земного бытия, – как это поется в народной песне?
Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиною.
Гм, да, не крестьянский я сын – дворянский сын. Ну, а ежели и меня тоже пожалуют такими хоромами? Благодетелей моих на это станет. Бр-р-р! Даже мурашки по спине пробегают. Ну, да что заранее загадывать. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Поживем – увидим: qui vivra – verra. А теперь возьмем-ка да заснем».
Как видят читатели, герой наш был в некотором роде философом. Он с решительностью повернулся лицом к стене, натянул на себя халат до пояса и отогнал преждевременные мысли о «высшей ступени бытия». Пять минут спустя он спал беззаботным крепким сном юности.
И приснился ему дивный сон: в компании фон Конова и других шведских офицеров, на конях и с гончими переправясь на пароме на Лосиный остров, он из-под носа своих компаньонов бил одного лося за другим – хлоп да хлоп. Фон Конов затрубил ему в медный рог победный туш, остальные же компаньоны с криками «hip-hip-hurra!» подхватили его, победителя, с земли и понесли на плечах своих к высокому, обитому пурпуром королевскому амвону; а там, на золотых тронах, королем и королевной восседали полковник Опалев и дочка его фрёкен Хильда. Король милостиво приветствовал его похвальным словом, а королевна, вся зардевшись от смущения, с прелестной улыбкой наклонилась к нему, чтобы возложить ему на голову свежий венок из дубовых листьев, махровых роз, гиацинтов и тюльпанов.
Так как обязанность будить своего господина лежала всегда на Лукашке, а последнего не было теперь налицо, то Иван Петрович еще долго, быть может, витал бы в области несбыточных сновидений, если бы глухой стук отворяемой железной двери каземата не возвратил его к трезвой действительности.
Было, конечно, давным-давно утро; на дворе, очень может статься, светило опять солнце. Но сквозь маленькую решетчатую отдушину под сводчатым потолком в подземелье пробивалось света ровно настолько, чтобы убедиться в крайней убогости окружающей обстановки: среди голых кирпичных стен известные уже нашему арестанту деревянные, самой топорной работы стол да скамья, на черном земляном полу – собственная его соломенная постель, да над изголовьем – вделанная в стену железная цепь, к которой он, без сомнения, был бы прикован, если бы не дал своего дворянского слова – не бежать. И только!
Впрочем, в данную минуту в камере было еще одно живое существо – вошедший сейчас тюремный сторож, а в руках у него – глиняный кувшин с водою да краюха ржаного хлеба.
– Это что же – мой арестантский паек? – спросил Спафариев – сперва по-русски, потом по-немецки, наконец по-французски.
Флегматичный чухонец недружелюбно, только исподлобья взглянул на вопрошающего и отодвинул на столе в сторону парик и шляпу арестанта, чтобы очистить место для кувшина и хлеба.
– Что же ты, болван неотесанный, воды в рот набрал? Аль не понимаешь простой людской речи?
Тот, словно уже не слыша, повернул обратно к двери.
– Стой! – громовым голосом крикнул ему вслед Иван Петрович, вскакивая на ноги.
Молчаливый финн остановился на пороге и с тем же хмурым видом, вопросительно оглянулся.
– А мыться?
Изображенная при этом операция мытья была настолько наглядная, что тюремщик ткнул пальцем на кувшин с водой.
– А мыло где ж? А полотенце?
Та же картинная мимика; в ответ же ей только отрицательное мотание головой – и дверь уже захлопнулась за молчальником.
«Вот и здравствуйте! Ушел ведь, как будто так и быть следует. Народится же этакое иродово племя! Ну, да и господа-то его хороши: не дать своему брату, образованному европейцу, принять человеческий образ! Хоть бы Лукашку-то ко мне пустили… Ah, mon Dieu! Забыл ведь совсем, что его подстрелили: где-то он, бедняга? Жив ли еще? Злодеи! Скорпионы! Аспиды! Изверги рода человеческого!..»
И, отводя таким манером душу, европеец наш принялся собственноручно придавать своей особе «человеческий образ» с помощью тех скудных средств, которые имелись у него под рукой: умылся без мыла; заместо полотенца обошелся запасным носовым платком; с непривычки довольно неумело расчесал гребешком завитки парика и возложил его на себя; стряхнул пыль, облекся в камзол и кафтан; в заключение опрыскал себе обе ладони из флакончика возможно экономно духами.
Тут только вспомнилось ему, что ни вчера перед сном, ни нынче со сна он не помолился Богу.
«Господи, прости Ты меня!»
Он огляделся в камере на все четыре угла, но напрасно: ни образа, ни распятья. «Безбожники!»
Сняв с себя свой грудной образок и прислонив его у изголовья к стене, он опустился перед ним на колени (не на голый земляной пол, конечно, а на солому) и прочел подряд три-четыре известные ему молитвы, заученный им еще в детстве от богомольной старушки-няни. Давно не молился он так истово, и когда прочел еще вторично «Отче наш», на душе у него заметно полегчало.
«До сего дня Господь хранил меня, грешного; значит, на что-нибудь я ему да годен. Чего же вперед отчаиваться? Шато хоть не шато, а сверху, по крайности, не каплет».
Повеселевшим взором он обвел свою мрачную неприютную келью. На глаза ему попались кувшин с водой и краюха хлеба.
«А вчера-то я себе голову ломал, чем меня угощать станут? – усмехнулся он. – Угощенье, правда, не лукулловское, но по квалите своей самое что ни есть натуральное, завещанное нам от прародителей: хлеб насущный да влага чистая. Что ж, не побрезгаем, заморим червячка».
«Заморив червячка», то есть скушав кусочек черствого хлеба и запив его глотком водицы, он фертом прошелся взад и вперед по своей камере.
«И для променажа места как раз сколько нужно».
Он сделал воздушный пируэт и затянул игривый парижский романсик.
Не допел он, однако, и второго куплета, как в железную дверь снаружи раздался гулкий удар как бы ружейным прикладом.
«Это еще что за новости? В своих четырех стенах и петь не смей? Стучи, mon cher, стучи – самому надоест».
И, заложив в карманы руки, он продолжал свой «променаж», продолжал свою песенку еще громче прежнего.
Но докончить ее ему не пришлось: перед ним вдруг как из-под земли выросли тюремщик и часовой. Первый сердито стал что-то объяснять ему на своем несуразном языке, а второй, в виде иллюстрации, сделал такой угрожающий жест «фузеей», что не могло быть сомнения: грубый мужлан не пулей, так прикладом заставит его замолчать.
– Ну, и ладно! Нельзя, так нельзя. Будем знать. Аудиенция кончена, синьоры! Проваливайте!
Он повелительно указал им на выход и повернулся к ним спиною. Вполголоса потолковав еще меж собой, те вышли. Тогда он возобновил свою прогулку, но уже не запел, а тихонько про себя засвистал: не все ли-де едино? Не других же ведь потешаю, а себя.
Молодой человек бодрился, сам с собою лукавя, и бодрости этой у него хватило ровно до обеденного часа. Тут барский желудок, избалованный обильными и отборными яствами французской кухни, настойчиво заявил свои права. Увы! взамен тонких и замысловатых супов и соусов, майонезов и фаршей, к услугам его имелась все одна и та же прародительская пища: хлеб да вода.
«Неужто ж так-таки больше ничего и не пришлют? Живодеры! Гунсвоты! О-хо-хо!»
Хотя хлеб с утра еще более очерствел и жевать его не представляло уже ни малейшего «плезира», но вскоре от него не осталось ни корочки.
«А на ужин, стало быть, только воздух да вода? И какой воздух: хоть топор повесь! Авантажное супе! Благодарю покорно! Лучше уж идти к Морфею: авось во сне хоть накормит».
Но время сна еще на наступило: Морфей не рассыпал еще своих снотворных зерен, а с подземного коридора доносились, не умолкая, то приближающиеся, то удаляющиеся шаги часового. Равномерно-монотонные, как маятник, они нагоняли неодолимую досаду и скуку. Когда же к ночи они наконец смолкли, на смену им явился жестокий, поистине уже волчий голод, а досада перешла в глухое раздражение.
«Нет, долее терпеть эту пытку сил нет! Во что бы то ни стало надо объясниться с комендантом. Но как дозваться его? Ведь страж этот – пень, чурбан бессловесный. Одно средство – избить его на чем свет стоит. Как донесет по начальству, – хошь не хошь, вспомнят. Тут уж не до политесов и реверансов. A la guerre comme a la guerre». На войне по-военному.
Придя к такому благому решению, Иван Петрович разом успокоился и тут же задремал.
Поутру, разбуженный стуком отворяемой двери, он вскочил с ложа, схватил вместо оружия скамейку и бросился навстречу ничего не чаявшему «пню и бессловесному чурбану». Но руки его сами собой опустились: кроме порционного ломтя хлеба и большого кувшина с водой, тюремщик, оказалось, принес ему еще кринку поменьше, полотенце и мыло. Когда же Спафариев при свете фонаря заглянул в кринку, то увидел там белую, пузыристую жидкость.
– Эге! Молоко, да никак еще парное? Давай-ка, брат, сюда, давай.
И, не отнимая от губ, он выпил духом половину кринки, потом полотенцем обтер губы. Тут случайно на глаза ему попался вышитый край полотенца.
«Чья это метка? Две сплетенные монограммой литеры под дворянской короной „Я“ да „О“. Очевидно: „Hilda Opaleff“. Вот оно что!»
– Фрёкен? – спросил он сторожа, указывая на метку. Тот приложил ко рту палец и издал змеиный шип:
– П-ш-ш-ш!
«Значит, без ведома строжайшего папеньки? Как есть благодетельная сказочная фея!»
Ветреник наш был искренне тронут мягкосердием девочки, не убоявшейся ради него даже гнева родительского, и более знаками, чем словами, постарался внушить тюремщику, чтоб тот передал фрёкен душевную его признательность. Но в ответ ему угрюмый финн прошипел только опять свое:
– П-ш-ш-ш!
А на следующее утро, кроме тех же двух кувшинов да хлеба, он доставил арестанту еще ночник и какую-то книгу.
– Каково? И духовная пища? Опять фрёкен?
– П-ш-ш-ш! – повторил безгласный страж свой единственный звук и, засветив ночник от огня фонаря, тотчас удалился.
Иван Петрович раскрыл книгу.
«Так и есть: евангелие, и притом немецкое, потому что шведского мне все равно бы не понять. Этакая милая, умница, право!»
Но когда он отвернул заглавную страницу, чтобы узнать, чья эта собственность – самой ли фрёкен Хильды или ее тетки, что ли, – то поневоле поморщился и проворчал про себя:
– Sapristi!
В правом углу страницы стояло четким конторским почерком: «Н einrich Frisius».
«К жениху обратилась! Но как он-то, заклятый враг „варваров-скифов“, одолжил ей свое евангелие для такого варвара? Или, может быть, она вовсе не говорила ему, для чего ей понадобилось? Ну, понятное дело, не говорила!»
И омраченные черты молодого узника снова прояснились.
Глава вторая
«Стук… стук… стук!..»
Тургенев
И ждут окованные братья,
Когда же зов услышат твой,
Когда ты крылья, как объятья,
Прострешь над слабой их главой?
О, вспомни их, Орел полночи!
Хомяков
Второй месяц уже томился Иван Петрович в ниеншанцском каземате. Если в первые дни счастливый темперамент облегчал ему переносить свое тяжелое положение в сыром и темном подземелье на хлебе и молоке (потому что молоко, притом парное, поставлялось ему по-прежнему каждое утро), то духом он заметно упал, и гробовая тишина кругом уже редко когда нарушалась его свистом. Полотенцем и мылом, кринкой молока и немецким евангелием ограничилось пока все участие к нему фрёкен Хильды, от которой затем не было уже ни слуху ни духу.
Особенно тягостно было для него, человека светского и общительного, его полное одиночество. Вот уже никак шесть недель (он дням и неделям даже счет потерял) ни с кем-то живым словом не перемолвился! Мудрено ли этак и совсем одичать, от человеческой речи отвыкнуть; а там, того гляди, в черную меланхолию впадешь, в тупоумную хандру, от которой нет возврата…
И меланхолия, в самом деле, начала уже подкрадываться к нашему живому мертвецу, когда другой такой же мертвец нежданно-негаданно подал ему голос.
Почти единственные звуки, достигавшие извне в глубину каземата, были отдаленные шаги часового, прохаживавшегося взад и вперед по подземному коридору. От этого вечного безмолвия слух нашего арестанта необычайно навострился. И вот однажды от противоположного конца камеры донесся к нему как бы легкий стук в стену. Спафариев насторожился: и то, стучат!
«Неужто Лукашка?» – пронеслось у него в голове, и сердце в нем шибко забилось.
Подойдя к тому месту, откуда исходил, казалось, стук, он так же осторожно постучал пальцем в стену. Чужой стук повторился коротким двойным ударом – как бьют на кораблях часы или «склянки».
«Очевидно, Лукашка! Но почему он до сей-то поры молчал? Или его сейчас только перевели сюда, в казематы?»
Ответа на эти вопросы до времени, конечно, не могло быть; но чтобы и у калмыка не было сомнений, что с ним говорит его господин, Иван Петрович отвечал также «склянкой».
«Но как бы такую коммуникацию завязать, чтобы и разуметь друг друга? Господи, Господи, просвети меня! Быть в такой близости, на каких-нибудь четверть аршина всего от преданного тебе человека и не иметь возможности в простую конверсацию вступить, обменяться хоть единым словом».
Смышленый калмык, однако, разрешил уже, оказалось, мудреную задачу. Сперва он начал стучать обыкновенным способом: ударил раз, потом подряд два раза, за этим три, четыре и так далее до двенадцати раз. После того он изменил прием: застучал двойным стуком – морской «склянкой», точно так же с расстановкой, раз, два и так далее до двенадцати раз. После короткой паузы стук его усложнился: за одним простым ударом следовала одна морская «склянка», за двумя простыми ударами две «склянки», за тремя три и так далее также до двенадцати. На этом дальнейший стук прекратился.
«Что бы это значило? Верно, не даром? – соображал Иван Петрович. – Каждым из трех манеров он стучал по двенадцати раз. Трижды двенадцать – тридцать шесть… Ага! Вот что: в азбуке русской – тридцать шесть букв; значит, на каждую букву по определенному стуку. Сейчас испробуем, так ли? Но, чего доброго, еще спутаешься в счете. Первым делом, стало быть, смастерим себе наглядный алфавит».
За бумагой для алфавита дело не стало: в немецком евангелие Фризиуса под переплетом, в начале и в конце, имелось по чистой страничке.
«Но где раздобыть инструмент для письма? А веник-то на что же?»
По настоянию, должно быть, все той же заботливой фрёкен Хильды тюремный сторож по временам подметал камеру русского арестанта, веник же оставлял там же, в углу. Теперь веник сослужил арестанту и другую, еще более важную службу. Выдернув из него прутик, Иван Петрович накоптил его на дымящемся ночнике, вырвал из книги последний чистый листок, своим первобытным пером разграфил его на семьдесят две клеточки и нацарапал вниз свою новую азбуку, которую для большей ясности мы представляем здесь также нашим читателям:
Простые стенные звуки в этом незамысловатом букваре изображены точками, а «склянки» – черточками. Имей Спафариев под рукой настоящее гусиное перо и настоящие чернила, он изготовил бы свой букварь, конечно, гораздо быстрее. Но самодельное «веничное» перо у него то и дело притуплялось, и чуть не для каждой буквы ему приходилось обгрызать его, чтобы заострить кончик; точно так же и «чернила» беспрестанно иссякали, и для каждой буквы надо было обмакивать перо в чернильницу, то есть коптить вновь на ночнике. Вдобавок от спешки и волнения перо дрожало в руках; раз оно даже переломилось и пришлось заменить его новым. А Лукашка в своей камере, не получая от соседа никакого отклика, снова застукал.
– Стучи, стучи! Подождешь, – бормотал тот про себя, сам сгорая нетерпением поскорее покончить со своей кропотливой работой.
Наконец-то алфавит был готов и можно было без дальнейших уже проволочек приступить к связному разговору.
«А ну, как то все же не Лукашка? – взяло тут Спафариева опять сомнение. – Сейчас узнаем».
Сперва простучал он с расстановкой три буквы первого слова: К (одиннадцать простых звуков), Т (семь «склянок») и О (три «склянки»); потом четыре буквы второго слова: Т (семь «склянок»), А (один простой звук), М (одну «склянку») и Ъ (три простых и три «склянки»).
Невидимый собеседник, заранее, видно, обдумавший и разучивший свою азбуку, не замедлили с ответом:
«Я, Лукашка».
Теперь уже не оставалось никаких сомнений, и от наплыва неудержимой радости узник наш так звонко свистнул, что проходивший в это время по коридору часовой остановился и загрохотал в дверь прикладом.
Иван Петрович притих и прижал руку к бурно бьющемуся сердцу, чтобы оно, чего доброго, не выскочило из груди. Никогда-то ему и в голову не приходило, чтобы Лукашка, этот «смерд» и «раб», мог быть ему так дорог. А теперь, в эту минуту, он полюбил его вдруг почти как брата и от избытка братских чувств бросился бы, кажется, к нему на шею.
Выждав, пока часовой отойдет от двери, он возобновил прерванный «стенной» разговор с калмыком:
«Здравствуй, Лукаш».
«Здравствуй, милый барин, – был ответ. – По здорову ли?»
«Мерси, душа моя. А ты?» «Жив и здрав. Да вот плачу». «О чем?»
«Безмерно уж рад…»
И барин должен был провести ладонью по глазам: у самого у него веки были мокры. Но, не желая выдавать свою чувствительность, он перешел на деловую тему:
«Ты, Лукаш, говоришь, что здоров: но ведь ты был ранен?»
«Да, в правую ногу. И бестии собаки маленько потрепали».
«Ну, и что же?»
«Да ничего; милостью Божией все зажило».
«А пуля?»
«Вынута».
«И кость не тронута?» «Нет, целехонька».
«И слава Богу! Так ты, видно, все время в госпитале пролежал?»
«Точно так. Вечор только выписан». «Из рая да в ад?»
«Был бы в аду, кабы тебя, сударь, по соседству не было. А с тобой везде рай».
«Словно суженой своей в сантиментах изъясняешься! Однако от стучанья у меня пальцы совсем разболелись. Да и спать пора».
«Пора, сударь. Храни тебя Бог!»
Диалог по числу слов был, кажется, вовсе не долог, а между тем взял времени несколько часов, потому что каждое слово требовало целой серии разнообразных стуков, и с непривычки беседующим приходилось не раз выстукивать вторично одну и ту же непонятную собеседником букву, а то и целую фразу.
На следующее утро выхоленные барские пальцы Ивана Петровича от вчерашнего стучанья оказались до того распухшими, что для «конверсации» надо было приискать другое, менее чувствительное орудие. Выбор был очень не велик: скамья была слишком тяжеловесна, кувшин слишком хрупким, жестяной ночник также не выдержал бы долго, да и издавал бы предательский металлический звук. Оставался опять-таки один только веник, из которого Иван Петрович и выдернул для своей цели самый толстый прут. Очистив его от листьев и сучков, он обуглил его еще с толстого конца на огне ночника, чтобы придать ему большую твердость. «Молоток» вышел на славу: не ударяя слишком гулко, он в то же время благодаря угольной оболочке уже не ломался и мог служить хоть годы.
«Ты, сударь, чем стучишь-то?» – спросил Лукашка, тотчас расслышавший новый звук.
«Прутом от веника, – отвечал Иван Петрович. – Пальцев жаль. И тебе бы сделать то же».
«Рад бы, да к стене прикован. А ты, барин, разве на свободе?»
«В четырех стенах – да».
«Верно, слово дворянское дал не бежать?»
«Дал».
«И сдержишь?» «А то как же?» «Эх, сударь!»
«Ты, братец, плебей, так и не смыслишь». «Не смыслю, правда твоя. Сам-то я при первой оказии стречка дам».
«Да ведь ты же на цепи?»
«Подпилю».
«Чем?»
«А гвоздем: из госпиталя унес». «Ну, гвоздем не подпилишь».
«Трудненько, тем паче, что ржавый; да гвоздь-то не простой, чудодейственный: из мертвых меня воскресил: так и тут авось службу сослужит».
«Как так воскресил?»
«А так. Лежал я на больничной койке бок о бок с чухной-солдатом. Разговорились мы с ним…» «Это по-каковски?» «По-ихнему». «По-чухонски?» «Да».
«Где же ты их тарабарщине обучился?»
«А там же на койке. В шесть-то недель, коли ты не совсем дубина, хоть обезьяний язык переймешь».
«Тебя-то, точно, мозгами Господь не обидел. Ну, и что же, разговорились?»
«Разговорились, подружились. Пил же он заместо лекарства самодельную настойку – воду невскую, на гвоздях настоянную: много в телесной хворости помогает».
«И он же одолжил тебе один гвоздь?»
«Один одолжил, а другой про всякий случай я сам взял и припрятал. Тебе-то, батюшка-барин, как живется-можется?»
«Сибаритствую».
«Не на сухоядении?»
«Нет, дают к хлебу и кринку парного молока, но секретно от коменданта».
«Кто ж эта женерозная душа? Майор фон Конов?»
…«Сказать аль нет? – подумал про себя Иван Петрович. – Нет, материя слишком деликатная, на что ему знать!»
«Должно быть, фон Конов, – простучал он в ответ. – Окроме телесных авантажей, я пользуюсь еще и духовными: у меня есть евангелие».
«Вот как! Православное?»
«Нет, немецкое, но содержание-то все одно: жизнь и слова Христовы».
«Но как же ты читаешь во тьме кромешной?» «А у меня ночник горит».
«Так ты, сударь, подлинно как сыро в масле катаешься! Ну, да всякому свое по рангу: у тебя молочко, а мы сыты крупицей, пьяны водицей, ржавым гвоздем приправленной».
«Тебе бы, брат, гвоздем своим в стену стучать: хоть пальцы свои тоже поберег бы».
«Это верно-с. Благо, подкладка в халате оборвалась: обвернем гвоздочек в лоскуточек, чтобы не истерся, да и не так слышно было».
Приведенный разговор занял у беседующих, с небольшими перерывами, также чуть не целый день. Но времени им не занимать было, и день, по крайней мере, пролетел незаметно. С этих пор Иван Петрович не боялся уже впасть в меланхолию от полного одиночества: было все же с кем мыслями поделиться. Но животрепещущие темы у них довольно скоро истощились и оставалось только обмениваться жалобами на томительную скуку одиночного заключения.
В середине ноября серое житье-бытье их на короткий миг расцветилось.
«Исайя, ликуй! – простучал однажды слуга своему господину. – Я тоже вольная птица».
«Тебя выпускают?» – спросил Иван Петрович.
«Нет, но я снял с себя кандалы».
«Подпилил?»
«Подпилить не подпилил, а кольцо разогнул». «Поздравляю, братец: можешь хоть тоже променировать по своему подземному паллацо». «И поискать лазу».
«Куда же ты полезешь? Дверь на запоре…»
«А как-нибудь оседлаю нашего придворного тафельдекера и кофишенка».
«Осла-тюремщика? Да и из крепостных ворот тебя все равно не пустят: схватят и тут же на воротах вздернут».
«Выеду-то я на ослике моем, вестимо, не с парадной музыкой и в карьер, а тихомолком курц-галопом и, даст Бог, доберусь-таки до наших аванпостов».
«А того вернее в лесную трущобу, где с холода да с голода сгибнешь: ведь зима уж на дворе». «Значит, колесо фортуны!»
«А я тем часом без тебя с тоски еще с ума спячу, либо ножки протяну!»
«Что ты, милый барин! Коли так, то, видно, незадача мне. До весны уж потерплю, останусь при тебе».
И он остался. Но чего стоило бедняге это решение – отказаться от манившей впереди полной воли, – господин его мог судить по минорному тону и односложным ответам калмыка. Иван Петрович жалел его, но жалел и себя: пребывание под землею становилось с каждым днем невыносимее. Хотя с наступлением холодов казематы по временам и протапливались с коридора, но подземные печи, должно быть, давно не поправлялись, потому что не столько грели, сколько немилосердно дымили, и у арестантов после каждой топки головы трещали. А вдобавок от печного тепла обледеневшие стены испускали накопившуюся в них влагу, которая ручьями стекала на заключенных.
Понемногу и Иван Петрович, ободрившийся было с соседством Лукашки, начал опять падать духом. Зимою все проезжие пути, конечно, занесло снегом, и военные действия между шведами и русскими сами собой должны были прекратиться. Стало быть, до весны царя Петра Алексеевича и не жди в Ниеншанц; а дотянут ли они оба еще до весны всю зиму-зименскую в своем могильном склепе?