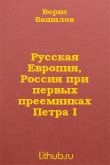Текст книги "Во львиной пасти"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Глава девятая
Не две грозные тучи на небе восходили,
Сражались два войска большие —
Московское войско со шведским…
Как расплачутся шведские солдаты…
«Петровская солдатская песня»
Тише!.. О жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез!
Никитин
В поденной записке Петра Великого точно обозначено, что первый залп по Ниеншанцу произведен был 30 апреля, в седьмом часу вечера, одновременно из двадцати 24-футовых пушек и двенадцати мортир; после чего из пушек сделано было еще девять выстрелов, а из мортир бомбы метаны «во всю ночь даже до утра непрестанно».
Надо ли говорить, что в эту роковую ночь с 30 апреля на 1 мая не сомкнули глаз ни осаждающие, ни осаждаемые? Огненные шары взапуски перелетали туда и оттуда. Но в то время как русское войско, защищенное земляными окопами, не несло почти никакого урона, шведские крепость и город за десять часов беспрерывной канонады жестоко пострадали: все небо кругом было объято багровым заревом, и в разных местах города взвивались огненные языки и облака дыма.
В пятом часу утра в цитадели забили отбой о сдаче – «шамад». Орудия с обеих сторон смолкли, и обе стороны впредь до заключения «акорда» обменялись аманатами (заложниками), причем один из шведских аманатов, майор Мурат, был уполномочен комендантом Опалевым подписать договор.
Имея полную возможность поставить побежденному врагу какие угодно условия, Петр, однако, был так доволен, добившись наконец морской пристани на Балтийском море, что не делал уже шведам никаких стеснений, и «акорд» состоялся в тот же день. Основные пункты его заключались в следующем: комендант, офицеры и нижние чины крепостного гарнизона выпускаются из цитадели «с распущенными знамены и с драгунским знаком, барабанным боем, со всею одеждою, с четырьмя железными полковыми пушками, с верхним и нижним ружьем, с принадлежащими к тому порохом и пулями во рту», а затем переправляются через Неву на царских судах для следования большой Капорской дорогой на Нарву[11]11
Несколько дней спустя этот пункт, по желанию шведов, был изменен в том смысле, что их отпускают не на Нарву, а на Выборг.
[Закрыть], конвоируемые русским офицером, «чтобы его царского величество войска и подъезды их не обеспокоивали и не вредили»; вместе с воинскими чинами выпускаются и их жены, дети и слуги, раненые и больные, а также из города все желающие «чиновные люди» и обыватели; гарнизон получает «со всеми офицеры на месяц провианту на пропитание», и «его царского величества войско ничем не касается их пожитков, чтобы гарнизону дать сроку, пока все вещи свои вывезут».
Вслед за подписанием «акорда» преображенцы заняли город, а семеновцы были впущены в контрэскарп цитадели. Вместе с тем было приступлено к приемке крепостной артиллерии, амуниции и «прочего»[12]12
Кроме 78 крепостных орудий и 195 бочек с порохом (как сказано в имеющейся росписи), было принято: «Ядер, картеч, туфл, банников, фитиля, колец, огнестрельных люсткугулей, гранат, калифонии, серы, подъемов, гирь медных и железных, ломов, стали, гвоздей, топоров, котлов, рогаток свинца, железа, цепей железных, якорей, труб медных, пожарных и прочих воинских припасов многое число».
[Закрыть]; но по громадной массе этого «прочего» дело затянулось до позднего вечера, так что сдача самой крепости могла состояться только на другое утро, 2 мая. После торжественного благодарственного молебствия в царском лагере и троекратной пушечной и ружейной пальбы сложивший теперь с себя звание коменданта полковник Опалев, выйдя из цитадели в сопровождении своих офицеров, передал генерал-фельдмаршалу Шереметеву крепостные ключи.
После этой тяжелой для шведов официальной церемонии они, с разрешения царя, совершили не менее для них печальную частную церемонию перенесения тела фенрика Ливена в цитадель для отпевания его там по обряду лютеранской церкви. Коммерции советник Фризиус доставил из города в русский лагерь богатый гроб, который несли теперь полковые товарищи покойного.
До окончания всех формальностей по сдаче цитадели никто из русских внутрь ее не пропускался. Лукашка, горевший нетерпением пробраться наконец к своему господину и переменивший между тем форму барабанщика опять на свою лакейскую ливрею, примкнул теперь к печальной процессии и таким образом беспрепятственно проник на крепостной двор. Тут перед комендантским подъездом стояла уже траурная колесница с балдахином, запряженная шестью лошадьми в черных попонах и наголовниках из цветных перьев, заказанная – как оказалось потом, по настоянию фрёкен Хильды – также Фризиусом.
Но внимание калмыка остановилось не столько на колеснице, сколько на окружающих строениях. Бог ты мой, что сталось с образцовой в своем роде цитаделью! Крыша с главного ее здания была сорвана, и башенных часов словно никогда и не существовало; стены были буквально изрыты бомбами, и ни в одном почти окне не осталось цельного стекла. Флигеля несколько лучше сохранились; зато казармы представляли груду развалин, из которых торчали только черные остовы дымовых труб.
Не зная, где искать своего барина, Лукашка обратился за этим к стоявшему тут же на дворе в числе зевак комендантскому вестовому. Тот, не удостоив его словесного ответа, сердито кивнул только вверх, на квартиру своего начальника. Калмыку ничего не оставалось, как последовать туда же за траурным шествием. Прихожая была битком набита народом, и Лукашка только шаг за шагом протискался до двери гостиной, когда пастор начал уже на шведском языке свое надгробное слово.
Для большего простора вся мебель из гостиной была вынесена; зеркало было завешено, шторы в окнах опущены. Открытый гроб с бездыханным телом стоял посреди горницы на черном катафалке, обставленном не только горящими восковыми свечами в высоких серебряных подсвечниках, но и целым лесом комнатных растений и цветов, заглушавших своим тонким ароматом духоту от множества скучившегося в горнице народа.
Тщетно искал Лукашка глазами двух хозяек дома, которые, несомненно, участвовали также в достойном убранстве катафалка всеми имевшимися в их распоряжении цветами, для оказания юному воину последней чести: ни тетушки, ни племянницы не было налицо. Но из соседней комнаты доносились как бы сдавленные всхлипы.
В это время кто-то тронул калмыка за плечо: то был господин его, прислонившийся тут же к притолоке входной двери. Но пускаться в разговор было здесь ни время и ни место, и оба ограничились обменом дружескими взглядами.
Речь проповедника была, по-видимому, глубоко прочувствованна, потому что ни у одного из присутствовавших суровых воинов, даже у самого коменданта глаза не остались сухи. А вот на пороге соседней горницы показалась вместе со своей тетушкой, вся в черном, и фрёкен Хильда. Столпившиеся около гроба офицеры почтительно расступились, и молодая барышня опустилась на колени перед гробом, прижимая платок к губам, чтобы не разрыдаться. Настолько она поборола себя, чтобы не издавать ни звука; но плечи у нее против воли судорожно вздрагивали.
– Словно злой дух какой-то! – пробормотал возле Лукашки господин его.
Когда тот, недоумевая, последовал глазами за направлением глаз Ивана Петровича, то понял, кого он разумеет: стоявший до сих пор около коменданта Фризиус не утерпел и направился к своей невесте. Самоуверенно став рядом с нею, коммерции советник уставился глазами в лицо покойника с такой жестокой, торжествующей миной, точно хотел сказать: «Ну, любезнейший, теперь-то, как себе хочешь, ты нам уже не опасен».
Ливен же, весь в зелени и цветах, с несбежавшим еще с безбородого лица нежным румянцем, с полуоткрытыми веками, лежал как живой, и игравшая на губах его неизменная, добродушно-наивная улыбка обнажала, как всегда, сверкающий белизною ряд как бы выточенных из слоновой кости зубов. И казалось, что эта юношеская улыбка говорила в ответ пожилому, надменному коммерции советнику: «Нет, любезнейший, как себе хочешь, а я и над землей, и под землей буду тебе равно опасен».
По окончании речи пастора дьячок-кантор затянул погребальный псалом. Но тут произошло некоторое замешательство: фрёкен Хильда, приподнявшись с пола, взглянула на лежавшего в гробу и, пораженная также, должно быть, его обманчиво свежим видом и обычною улыбкой, раздирающим голосом вскрикнула: «Han lefver!» («Он жив!»), закатила глаза и пошатнулась: с нею сделалось дурно. Жених подхватил ее и вместе с тетушкой вывел под руки из комнаты.
За псалмом кантора комендант, а потом и все подчиненные его стали подходить один за другим прощаться с молодым товарищем. После всех, когда собирались уже накрыть покойника крышкой, приблизились и Спафариев с Лукашкой, чтобы также приложиться губами ко лбу несчастного фенрика. Никто им в этом не препятствовал, но никто не показал и виду, что замечает их, за исключением одного фон Конова. Тот нарочно, казалось, дожидался своего бывшего гостя у выхода и молча пожал ему крепко руку.
– Кто предвидел бы это? – вполголоса сказал Иван Петрович, указывая глазами на усопшего.
– Все мы должны быть приготовлены к тому же, как и м-то безнадежным тоном отозвался фон Конов. – Нынче была очередь Ливена, завтра, быть может, моя.
– Ну, полноте, дорогой мой! – мягко и сердечно старался ободрить его молодой русский. – Я очень хорошо понимаю, что вам тяжело на более или менее продолжительный срок покинуть вашу прекрасную мызу…
– Я взят с оружием в руках, и с мызой мне во всяком случае придется проститься. Спасибо хоть вашему царю, что дал мне разрешение закончить мои дела. Песня моя спета, а ваша, мосье, еще далеко не допета, и дай вам Бог тянуть ее возможно дольше!
В горле у говорящего словно что осеклось. Он быстро отвернулся и отошел к товарищам, чтобы вместе с ними принять с катафалка гроб; но от Спафариева не ускользнуло, что из-под опущенных ресниц весельчака-майора капнула на пол слеза.
Минут десять спустя из крепостных ворот двинулся печальный кортеж; но позади траурной колесницы следовали пешком только две фрёкен Опалевы, коммерции советник Фризиус да несколько горожан и горожанок; сослуживцы Ливена должны были отстать от него уже у подъемного моста. Зато взамен их тут же примкнул к шествию, по распоряжению царя, целый батальон русских гвардейцев, чтобы проводить покойника до самой могилы со всеми почестями – с распущенными знаменами, под звуки похоронного марша.
Глава десятая
Сын роскоши, прохлад и нег…
Державин
– А фон Конов у меня все из головы не выходит, – заметил задумчиво Иван Петрович своему камердинеру, провожая глазами печальную процессию, пока та не скрылась совсем из виду за городским мостом по той стороне Охты. – Точно прощался со мною навеки.
– А почем знать? – отвечал Лукашка. – Самому мне сдается, что у него что-то неладное на уме. Как бы не сотворил чего над собою! Но теперича, сударь, тебе первым долгом надо позаботиться о своей собственной персоне. Аль забыл, что еще не обелил себя перед царем?
И калмык вкратце, но так образно описал первый допрос свой у царя, что Иван Петрович не на шутку призадумался.
– М-да, – промычал он, – дело-то как будто дрянь выходит…
– И весьма даже дрянь, monsieur, derniere qualite.
– Так как же мне быть-то? У тебя, Лукашка, верно, найдется опять лазейка?
– У меня-то нет, но ежели ее нам кто устроит, так не кто иной, как Павлуша Ягужинский.
– Это кто же?
– А первый денщик царский. Но наперед не прикажешь ли обрить тебя?
Наш щеголь, мрачно насупясь, схватился рукой за заросший реденькой бородкой подбородок.
– Ah, sapristi! Когда перевели меня нынче поутру из каземата во флигель, я тотчас потребовал себе бородобрея, но подлецы так его мне и не прислали! Даже парик пришлось самому расчесать.
– Не до того им, знать, было.
– А мне-то каково? Хоть и зашел я тоже поклониться праху бедняги Ливена, но так и не решился в моем диком образе подойти к фрёкен Хильде.
– И ей, сударь, поверь, не до нас с тобой: больно уж скорбить по покойном.
– По Ливене? Да она же постоянно издевалась над ним! Мертвые сраму не имут. Но это был, правду сказать, такой дуралей, что будь он даже вдвое умнее, он все ж оставался бы прекомплектным ослом.
– А вот поди ж ты! Может, по тому-то самому он и был ей жалок и дорог. Разгадай сердце девичье! Кабы ты видел, как она в слезы ударилась, когда сведала от меня о его кончине; не дала мне даже передать поклон от тебя.
– Ну нет, пустяки, этого не может быть! Не может быть! – заволновался Иван Петрович. – Как только управишься с моим туалетом, беги духом в город, раздобудь мне букет лучших махровых роз.
– В эту-то пору года вряд ли найти их, да и продадут ли еще мне, врагу…
– Не мудрствуй, пожалуйста! Хоть из-под земли выкопай! – оборвал Спафариев камердинера, который обратился для него опять в прежнего крепостного человека. – Не сумел ты передать ей моей признательности, так должен же я принести ей ее персонально?
– Буде отец да жених допустят тебя до нее. Коли уж на то пошло, так букет я от твоего, сударь, имени как-нибудь доставлю: мне все же сподручнее. Но спервоначалу дай нам уладить дело с Ягужинским и государем.
Иван Петрович со вздохом покорился. Туалетные принадлежности, в числе остальных его пожитков, были сданы ему еще поутру при переселении его во флигель цитадели. Расторопный калмык откуда-то добыл ручную тачку и в три приема перевез всю поклажу барина в русский лагерь, а именно в ту солдатскую палатку, где сам нашел приют, побрил здесь Ивана Петровича, завил, нарядил вновь с головы до ног из запасного гардероба, вывезенного еще из Парижа, и затем уже отправился отыскивать заступника барину в лице царского денщика.
Застал он Ягужинского с глазу на глаз довольно скоро, потому что государь со всею свитой вышел как раз к траншеям, чтобы наблюдать оттуда за выселением шведов из крепости за палисады по берегу Невы, где они имели пробыть впредь до особого царского указа, и молодому денщику был дан небольшой роздых.
Выслушав Лукашку, Ягужинский сомнительно покачал головой.
– На мою протекцию для твоего господина и не рассчитывай, – объявил он. – Вечор только просил я за другого человека. Государь сперва и слышать не хотел: гораздо уж тот ему надосадил. Под конец же положил гнев на милость. «Будь по-твоему, – говорит, – это твой месячный рацион. Но до следующего рациона, чур, ни об ком уже не заикайся».
– Эка беда какая! – сокрушался Лукашка, почесывая в затылке. – Кого же еще просить-то?
– А вот пошли своего барина к Александру Данилычу. Он против всех в кредите у государя.
– Меншиков?
– Ну да. Это первая ведь спица в нашей царской колеснице. Если он возьмется ублажить государя, так дело твое в шляпе.
– То-то и есть, что коли кто этак из народа да вознесен превыше прочих человеческих тварей, так к нему уж и подступу нет. А Меншиков теперича, слышь, из вельмож самый наипышный…
– Пышный, да, но не недоступный. Лишь бы взялся, а слово его твердо.
– Да барина-то моего он и в глаза не знает. Не доложишь ли ты, Павел Иваныч, об нем? Будь благодетель!
– Доложить, пожалуй, доложу: на дню перебываю сколько раз с цидулами от государя у его эксцеленции.
– Награди тебя Господь и все московские чудотворцы! В век тебе этого не забудем.
– Ладно. Будьте только оба на всякий случай поблизости.
Когда весь неприятельский гарнизон выбрался наконец за палисады и государь с генералитетом возвратился в лагерь, «его эксцеленция» также удалился на время к себе. Царь Петр, во всем предпочитавший простоту и сам довольствовавшийся на походе палаткой, предоставил своему главному представителю, Меншикову, «блюсти царский онор»; почему Меншиков и в Шлотбурге устроился с возможным комфортом и роскошью в самом просторном из обывательских домов по сю сторону Охты.
Ягужинский сдержал свое слово. Не прошло часа времени, что господин со слугою лисицами вкруг курятника кружились около дома Меншикова, как шмыгнувший туда с царской «цидулкой» Ягужинский вышел на крыльцо и махнул рукой Ивану Петровичу:
– Пожалуйте!
Не без сердцебиения вступил тот в кабинет «первой спицы в колеснице». Меншиков, в расстегнутом домашнем шелковом архалуке, из-под которого на груди белели тонкие кружева, в завитом, присыпанном пудрою парике с косичкой, сидел за письменным столом, заваленным бумагами. Услышав шаги вошедшего, он, не оборачиваясь, сделал только лебяжьим пером в руке знак, чтобы ему не мешали, и продолжал писать. Так Спафариев имел полный досуг оглядеться. Вся эта помпезная обстановка, очевидно, не могла принадлежать владельцу скромного домика в городском предместье, а следовала повсюду за Александром Даниловичем в походном обозе, чтобы во всякое время придать его жилью требуемую «помпу». Весь пол горницы был устлан дорогим персидским ковром; такими же коврами были обиты кругом стены, и на них с большим вкусом было развешено всевозможное оружие: мушкеты и пистоли, палаши и кинжалы. В переднем углу горела и сверкала золотом и алмазами венцов и окладов большая образница с неугасимою лампадой. А это что же? Два великолепных лосиных рога с несчетными концами!
Иван Петрович не утерпел и подошел ближе, чтобы лучше разглядеть.
Да, никакого сомнения: та самая рассоха, из-за которой у него вышла эта рукопашная схватка с майором де ла Гарди!
– Что, узнал? – услышал он вдруг за спиною голос Меншикова.
Он быстро обернулся.
– Как не узнать, ваша эксцеленция? Из тысяч узнал бы, – отвечал он с невольным вздохом, отвешивая изысканный, по всем правилам реверанс.
– Да, сударь мой, что с возу упало, то пропало. Мне рога эти одинаково ценны, как память об атентате на мою персону.
Говоря так, Меншиков посыпал листок перед собою золотым песком, сложил его вчетверо и протянул дожидавшемуся на пороге Ягужинскому.
– Его величеству!
Затем снова повернулся к Спафариеву и, с изящной небрежностью облокотясь на ручку кресла, прищуренными глазами обмерил с головы до ног фигуру просителя. Безупречный с парижской точки зрения, но непривычный при московском дворе новомодный наряд нашего петиметра вызвал на губах царедворца снисходительно-ироническую улыбку.
– Ну-с, мосье маркиз, чем могу служить? Царский фаворит, по-видимому, был в хорошем расположении духа; надо было воспользоваться этим. Была не была!
И неунывающий маркиз наш в вкрадчиво-минорном тоне, но с неизменной развязностью начал с того, что явился-де к его эксцеленции с чистосердечным покаянием, как блудный сын к отцу родному, ибо его эксцеленция по известной доброте своей и величайшего грешника обратит в голубицу.
– Ты, любезнейший, зубов-то мне не заговаривай, – с ласковой твердостью прервал его тут Ментиков. – Простого грешника я, может, и обратил бы в голубицу, индюка же навряд. Выкладывай-ка все начистоту.
И принялся тот «выкладывать». А так как фантазией и остроумием природа его не обделила, то повествование его об обмене паспортов с маркизом Лам-балем и о дальнейших его похождениях между шведами вышло презанимательно, хотя и очень романтично. Прежний уличный пирожник, испытавший на веку своем также немало коловратностей, пока не добрался до ступеней царского трона, просто заслушался и не раз одобрительно кивал головой.
– Та-ак, – протянул он, когда тот кончил всю исповедь. – Выходит, значит, что все твои неподобные затеи и колобродства валились на тебя, как на Макара шишки, не по собственной твоей вине, а по воле судеб?
– Оно и точно ведь так, ваша эксцеленция…
– Кого ты морочить вздумал? Полно, перестань. Ты говоришь, что пришел ко мне, как к духовнику своему. Так и не прикидывайся казанской сиротой, а признавайся по совести: есть ли во всем том, что ты намолол мне сейчас, хоть половина правды?
– Помилуйте, ваша эксцеленция! – воскликнул Иван Петрович. – Статочное ли дело, чтобы я заведомо…
– Не заведомо, а так, ради красного словца. Много ли ты, скажи, припустил от себя этих красных словечек?
– Малость разве, ваша эксцеленция, но, право же, без всякого умысла. В сути дела все верно…
– И побожиться готов?
– Могу-с: ей-же-ей так!
Иван Петрович перекрестился на божницу в переднем углу.
– Ну, верю, – сказал Меншиков. – Приложу усиленную инфлюэнцию, хоть вперед ничего не обещаю. Дабы избежать огорчительных неожиданностей и репримантов, ты лучше не показывайся его величеству на глаза, доколе не пришлют за тобою.
Спафариев стал было заявлять еще свою «чувствительнейшую признательность», но короткий прощальный кивок царедворца дал знать ему, что «авдиенция» кончена.
Глава одиннадцатая
Ой ли, заинька, поскачи,
Ой ли, серенький, попляши!
Кружком, бочком повернись,
Вот так, так, так!
«Хороводная песня»
Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш.
Лермонтов
Давно уже смеркалось и вызвездило, когда Ивана Петровича, действительно, потребовали к царю. По случаю многорадостной оказии – взятия неприятельской передовой фортеции – Петр собрал у себя к вечернему банкету весь генералитет. Трапеза пришла уже к концу, но столующиеся еще не вставали из-за стола, потому что обильная снедь должна была быть еще залита аликантом и мальвазией, романеей и бургонским.
Предстал Спафариев пред очи царские с внутренним трепетом, но первые же слова неумолимого в другое время венценосного судьи разом его ободрили.
– Подойди-ка сюда, маркиз самозваный, подойди. И в голосе царя звучал не беспощадный гнев, а умеренная родительская строгость; в оживленных же чертах, в блестящем взоре просвечивала едва сдерживаемая веселость. Государь, очевидно, был бесконечно счастлив одержанной над «львами севера», почти бескровной победою и, благоволя теперь ко всем и каждому, готов был, кажется, если и не вовсе простить нашего ослушника, то ограничиться только родительским «репримантом».
Ивану Петровичу хорошо было известно, что, по придворному этикету, допущенному в царской руке обязаны были предварительно отдать троекратный церемониальный поклон, затем, приложившись, вновь трижды поклониться и, отойдя назад до выхода, проделать еще раз то же. Но пока для него не было еще и речи о такой царской милости, и он счел за самое верное, по стародавнему русскому обычаю, попросту броситься в ноги государю.
– Что ты, мусье, что ты! Стыдись! Именитому маркизу валяться в ногах отнюдь не пристало! – с явным сарказмом заметил Петр. – Встань, сейчас встань! Ну? Да держись вольнее, фертом. Вот так. Теперь, мусье, повернись-ка бочком, а теперь покажи-ка нам и спину. Дай полюбоваться на тебя со всех сторон. Ай, хорош! Что, мингеры, каково вырядился? Хорош ведь, а?
– Безмерно хорош! Бесподобен! – веселым хором отозвались сидевшие кругом царедворцы.
– Американский попугай! Краше даже попугая: подлинная жар-птица! – продолжал царь в том же тоне. – Недаром ведь три года слишком в Париже проболтался.
– Виноват, ваше величество, – осмелился тут в первый раз подать голос Спафариев. – В Париже я пробыл всего год с небольшим…
– Годик всего? Мало, сударь мой, мало. Каким же кунштам, дозволь спросить, в столь краткий срок могли обучить тебя?
Допрашиваемый, раскрасневшись, с натянутой однообразно улыбкой переминался с ноги на ногу, не зная, что и ответить.
– Ну, что же? Может, хитроумным каким танцам?
– Да… и танцам…
– Доброе дело. Хоть позабавишь мне дорогих гостей. Эй! Позвать сюда нашего лейб-флейтиста!
Иван Петрович так и обомлел. Неужто ж его заставят, как какого-нибудь записного плясуна, выделывать соло перед всеми этими генералами? Но долго ему, по крайней мере, не пришлось томиться неизвестностью. Не успел он оправиться, как явился царский лейб-флейтист Егор Ягунов, самородный талант, перенявший еще в Москве от заезжего концертмейстера весь его музыкальный репертуар, и Петр прямо обратился к нему с вопросом: знает ли он играть новейшие французские танцы?
– Новейшие ли то, не могу сказать, – был ответ, – но знаю монюмаск, алагрек, иначе гросфатер, режуиссанс, менуэт…
– Так сыграй нам, пожалуй, менуэт.
Лейб-флейтист приложил свой инструмент к губам, вытянул их в трубочку – и палатка огласилась мерными трелями менуэта.
– Прошу, мусье, – предложил Петр.
– Да менуэт, государь, одному танцевать не приходится… – пролепетал упавшим голосом Спафариев.
– Почему же нет? Обучал же ты, слышь, менуэту здешнюю комендантскую дочку? Коли нужно, так и со стулом вот заместо дамы протанцуешь. Ну-с?
В голосе царя слышалась та непреоборимая, непреклонная воля, противиться которой было немыслимо.
«Как тут быть? Коли танцевать, так уж по мере сил и уменья», – решил Иван Петрович и стал танцевать.
Сам государь облегчил ему его многотрудную задачу, упомянув о комендантской дочке. Стула, на который указал ему Петр, он, разумеется, не трогал, но вообразив себе, что он обучает опять фрёкен Хильду, Иван Петрович брал свою воображаемую даму галантно за руку, с отменной грацией порхал с нею по палатке и в определенные темпы отвешивал ей почтительные поклоны. Вельможные зрители, приготовившиеся вслед за царем разразиться гомерическим хохотом, удивленно переглядывались и посматривали на государя. Но Петр, опершись на спинку своего кресла, неотступно следил глазами за танцором, притом, как казалось, не без удовольствия.
– А что, Данилыч, – вполголоса обратился он к сидевшему рядом с ним фавориту, – ведь дело-то свое молодчик знает преизрядно.
– И весьма даже, ваше величество, – отвечал тот с какой-то предательской улыбкой. – Но менуэта кто же у нас ноне не танцует? Иное вот тарантелла. Я чай, помнишь, приезжали к нам в Москву итальянцы от папы римского, плясали под тамбурин…
– Стой! Будет! – крикнул Петр с таким внушительным ударом мощной ладонью по столу, что флейтист тотчас умолк, а танцор, чрезвычайно довольный тем, что пытка его уже кончилась, сделал своей несуществующей даме глубокий благодарственный реверанс. Но радость его оказалась преждевременной.
– Знаешь ты, Ягунов, играть тарантеллу? – спросил царь музыканта.
– Никак нет-с, государь, виноват.
– Жаль, братец, жаль. Но в тамбурин-то, сиречь в бубен, все же бить умеешь?
– Само собою: не велика мудрость.
– Так сбегай-ка за ним.
Ягунов бросился вон из палатки; Спафариев же, едва успевший дух перевести, еще пуще оторопел.
– Тарантелла, государь, неаполитанский танец, и в Париже его народ не танцует… – начал он, растерянно, теребя рукою на груди пышные брыжи своей кружевной сорочки.
– Не народ, так балетчики на королевском театре.
– В дивертисменте разве…
– Но ты видел?
– Видеть-то видел… Но смею доложить вашему величеству, что тарантеллу пляшут обыкновенно девушки…
– Ну что ж, так изобразишь нам девушку. Что для тебя, искусника, значит?
– Да и пляшут не на голом полу…
– Подать ему мой коврик!
– И с кастаньетками…
– А вот и кастаньетки, – подхватил Меншиков, насмешливо указывая на столбец хрустальных тарелочек, поданных для десерта.
Все возражения были устранены; а тут возвратился впопыхах в палатку и лейб-флейтист с бубном. Поневоле пришлось опять покориться. Взяв со стола импровизированные кастаньетки, Иван Петрович стал в позу на подостланный ему царский коврик. Музыкант ударил в бубен – и танцор пустился в пляс.
Говоря, что он только видел тарантеллу, он поскромничал: с год назад в Париже, в компании таких же «шаматонов», как и сам, насмотревшись целый вечер на тарантеллу в одном из второстепенных парижских театров и поужинав затем с приятелями в модном погребке устрицами с шампанским, они с одним из этих приятелей в порыве мальчишества воспользовались тут же устричными раковинами, как кастаньетками, подвязали себе, заместо передников, салфетки и проплясали национальный танец неаполитанцев с таким «антрёном», что вызвали между посторонними посетителями погребка бурю восторга, для усмирения которой потребовалось даже вмешательство полицейской власти. Тот первый опыт пошел ему теперь впрок.
Название свое тарантелла получила, как известно, от тарантула, ядовитого паука, укус которого в действительности производит только сильную опухоль, подобно уколу осы. Но, по старинному поверию неаполитанцев, несчастный, укушенный тарантулом, от нестерпимого зуда и боли волей-неволей должен крутиться и прыгать, пока не докружится, не допрыгается до смерти. Нелепое поверье это особенно укоренилось там с XVII века, когда местное простонародье эпидемически страдало нервной болезнью – пляской святого Витта и по невежественности своей приписывало эту непроизвольную пляску действию тарантульного яда.
Спафариева также словно укусил тарантул: вначале он, как и следовало, слегка только топтался на коврике и вертелся вьюном, щелкая в такт хрустальными кастаньетками; но по мере того как Егор Ягунов ускорял темп бубна, ускорялись и телодвижения танцующего.
– Живо! Живее! – сам подзадоривал он музыканта и закружился уже волчком, выделывая топающими ногами, щелкающими руками такие быстрые, замысловатые выкрутни, что у зрителя в глазах зарябило.
– Живо! Живее! – повторял он, а кастаньетки и пятки так и мелькали в воздухе, в раскаленном докрасна лице так и сверкали белки глаз.
Четверть часа длился уже бешеный танец, а зрители, как околдованные, затаив дух, не могли оторвать взоров от этого стремительного вихря, куда, как водоворот, самих их будто втягивало непреодолимой силой.
Вдруг ноги у плясуна подкосились, и он как сноп грохнулся на пол. Бубен смолк, а за столом произошел легкий переполох.
– Посмотрите-ка, что с ним? – сказал Петр, насупив брови, и несколько вельможных собеседников его поспешили к распростертому.
Иван Петрович лежал, как бездыханный, без всякого движения, и только когда ему плеснули в лицо водою, а затем не без усилия поставили его на ноги, он растерянно обвел кругом глазами. Кудри сбитого на бок парика в беспорядке прилипли у него ко лбу и вискам, а вода и пот катились с его побагровевшего лица в три ручья.
– Упарился шибко! Нечего сказать: и в баню не нужно! – с прежней шутливостью заметил государь. – Чего тебе, говори: воды глоток или доброго виноградного вина?
Иван Петрович приложил ладонь к задыхающейся груди и беззвучно зашевелил губами.
– Ну, отдышись сперва, – сказал Петр. – Что там? – обратился он к ворвавшемуся в это время в палатку молодому офицеру-ординарцу.
– От наших караульщиков на Васильевском острову, ваше величество, пришла весть, что неприятельский флот показался на взморье, – отрапортовал ординарец.
– Наконец-то! – воскликнул царь с блещущими глазами и весь встрепенулся. – Кто принес весть-то?
– Преображенский сержант.
– Давай его сюда!
Сержант-вестовщик на расспросы государя дополнил рапорт ординарца существенным показанием, что всех судов «свейских» на виду девять: большой адмиральский фрегат, четыре шнявы и четыре же бота.
– Вас, караульщиков, они покуда не видели? – продолжал допытывать Петр.
– Не должно быть, надёжа-государь: наши сидят, притаясь в кустах, а те, чертовы кумовья, стали далёко – за версту от устья. Вышло у нас только сумнительство: для чего, Господь их ведает, с адмиральского судна два пушечных выстрела на воздух дали.
– А это лозунг их! – вмешался Шереметев. – Знать, полагают, что фортеция все еще их людьми занята. Чтобы не доведались истины, не соизволите ли, ваше высочество, и нам тоже из обоза стрелять в ответ их шведский лозунг?
– Конечно, стреляй ввечеру и поутру. А мы тем часом поразмыслим, какой над ними поиск учинить.