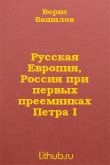Текст книги "Во львиной пасти"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Фельдмаршал вышел из-за стола и из палатки, чтобы лично распорядиться пальбою. Государь же поднял бокал за столь же успешный захват неприятельского флота, как и цитадели. Нечего говорить, что царский тост был восторженно принят.
– Ну-с, мусье балетмейстер, отдышался? – шутливо обратился Петр к Ивану Петровичу, который успел между тем не только окончательно прийти в себя, но и отереть платком разгоряченное лицо и с помощью гребешка привести в некоторый порядок свою расстроенную прическу.
– Отдышался, ваше высочество, благодарствую за спрос! – отвечал молодой человек с обычной уже бойкостью, замечая, что нависшая над ним грозовая туча как будто разрядилась.
– И выпьешь здравицу не пресной уж водой, а романеей или старым бургонским?
– Ежели будет ваша царская милость на бургонское…
– Заслужил, сударь мой, заслужил. Но, как маркиз французский, не утолишься ведь одним бокальцем? Поднести ему орла!
Нет, гроза, видно, не совсем еще миновала! В Москве еще наслышался он про знаменитый царский кубок, вмещавший в себе несколько стаканов и прозванный «орлом»: в виде наказания государь заставлял выпивать его тех из приближенных, которые чем-либо ему надосадили или не угодили.
Раздумывать было уже нечего. Приняв двумя руками грузный золотой кубок, налитый до самых краев, Иван Петрович опорожнил его за один дух.
– Каков ведь, а? – сказал Петр. – По части танцев и напитков ты великий, я вижу, мастер, надо честь отдать. Настолько же ли, посмотрим, профитован ты и по навигационной части?
– Не будет ли с него, государь, на первый-то раз? – вполголоса вступился тут Меншиков. – С арестантской пищи крепкая бургонья и так уже довела его, кажись, до последнего градуса.
И точно, в голове у Ивана Петровича разом зашумело, помутилось; взор его словно дымкой застлало, и самого его на ногах закачало, – ну, ни дать ни взять, как прошлой осенью во время шторма на борту «Морской чайки».
– Правда твоя, Данилыч, – согласился государь и сделал Спафариеву знак рукой. – Будет с тебя, мусье, ступай, выспись.
Тот машинально повернулся к выходу, не чуя ног под собою. Впоследствии припоминалось ему как сквозь туман, что у выхода встретил его верный «личарда» Лукашка, что, подпираемый последним, он через весь лагерь кое-как доплелся до обывательского дома, где калмык успел добыть ему временное пристанище, и что здесь он, как был, в платье, повалился на постель, чтобы моментально забыться мертвецким сном.
Глава двенадцатая
Здравствуй, жизнь! Теплеет кровь,
Ожила надежда вновь…
Запах тленья все слабей,
Запах розы все слышней.
Томас Гуд
«Ты шутишь! – зверь вскричал коварный. —
Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный!
А это ничего, что свой ты долгий нос
И с глупой головой из горла цел унес?»
Крылов
Солнце зашло уже за полдень, когда Иван Петрович протер себе глаза. Голова у него опять прояснилась; только во всех суставах чувствовалась еще истома – последствие вчерашней тарантеллы. От помогавшего ему при одевании камердинера он тут же известился, что и ввечеру и поутру из крепостных орудий, согласно государеву приказу, стреляли шведский лозунг, что шведский адмирал дался в обман и выслал на берег бот с солдатами и матросами за лоцманом, что засевшие в лесу на Васильевском преображенцы нагрянули было на них, но те тотчас пошли наутек, и удалось захватить одного лишь матросика, от которого и дознали, что эскадра шведская прибыла из-под Котлина на выручку Ниеншанцу и что командует ею вице-адмирал Нумберс.
– И как ты, Лукаш, все сейчас пронюхаешь? – заметил Спафариев, зевая и потягиваясь.
– Это-то что! – отозвался калмык. – Об этом чирикают здесь, в Шлотбурге, все воробьи на крышах. А есть у меня еще другая новость… Не знаю только, как она твоей милости покажется.
– Ну?
– По указу государеву, цитадель должна была быть очищена нынче же к восьми часам утра, и потому комендантская дочка с теткой своей убралася уже в город, а к кому – известное дело: к жениху своему, коммерции советнику.
– Ah, diable! – вырвалось у Ивана Петровича, и он большими шагами зашагал по комнате. – Нет, этому не бывать! Она не выйдет за него!
– Почему же нет? – спросил Лукашка, с тонкой усмешкой следя глазами за бегавшим взад и вперед барином. – Не потому ли, что больно свежа еще у нее память о фенрике Ливене?
Иван Петрович остановился на ходу и окинул насмешника огненным взглядом.
– Ты чего зубоскалишь? Ливен сошел уже со сцены, и память о нем порастает травою, но девушку хотят насильно сделать несчастной.
– Зачем же ей быть несчастной? Фризиус хоть и втрое ее старше, да несметно, слышь, богат, уготовит ей довольственную жизнь, а она, как добрая шведочка, будет ему жена смиренная, по хозяйству заботная…
– Нет, этому не бывать! – решительно повторил Иван Петрович и топнул ногою.
– Да как же ты, сударь, тому воспрепятствуешь? – не отставал слуга. – Аль сам поведешь ее под венец?
Молодой барин вспыхнул и вскинулся головою.
– А хоть бы и так? До сего момента я, правда, не думал еще о женитьбе, но коли на то пошло…
– Ну, так я, стало, очистил тебе дорогу, – сказал Лукашка. – Памятуя твой, сударь, вчерашний приказ, я побывал уже в городе за букетцем роз…
– И добыл?
– Добыть-то добыл… Но дай рассказать все по ряду. Избегал я, почитай, все улицы и переулки, язык высунув: в паршивом этом городишке ни единого ведь цветочного магазина!
– Да у нас и в Белокаменной доселе их не завелося.
– То Россия, а это как никак немечина. Как вдруг слышу над самым ухом: «Lucien!» Глядь, ан из окошка кивает мне фру Пальмен, старушка, помнишь, экономка майора фон Конова. Ну, слово за слово, поведала она мне наперед свое горе: рассчитал майор их всех на мызе от первого до последнего, рассчитал по-божески, просил не поминать лихом, вышел с пистолей в другую горницу…
– И пустил себе пулю в лоб?! – испуганно досказал Иван Петрович.
– Пустил бы, кабы фру Пальмен, вовремя не толкнула его под руку: пуля ударила в стену. Взяла тут старушка с него клятву – не накладывать на себя рук; но с того самого часу он заговариваться начал.
– Ах, несчастный! С чего бы это он?
– А я так смекаю, что от него же раздобыли мы для государя план Ниеншанца, ну, и загрызла его совесть, что по его-де оплошности взята крепость. Само собою, что экономке его я об этом ни полуслова.
– Так ей пришлось тоже выселиться с мызы?
– Пришлося, и сняла она тут в городе квартирку под жильцов. Вот я ей и кстати как с неба свалился. Стала она меня упрашивать перебраться к ней с господином маркизом. И взялся я обделать ей это дельце в уважение доброй приязни господина маркиза к господину майору, буде и она тоже пособит мне в моем деле – достать букет наилучших махровых роз. Ну, а старуха на счастье великая охотница до комнатных цветов, захватила их с собой с мызы видимо-невидимо…
– Не размазывай, пожалуйста! – нетерпеливо перебил Иван Петрович. – Словом, она сделала тебе букет и ты отнес его по принадлежности?
– То-то вот, по принадлежности ли? До заднего крыльца и сеней коммерции советника пробрался я задворками без задержки. Попросил тут служанку вызвать фрёкен Хильду по экстренно-секретному делу. Не дослышала ль та меня, не посмела ль доложить племяннице помимо тетки – не ведаю, но вышла-то ко мне в сени не племянница, а тетка.
– Sacredieu! Ну, и что же?
– Букет-то был с маленький воз: спрятать его было некуда. Как тут быть! Дай-ка, думаю, презентую от имени господина маркиза самой тетке: авось, умаслим этим.
– Фюить, фюить! – засвистал Иван Петрович. – А она что же?
– Она так солнышком и просияла, словно дали ей луидор pour boire, на выпивку, и велела от всего сердца благодарить господина маркиза.
– Нет, этого так нельзя оставить! – воскликнул Спафариев и, как угорелый, заметался по комнате.
– Ты что же это ищешь, сударь? – спросил Лукашка.
– Шляпу мою… Ах, да вот она.
– Но куда ты?
– Туда… к ним…
– Да под каким же претекстом?
– Без всякого претекста. Велю просто доложить о себе. Надо же себя ассюрировать!
– А ты, сударь, думаешь, что коммерции советник так вот и пустит волка к себе в овчарню? Он тоже хитрец и мышлец, да еще и присяжный враг русских. Хорошо, коли отъедешь только не солоно хлебавши.
– Не каркай, ворона! Может, вовсе и не нарвусь на него; а нарвусь, так я тоже, слава Богу, не червяк, который только корчится, когда на него наступят.
– А человек, который благодарит еще за честь и удовольстве, – пробормотал про себя калмык, не смея высказаться, однако, так непочтительно вслух.
И господин его, действительно, отправился тотчас «ассюрировать» себя. Проходя городом, Иван Петрович был так поглощен мыслями о предстоящих объяснениях, что окружающие следы разрушения от вчерашней бомбардировки оставляли его совершенно безучастным. А погром был жестокий: вся вышка немецкой кирхи вместе с колоколами была снесена словно ураганом, фасад же ее, обращенный к русским траншеям, представлял вид выкорчеванного поля, из обывательских домов едва половина уцелела, другая половина сделалась жертвой пламени. Сами обыватели бродили по улицам унылые, как потерянные; на столь оживленной прежде рыночной площади не было ни одного воза, ни одной торговки; из лавчонок кругом ни одной еще не открывалось. На одном углу только стоял со своей тележкой памятный Ивану Петровичу еще с прошлой осени русский торговец яблоками; но в тележке у него были теперь уже не яблоки, время которых давно миновало, а калачи да баранки.
Торговец тотчас признал в переходящем площадь молодом щеголе прошлогоднего тароватого барича и радостно окликнул его:
– А, господин! По добру ль по здорову ль?
– Спасибо, милый, твоими молитвами, – отвечал Спафариев, мимоходом кивая ему, и поспешил далее.
Двухэтажный барский дом богача Фризиуса, как выходивший на набережную Большой Невы, откуда не было выстрелов, а может быть, и снабженный гасительными снарядами, уцелел от пожара. Но все занавески в окнах дома оказались спущены, словно затем, чтобы ничей нескромный взор не мог проникнуть внутрь, а на пороге парадного крыльца, заслоняя собою вход, стоял осанистый толстяк-привратник. От хозяина ему, должно быть, была дана совершенно определенная инструкция, потому что разряженную фигуру молодого русского он еще издали оглядывал с нахальной подозрительностью, а когда тот, решившись подойти, задал ему один и тот же вопрос последовательно на трех языках – русском, немецком и французском: «Дома ли фрёнкен Хильда Опалева?», невежа не счел даже нужным скорчить почтительно-недоумевающую рожу, а, вздернув нос, молчаливым жестом на набережную как бы предложил: «Не угодно ли господину прогуляться?»
Протиснуться мимо этого остолопа нечего было и думать. Оставалось одно: по примеру Лукашки, пробраться с черного крыльца. Но здесь герой наш попал из дождя да в воду.
Когда он обходом с соседнего переулка добрался до ворот дома и осторожно открыл калитку, глазам его неожиданно представилась такого рода картина, что он на минуту остолбенел. Посреди двора под личным руководством коммерции советника целая армия рабочих укладывала движимость хозяина и под боковым навесом уже громоздилась целая горка забитых в дорогу ящиков и зашитых тюков. Спафариев готов был уже благоразумно обратиться вспять, когда цепная дворняга около ворот подняла вдруг громкий лай, и стоявший в калитке был замечен Фризиусом.
– Что вам нужно? – крикнул ему тот издали отнюдь не приветливо и, спустив засученные рукава, неспешно, с обычной своей горделивой осанкой, направился через двор навстречу непрошенному гостю.
Теперь отступление было бы уже постыдным малодушием, и Иван Петрович подался также вперед. Баталия так баталия!
– Мне хотелось только на прощание засвидетельствовать мое почтение обеим фрёкен, – развязно начал он, слегка приподнимая на голове шляпу.
– К сожалению, они не могут принять вас, – сухо оборвал его коммерции советник. – Мы собираемся, как видите, в дальний путь.
– Но, может быть, они меня все-таки примут, – настаивал гость и для большей убедительности легкомысленно прибавил: – Им будет приятно услышать от меня о некоторых особых льготах, которые мне удалось выговорить у государя для жителей Ниеншанца.
Но старый воробей не дал провести себя на мякине. Скептически пошевелив бровями, Фризиус справился, какие же это еще льготы?
– О них я буду иметь удовольствие лично сообщить обеим фрёкен, – уклонился Спафариев.
– Но льготы те попали тоже в акордные пункты?
– А то как же?
– Хотя акорд был подписан еще в то время, когда вы сами сидели у нас в каземате?
Иван Петрович прикусил язык и вспыхнул.
– Так вы мне, я вижу, не верите, милостивый государь? – вскинулся он, по слабости человеческой досадуя не столько на себя самого за свою неудачную ложь, сколько на того, кто уличил его в ней.
– А вы сами, милостивый государь, поверили бы на моем месте? Summa summarum, одним словом, вам, во что бы то ни стало, надо видеть фрекен Хильду?
– Хоть бы и так!
– Так скажу уж прямо, что в отсутствие отца она никого, слышите, никого не принимает.
– Позвольте и мне на этот раз, Herr Commerzienrath, не поверить вам! Вы самостоятельно не хотите никого допустить до нее.
И в лицо коммерции советника ударила теперь краска. Чванливо фыркнув, он обвел весь двор и рабочих своих злобным взором. Но, пересилив свой гнев, он с особенным достоинством ответил:
– Вся Швеция, начиная от короля и кончая последним нищим, верит слову коммерции советника Генриха Фризиуса!
– Да мы с вами, Herr Frisius, уж не в Швеции, а в России, и королю вашему Карлу я, простите, ни на столько также не доверяю!
Этого было уже слишком для ярого шведского патриота, пожертвовавшего для своего обожаемого короля миллионы. Он изменился в лице и дрожащей от волнения рукой ткнул гостю на калитку.
– Не угодно ли?
– А если мне не угодно? – задорно усмехнулся на это в ответ Иван Петрович.
– Если нет, то вас может постигнуть та участь, которой вы, к искреннему моему сожалению, избегли при приезде в Ниеншанц, благодаря только непростительной слабости нашего военного суда.
– Вот как! Не хотите ли вы меня среди бела дня расстрелять здесь или повесить?
– Есть и другие, более подходящие способы незаметно устранить неудобного человека.
– А именно?
– Я велю, например, моим креатурам, – Фризиус кивнул на своих рабочих, – которые мне безгранично преданы, зашить вас в мешок.
– И доставить бесплатно с остальным багажом вашим в Выборг? – досказал в том же тоне Спафариев. – Я, кстати же, еще и не бывал там…
– Нет, зачем так далеко, – отвечал Фризиус с ударением и понижая голос. – Всего на середину Невы. Там глубины до семи сажен, и мешок с привязанной пятипудовой гирей никогда уже не выплывет на поверхность.
Судя по неумолимой жестокости, с которой это было произнесено, ревнивый изверг не шутя, кажется, готов был исполнить свою угрозу. Баталия, очевидно, была проиграна; оставалось только с некоторой честью удалиться с поля битвы.
– Вы забываете, милостивый государь, – с оскорбленным видом заметил Иван Петрович, – что довольно царю Петру узнать о вашей угрозе, чтобы по меньшей мере лишить вас лично некоторых из предоставленных вам льгот.
– Не из тех ли, что вы так великодушно выхлопотали для нас? – иронически отозвался коммерции советник, а затем со спокойной уверенностью прибавил: – Roma locuta, causa finita – Рим высказался, дело кончено. Неужели царь ваш даст больше веры зеленому ветреному юноше, чем зрелому, умудренному опытом мужу, и изменит, ради ваших пустых наветов, своему державному слову? Господь с вами! Sapienti sat. С разумного довольно.
Едва скользнув по «зеленому юноше» презрительно-высокомерным взглядом, победитель без поклона отвернулся от него и направился обратно к своим рабочим.
– Sapienti sat! Проклятый римлянин! – бормотал про себя побежденный, выбираясь за калитку.
А на сделанный ему дома камердинером вопрос об исходе его визита, с сердцем буркнул только: – Не твое дело, болван! Sapienti sat!
Глава тринадцатая
Быти грому великому! идти дождю стрелами с Дону великого! Ту ся копием приламати, ту ся саблями потручяти о шеломы половецкие, на реце на Каяле, у Дону Великого…
«Слово о палку Игореве»
Ударить отбой! Мы победили.
Довольно… Отбой!
Пушкин
Вскоре после описанной сейчас бескровной и бесславной баталии Ивану Петровичу довелось принять участие в другой баталии – кровопролитной, и с большим уже успехом.
Нашими караульщиками на Васильевском острове было усмотрено, что от стоявшей на взморье шведской эскадры отделились два фрегата: шнява и большой бот и стали в устье Невы. По радостному возбуждению, которое весть об этом вызвала около царской палатки, Лукашка догадался, что принята резолюция – врасплох захватить неприятельские суда, и, подкараулив царского денщика Ягужинского, он пристал к нему – сказать: так ли или нет?
– Ну да, да! Отвяжись! – был ответ.
– Нет, Павел Иванович, прости, не отвяжусь, – не отставал калмык. – Спрашиваю я не для себя, а ради самого дела. Государь, верно, умыслил обходом вокруг Васильевского острова атаковать их с моря, дабы не дать им улизнуть?
Ягужинский с удивлением оглядел вопрошающего.
– Ты что же это, братец, своей собственной смекалкой дошел?
– Не Бог весть что за мудрость. Хвост голове, правда, не указка, но, по моему глупому холопскому разумению, было бы еще вернее, кабы взять их в тиски, нагрянуть разом с двух сторон.
– Тебя вот только не спросили! И без того вторая партия двинется на них сверху – Большою Невою.
– Где она будет у них сейчас на виду! А я подкрался бы к ним протоком Большой Невы, Кеме, чтобы ударить им в тыл от Калинкиной деревни.
И в нескольких словах Лукашка рассказал о том маневре, каким он с барином своим спаслись протоком Невы от погони майора де ла Гарди.
– Лишь бы лодкам вашим не сесть там на мель либо в камышах не застрять, – заключил он свой рассказ, – но кабы нас с барином взяли с собой добровольцами на тот променаж…
– Так вы провели бы до места? Что ж, пожалуй, доложу государю.
Результатом доклада Ягужинского было то, что 6 мая перед закатом солнца оба полка гвардии были посажены на имевшиеся в Шлотбурге налицо тридцать лодок-карбасов. Пятнадцать из них с преображенцами, под командой «капитана от бомбардиров», то есть самого царя, пустились вниз по Большой Неве до тоней де ла Гарди (нынешней «биржевой стрелки»), где свернули в Малую Неву вокруг Васильевского острова; вторая же партия из семеновцев, под начальством «бомбардир-поручика» Меншикова и под руководством наших двух добровольцев-лоцманов, у мызы фон Конова завернула в реку Кеме (нынешнюю Фонтанку).
В догорающих лучах вечерней зари они плыли по течению лодка за лодкой, тихо и бесшумно, следом за передовым баркасом лихого командира флотилии. Когда они доплыли до Калинкиной деревни, расположенной на левом берегу Фонтанки при самом впадении ее в невское устье, совсем уже смерклось.
– Сиди смирно! – сказал Меншиков сидевшему рядом с ним офицеру-ординарцу и, положив к нему на плечо подзорную трубу, направил ее на взморье, где на самом горизонте, на бледно-палевом фоне неба смутно выделялось несколько корабельных мачт. – Вон и шведская эскадра. Нас здесь под берегом за темнотою, по счастью, не видать.
И он сделал распоряжение о причале флотилии к лежащему насупротив Калинкиной деревни небольшому болотистому острову, получившему впоследствии название Галерного. Когда все пятнадцать лодок нашли себе убежище в обросшем остров густом камыше, всем нижним чинам было роздано по чарке пенника и строго наказано не говорить громко, тем паче не горланить свои полковые песни; сам же Меншиков сошел на остров, где, завернувшись с бурку, расположился на разостланном ковре. Уголок ковра он милостиво предоставил Ивану Петровичу, общество которого, как бывалого туриста и салонного галана, казалось, начинало нравиться веселому царедворцу.
Тем временем Лукашка, с разрешения обоих, произвел рекогносцировку: прокравшись кустарником на противоположный берег острова, выходивший на Неву, он вскоре вернулся оттуда с донесением, что оба шведских судна ничего еще, видно, не чают, потому что стоят себе по-прежнему на якоре.
– А ты, друг, постерег бы их там до утра, – сказал Меншиков.
– Слушаю-с, ваша милость. Чуть что – дам алярм: закричу перепелом.
Зажечь костер Меншиков не решился, чтобы ненароком не обратить внимания шведов. Но, защищенный своей буркой от ночной сырости и прохлады, он охотно прислушивался к неистощимой болтовне молодого собеседника на заграничные темы, пока, убаюканный, незаметно не задремал.
Ивана Петровича также сон клонил; но речные испарения, расстилавшиеся по земле сырым туманом, пронизывали его сквозь дорожный плащ; так что когда обутрело, он с непривычки к бивачной жизни продрог и расчихался.
– Ты что это, мусье? Еще выдашь нас! – послышалось из-под бурки сонное ворчанье.
– Виноват, ваша эксцеленция, но сырость проклятая… Чих!
– Ах, чтоб тебя нелегкая! Вот матушкин сынок! Не можешь, что ли, воздержаться?
В ответ последовало еще несколько звонких чихов. Меншиков сердито приподнялся на локоть, чтобы пуще разразиться, но вдруг приник ухом: со стороны Невы явственно донесся скрипучий крик перепела.
– Это калмык твой знак подает! Верно, неспроста. Да и то уже светает. Будет нам валяться. Вставай, вставай, ребятушки!
Прибежавший в это время впопыхах калмык донес, что на палубе шведского адмиральского корабля зашевелились, словно собираются сняться с якоря.
– Я жду еще ракеты государя, – сказал Меншиков. – Но надо быть наготове.
Участники экспедиции расселись по своим местам. Но прежде отплытия каждому была поднесена опять полная чарка; затем офицером-ординарцем была прочитана краткая молитва, а после молитвы начальник флотилии необычайно серьезным, но бодрым тоном обратился к нижним чинам с такой речью:
– Семеновцы! Вы точно так же, как преображенцы, которых ведет сам государь, конечно, и на сей раз не осрамите. Но бой будет нешуточный: мы идем на абордаж. Многим из нас, быть может, суждено пить смертную чашу. Но добрые товарищи отплатят за павших и разнесут о них славу по всей земле русской, что сложили они голову за царя, за святую Русь…
– Рады стараться! – прогудело от лодки к лодке. – Ни головы, ни живота не пожалеем!
– Тише, ребята, неравно услышит неприятель. А теперь – с Богом!
Все за начальником, как один человек, осенились крестом. Тут из-за дерев с Невы к яснеющему утреннему небу взвилась сигнальная ракета и рассыпалась с треском.
– Это царь зовет нас. Вперед! – скомандовал Меншиков, и во главе флотилии карбас его двинулся в пролив между Галерным островом и материком, чтобы попасть в Неву с такой стороны, откуда неприятель никак не чаял русских.
Поспели они как раз вовремя, потому что на обоих шведских кораблях распустили уже паруса, а вокруг Васильевского острова огибала к ним флотилия государя. При свете занимавшейся зари Спафариев мог издали ясно прочесть теперь под бортами обоих шведских судов и имена их: шнява, вооруженная восемью пушками, носила название «Астрильд», а большой адмиральский бот о десяти пушках – «Гедан».
Появление одновременно с двух сторон по пятнадцати больших лодок с русскими солдатами вызвало на шведских судах вполне понятный переполох: у пушек засновали канониры, по мачтам и реям замелькали матросы. Паруса стали надуваться утренним бризом, и шнява, а за нею и бот взяли курс к морю. Но глубоко сидевшие суда должны были держаться фарватера, наперерез которого плыла уже царская флотилия с преображенцами. Столкновение стало неизбежным. Шведам ничего не оставалось, как форсировать себе проход. Тяжеловесная шнява неуклюже повернулась к русским одним бортом, и одновременно из всех четырех орудий этого борта с громовым грохотом сверкнул огонь, взвился дым. Нацел, однако, оказался для низких лодок слишком высок, и все четыре ядра перелетели через головы русских. «Астрильд» стал поворачиваться другим бортом, но царские карбасы, как пчелы, облепили уже шняву, и когда с ее борта нападающих встретил ружейный залп, из лодок в ответ полетели на корабль ручные гранаты. А вот сам царь впереди всех полез на борт «Астрильда», отбиваясь топором от шведов, накинувшихся на него с ружейными прикладами…
Наблюдать далее за ходом боя на «Астрильде» Ивану Петровичу не пришлось: флотилия Меншикова в свой черед устремилась на второй шведский фрегат – «Гедан». С одного своего борта корабль этот успел также дать залп и более метко: один из русских карбасов шведским ядром почти мгновенно потопило; но всплывший на поверхность экипаж был тотчас подобран остальными лодками, которые затем дружно оцепили кругом неприятельский корабль. Тот же обмен убийственных приветствий ружейными пулями и ручными гранатами, а затем зычная команда Меншикова «На абордаж!» и одушевленное исполнение команды…
Когда Ивану Петровичу впоследствии приходилось говорить об этой исторической морской баталии, он, благодаря своей впечатлительности и пылкой фантазии, повествовал такие чудеса, что слушатели только уши развешивали. На самом же деле все происходило среди такого густого порохового дыма, что уследить за всеми перипетиями и мелкими эпизодами смертельного боя безучастному зрителю не было положительной возможности. И к лучшему, потому что в этом дымном облаке совершалось нечто ужасное. Выстрелы, правда, вскоре стали реже: дело, очевидно, дошло до рукопашной; но корабельная палуба трещала под ногами борющихся, а в воздухе стоял стоголосый нечеловеческий рев и стон – адская музыка, сквозь которую звучно выделялся только голос Меншикова, подбодрявший своих удальцов-семеновцев.
Герой наш, как записной охотник, хотя и давно уже привык проливать кровь, но кровь одних неразумных тварей; на человека, хотя бы и врага, у него рука не поднялась бы. Свое парижское ружье он, правда, взял сегодня с собой, но лишь на случай крайности, и когда Лукашка, зараженный примером гвардейцев, хотел было броситься вслед за ними и схватил уже со скамейки барское ружье, барин отнял его у него, а самого его насильно усадил опять на место возле себя.
– Сиди! И без тебя лишних перебьют. Господи! Неужели нельзя было обойтись без этой бойни?
Внезапно налетевшим ветром развеяло дымную завесу, и глазам их представилась такая картина, от которой у них дух захватило: Меншиков стоял на самом борту «Гедана», держась левой рукой за вант, а правой, вооруженной топором, едва отбивался от напиравшего на него с остервенением шведского морского офицера, как потом оказалось – самого начальника адмиральского бота. Но опасность грозила ему еще с другой стороны: рядом с ним на корабельном борту вырос вдруг другой швед, ростом Голиаф, и так как мушкет последнего был уже, видно, разряжен, то он обратил его в палицу, которую занес теперь над начальником русских, чтобы раскроить ему череп.
Спафариев, в руках у которого было еще отнятое у Лукашки ружье, совершенно безотчетно прицелился, выстрелил – и Голиаф, как сраженный молнией, упал замертво. Но, падая, он палицей своей так чувствительно задел по левому плечу Меншикова, что тот выпустил вант, за который держался. Этим воспользовался командир «Гедана» для нового, решительного удара. Меншиков подался назад, оступился с края борта – и стремглав полетел с вышины в реку. Волны всплеснули и поглотили упавшего.
Но следом за ним двое из сидевших в лодке добровольно уже прыгнули в воду: Иван Петрович и Лукашка. Полминуты спустя, оба вынырнули в ста шагах ниже по течению, держа между собою утопавшего, а еще спустя минуту, все трое были приняты в подоспевшую к ним лодку.
Тут с «Астрильда» донесся трубный призыв к прекращению боя и громогласное «ура!», на которое с «Гедана» и окружающих лодок отвечало восторженное эхо.
Победные звуки привели разом в себя Меншикова, ошеломленного, казалось, силою падения.
– Бой окончен, – сказал он, отряхивая свое мокрое платье. – Везите меня к государю!
Бой, действительно, был кончен. На «Астрильде» благодаря присутствию самого царя, повелевшего щадить раненых и обезоруженных врагов, было взято их живыми девятнадцать человек, в том числе штурман; на «Гедане» же семеновцы при виде падения в воду своего командира до того ожесточились, что не давали уже никому пощады, и все до единого защитники «Гедана» нашли себе могилу в невских волнах…