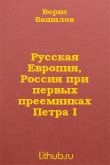Текст книги "Во львиной пасти"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 17 страниц)
– Ну, так вместе в окошко хоть посмотрим. Ввечеру же на Неве будет огонь артифициальный, потехи огненные. Всего, все равно, не пересмотришь. Вон хоть плакат на заборе – посмотри-ка. Это заезжий немчура в свой театр-циркус почтеннейшую публику зазывает. А что нагородил – умора!
И, подойдя с Иванов Петровичем к прибитой на заборе большущей афише, калмык стал читать с свойственною ему выразительностью и с особенным подчеркиваньем наиболее безграмотных мест[24]24
В приводимой ниже выдержке из подлинной афиши Петровских времен исправлена лишь для удобства чтения орфография.
[Закрыть]:
«Объявление всякого чина персонам, какия поспешные дивотворствия и прочий забавные действия в государствах презентованы, а именно в Цесарии, Пруссии, Франции, Польше и других княжениях; а какия – о том ниже следуют некоторый позитуры с переменными виды и действия, а именно:
1. Вначале наша в свете похвальная аглинская мастерица, опрокинясь назад ногами, на плат прострется.
2. Обе ноги круг шеи обивает, подобно галстуху.
… 7. Опрокинясь спиною, головою до земли, туловищем на ногах вкруг вертится, яко ветряная мельница, а лицо стоит на одном месте, не дотыкаясь руками до земли.
… 9. На пирамиде или 2 стулах стоящая головою, спустя на 2 фута ниже ног своих и подымая монету или рюмку вина, и пиет за здравие всей компании.
… 11. Еще ж будет колебимое явление от француза, а именно лестница 7 футов, на оной младенец; потом, поставя оную на чело, танцует фоли дишпания.
… Прочия действия не суть описуемы.
При сем же забавный человек, подземист собою, преузорочные удивительные скоки делает, которые натурою нечаянны, которому и мастерица то ж за ним действует; да еще ж с осмью обнаженными шпагами с ужасным видом отправляет; она же в танце на месте величиною с тарель более 600 раз обращается, храня верно каданцы, и шпагами мечет более 50 крат разными манерами, поставя на глаза, нос, щеки, уста и грудь свободно, не поддерживая их и чрез меру удивительно…»
– Ну, как не посмотреть! – со смехом заметил Люсьен, дочтя заманчивую афишу до конца. – И зрителей, верно, великое будет стечение. Да что ты, батюшка, ровно в воду опущенный? Царская радость – наша общая радость.
– Ваша, да, – живых людей, нужных государю, а не наша – людей отпетых, безнадежных, на коих им поставлен крест.
– С чего ты взял, Иван Петрович, что на тебя им крест поставлен?
– С того, что он признал меня годным лишь монстром для своей кунсткамеры.
– Ну, вот! Все это уныние у тебя, голубчик, от лишнего жира. Сбудешь на лекарственных водах половину – и как феникс из пепла воспрянешь.
– Дай Бог, дай Бог… Покамест же я еще под пеплом, на поприще государственности ни на что не капабель, а воспряну ли в Карлсбаде – один Господь ведает. Теперь бы лишь доползти туда.
Ни дальнейшие убеждения, ни веселые прибаутки Люсьена не могли уже поколебать его решения – отбыть из Петербурга на первом же немецком корабле. По неотвязному настоянию калмыка, он, правда, участвовал во всех увеселениях высокоторжественного дня, но участвовал только в качестве пассивного зрителя, бездушного автомата. Безучастно слушал он немецких трубачей и литаврщиков на верхней галерее вышеупомянутой модной «австерии»; безучастно слышал пушечную пальбу, сопровождавшую тосты за царским столом; равнодушно глазел на разные народные игрища и состязания на плацу позади Летнего дворца; равнодушно наблюдал ввечеру в окна австерии царскую ассамблею, а затем и сожженный на Неве «блистательный артифициальный огонь». За весь день на безмолвных устах его раз только проскользнула улыбка, когда в числе участниц ассамблеи он заметил и супругу маршалка Антуфьева, Евву Ивановну, которая не в национальном уже русском сарафане, а в заморском робронде на фижменах, наравне с другими придворными дамами, исполняла французский контреданс с обычными в то время церемонными приседаниями, – исполняла как какую-то тяжкую службу, с мрачно насупленными бровями, то и дело наступая с непривычки на свой собственный шлейф…
Здесь мы и простимся с нашим героем, который на другое же утро уплыл на штеттинском судне, чтобы никогда уже не возвращаться на место действия нашего рассказа – на берега Невы, где возникшая по мановению царского жезла новая столица продолжала расти в ширь и высь на европейский лад, увлекая своим примером и остальную Россию. Только спустя лет 25, старожил петербургский Лука Артемьевич Калмыков – уже не лейтенант, а вице-адмирал, проведал случайно от заезжего калужанина, что калужский дворянин и помещик Иван Петрович Спафариев уже сколько лет назад приказал долго жить, застигнутый «кондрашкой» во время своей чуть не десятой побывки в Карлсбаде и оплакиваемый на родине в пятнадцать душ. Сам калмык дожил до глубокой старости, не оставив по себе потомства, потому что за государевою службою так и не удосужился найти себе жену; но память о генерал-лейтенанте Калмыкове, как об образцовом служаке и первом знатоке судостроительного искусства, на многие еще годы пережила самого в русском флоте.
1899