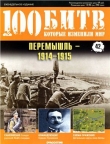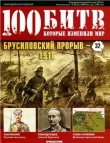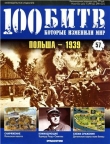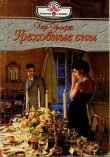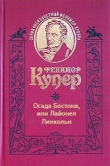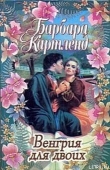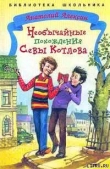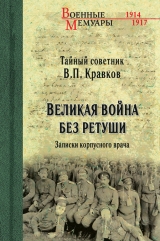
Текст книги "Великая война без ретуши. Записки корпусного врача"
Автор книги: Василий Кравков
Жанры:
Военная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
1 сентября. Хмуро и дождливо. Всю ночь тревожился массой мух и тараканов. Достал кружечку молока; утром поблаженствовал чаем с молоком. Давно этого не было.
В 9 утра выехали, опередивши обозы, на Хмелек[95]95
Хмелек – деревня Белгорайского уезда Холмской губернии, имение графов Замойских, ныне в Билгорайском повяте Люблинского воеводства (Польша).
[Закрыть] через Белгорай[96]96
Белограй – уездный город Холмской губернии, ныне Билгорай, центр одноименного повята Люблинского воеводства (Польша).
[Закрыть], Княжнополь[97]97
Княжполь – деревня Белгорайского уезда Холмской губернии, ныне Ксенжполь в Билгорайском повяте Люблинского воеводства (Польша).
[Закрыть] и Раковку[98]98
Раковка – деревня Люблинской губернии, ныне в Билгорайском повяте Люблинского воеводства (Польша).
[Закрыть]. Дорога пролегает почти все время через пески и сосновые леса; много рубленых деревьев; чудный ароматный воздух; под Княжнополе[м] – взорванный и погорелый мост; переезжали вброд. Белгорай – лучше Красностава, на улицах по тротуарам столы с самоварами, евреи угощают солдатиков. Трудно купить хлеб или к[акой]-л[ибо] другой продукт. Солдаты больше хотят табаку, чем хлеба… Избы в деревнях с одинарными рамами – очевидно, зимы здесь теплые. […]
2 сентября. Всю ночь лил дождь; люди все намокли, и за поздним прибытием обоза с кухней и утомлением вследствие ежедневн[ых] переходов до 20–30 верст – мало ели. Вообще люди наши переутомлены. Дня не проходит, ч[то]б[ы] мы не передвигались.
Сытно нас покормили вчера и сегодня у батюшки (поросенок жареный с кашей, вареники, простокваша, молоко…); ели мы с волчьим аппетитом. Заночевали двумя группами: я с интендантами, а остальные штабные – в фольварке у одного пана, арендатора гр[афа] Замойского[99]99
Замойский Маврикий Фомич (1871–1939) – граф, крупный землевладелец, член 1 Государственной думы (1906).
[Закрыть]. […]
К 9 часам разведрилось. Двигаемся сегодня за границу – в Мощаницы[100]100
Мощаницы – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Мощаница в Любачовском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть]; сердце замирает от сознания, что австрийцы из нашей земли изгнаны, и мы ступаем на их землю.
Отправились около 12 дня из Хмелика через Бабице и Волю-Общанску[101]101
Бабице и Воля-Общанска – деревни Белгорайского уезда Холмской губернии, ныне обе в Билгорайском повяте Люблинского воеводства (Польша).
[Закрыть] на Мощаницы. Погода прояснилась, и солнышко приветливо грело – по-весеннему, и окружающая природа носила весенний колорит. Дружный хор галок, крик гусей и уток, быстрый поток ручьев после вчерашнего дождя… Казалось, что и природа ликовала с нами перед перспективой быть скоро за границей. Но вот мы около 3 часов дня и у пограничного кордона, межевых знаков, проехали нейтральную зону и вступили в австрийскую землю – Червонную Русь – Галицию. Прокричали «ура!», друг друга поздравили с праздником перевала через границу. Радостные приветствуя]. Вторая половина пути пролегала по Божьей шири и глади; поля зеленели, и на деревьях – ни одного желтого листика… […]
3 сентября. […] Наш корпус, по-видимому, действительно] будет пока осью вращения для других войск… […] Австрийцы цепляются за Сеняву[102]102
Сенява – город в Галиции (Австро-Венгрия), майорат князей Чарторыйских. Ныне в Пшеворском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], Ярослав[103]103
Ярослав – город в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Любачовском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть] и Перемышль, высылая из этих укрепленных пунктов отряды. Вероятно, простоим здесь даже и несколько дней, т[а]к к[а]к главнокомандующий][104]104
Имеется в виду Н.В. Рузский.
[Закрыть] признал необходимым приостановиться для пополнения личного некомплекта и исправления дорог тыла… Война принимает характер позиционный (более гигиенический!). […]
4 сентября. Погода хмурая, сырая, с наклонностью к дождю, но теплая; к полудню разведрилось. Весьма упорно в штабе держится уверенность, что австрийцы в большой панике и, пожалуй, без особенного сопротивления готовы будут бросить и Сеняву, и даже Ярослав. Я с своей стороны – человека-неспециалиста – все же напоминаю кому ведать надлежит, нет ли здесь со стороны противника коварной игры в поддавки?.. Цешанув[105]105
Цешанув – город в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Любачовском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть] очищен и весь выгорел, осталась одна церковь. Удивительно, что во всех погоревших и разрушенных городах церкви остались целыми! […]
Начальником штаба корпуса назначен генерал Парский[106]106
Парский отказывается… Неприязненное отношение к нему Плеве по поводу казармен[ного] строительства. – (Примеч. автора.)
[Закрыть], а командир[ом] его какой-то Рагоза[107]107
Рагоза Александр Францевич (1858–1919) – генерал-лейтенант (1908), в 1909–1914 гг. командовал 19-й пехотной дивизией. Командир 25-го армейского корпусав 1914–1915гг. Генерал от инфантерии (1914). С августа 1915 г. командовал 4-й армией. В марте – апреле 1917 г. временно командовал армиями Румынского фронта. С1917 г. в отставке. С мая по ноябрь 1918 г. занимал пост военного министра Украинской Державы. Расстрелян в Одессе.
[Закрыть]. Прочитал № «Нового времени» от 25 августа. Чреватое благодетельными последствиями явление: прекращенная продажа крепких напитков, предпринятая было лишь на время мобилизации, продлена высочайшим повелением на все время военных действий. А за время войны – Господь пошлет – укрепится у нас и привычка к трезвости; благодетельные последствия сего неисчислимы (особый журнал Сов[ета] Мин[истров] от 23 августа).
Вчера казаками донесено, что у Радавы[108]108
Радава – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Ярославском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть] переправа занята была неприятелем, когда на самом деле она занималась 10-й дивизией
5-го корпуса!! После обеда вплоть до темноты с запада пушечная и мортирная пальба. Пари за обедом между Кохановым и Галкиным[109]109
Галкин Михаил Сергеевич (1866–1920) – полковник (1909). С сентября 1912 по ноябрь 1914 г. был начальником штаба 46-й пехотной дивизии. В августе-сентябре 1914 г. занимал должность и.д. начальника штаба 25-го армейского корпуса. С декабря 1914 г. командовал 71-м пехотным Белевским полком.
[Закрыть]: первый утверждал, что через месяц мы будем за Карпатами, Галкин не соглашался.
5 сентября. Преотвратительная дождливая погода, хотя и не холодная[110]110
Продолжаем стоять в Майдане. – (Примеч. автора.)
[Закрыть]. Листья осыпаются… Испытываю усугубленную тоску по родине и усиленную потребность в домашнем уюте; слава Богу, что эти душевные слабости заглушаются физической усталостью и крепким сном… С ночи идет энергичная канонада с ЮЗ… Один из старших врачей полка не выдержал ужасов боевой жизни и заболел душевным расстройством. 11-й и 12-й полев[ые] госпитали уже поставлены на ноги – большинство повозок и лошадей, утраченных при пленении под Замостьем, – пополнено. […]
Рябушинский представлен к награждению солдатским «Георгием» за подвоз патронов под выстрелами; но почему «Георгий» дается лишь за один момент отваги, а не за длительную, к[ото] рую обнаруживают все, сражающиеся в окопах?! Большой вред для дела, что наши военачальники в стремлении сорвать «Георгий» по статуту забывают общую задачу и действуют в ущерб ей… […]
Прибыл вечером новый командир корпуса; первое впечатление – благоприятное и говорящее в его пользу; видно, что человек серьезный, не из шаркунов-моншеров, и с лицом. Последующее покажет, насколько я оказался проницательным.
6 сентября. Облачно. Сильнейший ЮВ ветер. В 9 час[ов] утра выступили на Добры[111]111
Добры – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Добрав Пшеворском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть]. Дорога по пескам, холмам, лесам и перелескам; по пути ш Красив[112]112
Красне – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Пшеворском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], Ковале[113]113
Ковале – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне приселок деревни Добча в Пшеворском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть] – приличная […] «Szkala». Следуем в приподнятом настроении духа; вот что значит взять инициативу в свои руки и быть в роли наступающего, а не отступающего. Проходимые деревни «подъяремной» Руси – бедны, и обитатели их живут убого[114]114
Земля плохая; многие эмигрируют в Пруссию и Америку. – (Примеч. автора.)
[Закрыть]; вот, говорят, перешагнем через Карпаты в Венгрию – там будут места побогаче. Наши штабные очень досадуют, что не поддержал наш корпус генерал Горбатовский, ч[то]б[ы] после взятия Сенявы налетом следовать на плечах неприятеля в Ярослав, к[ото]рый теперь легче бы было взять, чем потом. […]
7 сентября. […] Сейчас приходил ко мне врач дезинфекционного отряда 46-й дивизии, с чистой душой поведавший мне в отчаянии, что он в состоянии сделать… Мой ему дружеский совет и моя моральная ему поддержка. Хоть что-н[ибудь] надо делать положительного, если нельзя объять необъятного.
Сегодня – воскресение, и в прилегающей церкви обедню служил униатский священник, имевший гражданское мужество после обедни провозгласить многолетие нашему царствующ[ему] дому; после же евангелия обратился к собравшимся с речью, что-де теперь они переходят в новое подданство, но вера их останется у них, тоже и религиозным главой у них останется тот же папа; стоявший в алтаре наш полковой попик тут же прервал его, сказавши, что насчет сохранения веры их – «что Бог даст!» Поступок был не из тактичных.
Возвратилась 1-я бригада 46-й дивизии, бывшая в 4-й армии. Бодрые рассказы офицера относительно] систематического погрома ими австрийцев, у к[ото]рых им пришлось видеть постоянно одни лишь пятки. Так как с верхушек колоколен была производима евреями сигнализация, то с благословения нашего епископа войска наши стали палить по главам и крестам церквей. Ярослав, оказывается, предстоит нам взять не так-то легко, как Сеняву, к[ото]рая, будучи очень укреплена, сдалась нам без особенного сопротивления; австрийцы здесь воспользовались нашим природным ротозейством, выставивши в передовых окопах несколько человек, махавших белыми флагами в знак сдачи, и как-то успели вывезти из города много осадных орудий и людей, так что Сенява нам досталась без пролития крови с 30–40 челов[еками] австрийцев. […]
8 сентября. […] Совершаем передвижение на Сеняву, верст за 6–7 к западу. Дорога песчаная. Перед самой Сенявой – гора, вся укрытая укрепленными позициями. Еще до въезда в Сеняву – запах гари. В Сеняве – картина пожарища и разрушения. Остановился со штабом за городом, в роскошном замке князя Чарторыйского[115]115
Чарторыйский Адам Людвик (1872–1937) – князь, владелец майората Сенява. С 1914 г. служил в австрийской армии.
[Закрыть], бежавшего куда-то; замок – в роскошном парке, верх великолепия; огромнейшее здание; чудная исковерканная, разгромленная обстановка; весьма ценная и богатая библиотека с древними историческими] книгами (напр[имер], подлинные сочинения чуть ли не самого Коперника и пр.), масса дневников, писем, письменных актов – все разбросано, растоптано; многотысячные картины знаменитых художников – выпачканы, у нек[ото]рых изображенных лиц – глаза и носы проколоты!! Дивный буфет с великолепными вазами и пр. Все брошено, полуразбито, расхищено[116]116
Множество четырехспальных кроватей. – (Примеч. автора.)
[Закрыть]… Господи, Боже мой! Какая грустная картина разрушения и опустошения. Сколько исторических ценностей погибает в жертву проклятой человеконенавистнический] бойне. […] Страдаю от исключительно почти мясной пищи; терпим недостаток в яйцах, молочных и хлебных продуктах; все опустошено впереди, до перехода в Венгрию, вероятно, предстоят еще большие лишения. Хуже в отношении питания, чем в японскую войну. Нижние чины едят в течение месяца наполовину хлеб, а наполовину – сухари[117]117
Питаются солдаты тоже хуже, чем в прошлую кампанию; многого им недодают – сахара, каши и др., и это увеличивает мародерство. Корпусного интенданта Мартынова я считаю за правильно вертящийся винтик, как равно и не к[ото]рых других, но что эти единицы в общей прогнившей, поистертой, неправильно налаженной машине? Невольно добром помянешь Куропаткина, много обращавшего внимания на питание солдата и его здоровье. – (Примеч. автора.)
[Закрыть]. Сильно задерживается наша переправа через Сан: за дождями река сильно поднялась и наведение моста, взорванного австрийцами, замедляется, что на руку нашему противнику.
Сенява, оказывается, родина Мицкевича, к[ото]рому у почты поставлена статуя.
Сегодня день Рождества Богородицы, полный для меня поэтического содержания в родных палестинах.
9 сентября. Погода хмурая. Проночевал в панских-княжеских хоромах вполне «по-господарски». По донесению Крещатицкого и Полякова, нынешней ночью занят нашими войсками Ярослав, к[ото]рый австрийцы оставили без боя и сами бегут, «бросая орудия и обозы», жители же усиленно грабят город! Что за штука? Штабные мои смотрят на дело более просто, чем я: они убеждены в панике и упадке духа австрийцев, я же подозреваю, не играют ли они с нами в поддавки и не готовят ли нам какой-н[иб[удь] сюрприз, психологически верно учитывая нашу обычную халатность и ротозейство. […]
Наши крестьяне живут бедно, но беднее еще живут, по– видимому, галичане; удивил меня вопрос мальчугана, мало-мальски говорящего по-русски: «А что, жиды перестанут теперь над нами пановать?» Жиды-то над вами, пожалуй, перестанут пановать, грустно думалось мне, зато будут над вами господарствовать наши урядники, земские начальники и наши самобытные паны!.. Во всей глубине теперь постигаю всю неправду, в к[ото]рой живет мир! Лишь внешний лоск какой-то культуры, цивилизации, а внутри-то нас все те же звериные вожделения животной борьбы за существование на принципе засилия силы над правом.
В занятом нами Ярославе австрийцами брошено 150 пушек – следы загадочного поспешного отступления; говорят, будто умер Франц-Иосиф[118]118
Франц-Иосиф I (1830–1916) – император Австрии и король Венгрии в 1848–1916 гг.
[Закрыть] и в Венгрии теперь революция, для укрощения к[ото]рой оттягиваются войска в тыл. А на германском-то фронте дела наши, видно, неважны: поднятый было Ренненкампфом бум его стремительного наступления обратился в последние дни в столь же, кажется, его стремительное отступление. Не умещается в моем сознании мысль, ч[то]б[ы] мы могли победить германцев: ведь у них всякое изделие совершеннее нашего, а, следоват[ельно], и методика, и техника ведения боя должны превосходить наши; разве только нам помогут возникшие к[акие]-л[ибо] восстания в стране неприятеля, морозы и проч. стихийные явления, как вот теперь – с австрийцами, к[ото]рые будто бы бегут и бегут от нас. Случайно попадающихся под руку наших газет и не хочется читать – пишется в них лишь одно нам приятное, без минусов – одни плюсы, а душа жаждет правды. Рыская по апартаментам замка, нашел растоптанную и изорванную на полу среди сора – папскую буллу, удалось прочитать лишь «pontifex»[119]119
Понтифик, папа (лат.).
[Закрыть] … Мучаются у нас с наведением мостов через Сан.
С 1 часу до 5 дня производил санитарный осмотр 1-й бригады 46-й п[ехотной] дивизии. Потрясающе грустная картина: дождь, промокли палатки, мокры сами солдатики, площадь стоянки загажена; солдаты по нескольку дней не видят хлеба, да и сухарей не хватает, каши тоже не едят; сапоги у многих совсем развалились; испробованные же мною щи с порцией мяса были вкусны; во многих ротах не хватает сахару, чаю, соли. Недостаток в хлебе восполняют употреблением картошки и овощей, по большей части сырых. Золотой наш солдатик: настроение в общем благодушное, даже веселое; «дайте нам, в-ство, только хлебушка сколько следует, и мы будем хоть куда», – говорят они, а то «в церкви просфоры дают больше, чем нам хлеба» – оттого-де мы несколько и ослабли… […]
10 сентября. […] Стоим в том же замке-музее. Большое количество уцелевших картин наша публика собирает для отсылки в Румянцевский музей; сколько до него дойдет, а сколько – в частную собственность, лишь Богу известно; последнее было бы не так отвратительно, если бы не имело меркантильной цели. […]
Саперы все возятся с устройством мостов через Сан, к[ото]рые оказываются непрочными, т[а]к к[а]к быстротекущ[ая] река выворачивает камни и сваи; объясняют последнее спущенными будто бы шлюзами со стороны австрийцев; но, вероятнее всего, это зависит от характера реки, бегущей с Карпат.
4-я армия отходит на германский фронт. 17-й корпус – в резерв. Несчастная судьба, преследующая Нежинский полк[120]120
137-й пехотный Нежинский полк.
[Закрыть], потерпевший большую катастрофу и в текущую кампанию. В обилии.получаю всякие предписания и циркуляры для зависящих распоряжений, полный трюизмов и маниловщины, вроде того, что солдаты должны перед пищей тщательно мыть руки, пить только кипяченую воду и т.п. Получена нелепая телеграмма от главнокомандующего, к[ото]рую привожу в текстуальной точности: «В видах предупреждения желудочных заболеваний главнокомандующий разрешил по 1 ноября отпуск бутылки красного вина на каждого нижнего чина армии для прибавления к чаю или теплой отварной воде; интендантству приказано ускорить приобретение и отпуск вина; впредь до отпуска вина натурой таковое приобретать покупкою с представлением] счетов… Главнокомандующий] приказал командующему армией установить наивысшую предельную стоимость покупки вина…»[121]121
Кабинетная глупость какого-н[и]б[удь] фантазера-дурака, пожелавшего облагодетельствовать]. – (Примеч. автора.)
[Закрыть] (sic!) Типичное немышление в кабинете сидящих людей, не видящих действительность в глаза и в лучшем случае играющих в руку кому-то, к[ото]рый при означенной операции наживет большие гешефты!! Действительность же неприкрашенная такова, что солдаты наши (сегодня осматривал остальные два полка 46-й див[изии]) буквально голодают, получая уже в счастливые дни не более фунта хлеба, а то все время – на сухарях, да и тех-то [не] в полной даче; в один голос несчастные вопиют: «Дайте, в-ство, только хлебушка!»[122]122
На стоимость бут[ылки] вина увеличьте паек сахару, чаю, белого хлеба и пр., и никакого вина не надо! – (Примеч. автора.)
[Закрыть] Трагическая картина. Кроме того, солдату не додают чаю и сахару, а также каши. Самое большее – если иногда дадут по одному пиленому куску сахару в день! Солдаты все оборвались; у многих нет шинелей, сапоги развалились, нет белья, кроме того, к[ото]рое на теле преет. Все обовшивели, исчесались! Один ужас и ужас. Второй раз сегодня обо всем этом докладывал новому командиру. Надо еще удивляться, что пока не появляется пандемических заболева[ний], но они, кажется, недалеко! Бивуаки загрязняются до невероятия. […] Вот где во всем апофеозе чувствует врач свое одиночество и бессилие, а вследствие этого и глубокую душевную муку… «Серая скотинушка» наша поражает меня своей выносливостью и терпением!! То, что теперь я вижу, не испытывали солдаты даже и в дни мукденских отступлений! […]
11 сентября. […] Слухи ходят, что очищаются форты у Пере– мышля, Венгрия со смертью Франца-Иосифа намерена отделиться от Австрии… Штаб нашей армии уже перемещен в Ярослав… Возмутительно-безобразная работа полевой почты, через к[ото]рую неделями не доходят, а то и совсем пропадают даже служебные пакеты! Приказом по армиям введена и у нас с 3 сентября военная цензура всех корреспонденций; цензором назначен Лопатин – преотвратительная, бездушная говорильная машина – типичный светский человек… Говорят, что в бинокль можно теперь видеть комету у Большой Медведицы[123]123
Комета Делаваля, открытая 27 октября 1913 г., наблюдалась в течение нескольких месяцев 1914 г., получив название «комета войны».
[Закрыть]. […]
12 сентября. Прекрасная погода. Выступаем верст на 20 на запад – к Гродзиске[124]124
Гродзиска – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Гродзиско– Мястечко в Лежайском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], и далее предположено идти в том же направлении вплоть до Кракова[125]125
Краков (Кракау) – город в западной Галиции (Австро-Венгрия), ныне административный центр Малопольского воеводства (Польша).
[Закрыть], чтобы достигнуть его дней через 10. Это – в лучшем случае, в худшем же мы можем еще раньше перейти опять в пределы России, к границам Германии.
Получена телеграмма главнокоманд[ующ] его о неизбежной необходимости заменить солдатам хлеб картофелем, так к[а]к источники первого иссякли. Нам предстоит серьезное голодание; положение в санитарном отношении угрожающее.
Рад очень слышать из уст начальника штаба Галкина, что Куропаткин[126]126
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – генерал от инфантерии (1900), военный министре 1898–1904 гг., главнокомандующий всеми сухопутными и морскими вооруженными силами в Русско-японской войне в 1904–1905 гг., командующий 1-й Маньчжурской армией в 1905-1906 гг. Член Государственного совета в 1906–1915 гг. В 1915–1916 гг. командовал Гренадерским корпусом, затем 5-й армией Северного фронта, с февраля по июль 1916 г. занимал пост главнокомандующего армиями Северного фронта. Туркестанский генерал-губернатор в 1916–1917 гг. После Октябрьской революции 1917 г. проживал в своем бывшем имении в Псковской губернии, работал учителем в сельской школе.
[Закрыть] – гений, и при нем настолько бы был обеспечен тыл, что солдаты и мы с ними не находились бы в таком бедственном положении относительно] довольствия хлебом, сахаром и др. видами довольствия. Мой адъютант перед выездом из замка не выдержал характера; хотя других осуждал, а сегодня не вытерпел и «взял на память себе, как другие», два бронзовых роскошных подсвечника. Подозрительны частые легкие случаи в боях ранений в левые руки и в ноги… Очень хорошо устроены в селениях колодцы с цементированным] срубом. […]
Около 2 часов дня прибыли в назначен[ное] место, переехавши два моста – один через Сан, понтонный, а другой – через Вислок, плотовой. Командир Пултусского полка Малеев[127]127
Малеев Дмитрий Павлович (1866–1938) – полковник (1904), в 1909–1914 гг. командовал 183-м пехотным Пултусским полком. В августе 1914 г. в ходе Томашевского сражения попал в плен, где находился до 1918 г.
[Закрыть] до сих пор неизвестно где – на небе или на земле; Несвижского же гренад[ерского] полка – мой знакомый Герцик Николай[128]128
Герцик Николай Антонович (1862–1914) – полковник (1905), в 1911–1914 гг. командовал 4-м гренадерским Несвижским полком. Застрелился.
[Закрыть] – во время паники полка 13–15 августа покончил с собой самоубийством. Штаб остановился в школе; я с адъютантом в избушке против. Хозяин добродушный; достал у него яиц, за десяток к[ото]рых он просил «рупь», но когда я дал ему три монеты по 20 геллер[ов], он с признательностью благодарил. Лошадки мои опали в теле от недокорма. Все меры употребляю по покупке овса и сена, ч[то]б[ы] только лошади были сыты. Досужие разговоры моих штабных о всыпании нагайками и мордобитии, к[ото]рое они совершают с особенным смаком [с] изголодавшимися солдатиками.
13 сентября. Стоим на том же месте, т[а]к к[а]к не все части корпуса подтянулись к назначенным им пунктам. Погода хорошая[129]129
Небо уж осенью дышит… Холодно… – (Примеч. автора.)
[Закрыть]. […] Много канители по приближению головных этапов к войсковым частям. Прошу телеграммой уже не в первый раз заведующего этапно– хозяйственным] отделом армии, ч[то]б[ы] он прикомандиров[ал] к корпусу хотя бы два непроданных дивизии полевых госпиталя для действия их в качестве промежуточных предголовных этапов или же придвигал гораздо ближе этапный пункт. […]
14 сентября. […] В полдень пришли в Жолыню [130]130
Жолыня – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Ланьчут– ском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть] – местечко вроде нашего уездного городка. Грандиозный костел, к[ото]рый мог бы быть украшением и любой нашей столицы. Зашел туда. Масса молящихся – целая, показалось мне, тысяча: справа – женщины, слева – мужчины; все хором пели, но пение унисонное и без органа, т[а]к к[а]к органист забран на австрийскую службу… […]
Против костела стоит изящный крест каменный на постаменте с изваянием распятия Христа, под ним надпись:«Grunwald, 1410–1910». В квартире же ксендза – картина, изображающая «Polonia, Konstytucya 3-go maja 1791 roku»[131]131
«Польша (лат.), Конституция 3 мая 1791 года» (польск.).
[Закрыть].
Наши солдатики очень нуждаются, между прочим, в табаке; трут теперь в порошок дубовые листья и их курят; «добре только от этого табака кашляется», – заявляют они. Из подвалов ксендза достали несколько бочонков превосходного пива. […]
15 сентября. Погода хмурая, с полудня же – слезливая. Воспользовавшись дневками и нашего штаба, и всех частей корпуса, поехал в санитарную инспекцию 70-й пех[отной] и 3-й грен[адерской] дивизий в Стоберне[132]132
Стоберня – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Стоберна в Жешувском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], верст за 25 от Жолыни через Ракшаву[133]133
Ракшава – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Ланьчут– ском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], Веглиске[134]134
Веглиске – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Венглиска в Ланчутском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], Залесье[135]135
Залесье – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Ланьчутском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], Медынь[136]136
Медынь – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Медыня Ланьчуцка в Ланьчутском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть] в сопровождении двух казаков; дорога пролегала по лесам, перелескам, простокам и холмистой открытой местности, с левой руки – к югу – виднелись в туманной дымке очертания высившихся к небу Карпатских гор; лес по преимуществу – хвойный. Ехал руководимый картой-десятиверсткой да расспросами крестьян, указывавших мне направление, названия и расстояние попутных деревень («тенде», «просто» – значит «прямо», «километр», «пулкилометра»), В Стоберне – большой камень, на к[ото]ром иссечена надпись: «Grunwald, 1410–1910».
Осмотр нижних чинов означенных дивизий представил столь же потрясающую по трагизму картину, как и чинов 46-й дивизии: люди положительно голодают – недостает положенного количества хлеба, сухарей, крупы, даже соли и мяса. Жители теперь все от солдат прячут и зарывают. Выражение лиц у солдат – как у сфинкса, устрашающе-загадочное. Такое бедственное положение относительно питания долго продолжаться не может и должно разразиться катастрофой! Все это следствие полной неустроенности тыла; вопиющее также положение относительно] эвакуации раненых, оказывается, до сего времени нет полевой эвакуационной комиссии, вследствие чего безо всякой сортировки и отбора раненые легко, напр[имер] в палец, наравне с тяжело раненными засылаются далеко в тыл. Вот плоды евдокимовской милитаризации военных врачей! Врачи как офицеры – что, по-моему и нужно было ожидать – с трезвоном провалились! […]
Только что приехал обратно в Жолыню, как неожиданно для меня предъявлена мне была следующего содержания телеграмма, посланная Главным военно-санитарным управлением еще 28 августа: «Высочайшим приказом 17 авг[уста] действительный] с[татский] с[оветник] Кравков назначен заведующим санитарной частью 10-й армии»… Где эта армия – наверное, только вновь формирующаяся – неизвестно, секрет, и, прежде чем ехать в ее штаб, предстоит предварительно съездить в штаб главнокомандующего – в Холм. В общем, новым своим назначением я доволен – меньше буду испытывать трепатни, к[ото]рая стала меня сильно утомлять, выйду из этой грязи постоянной, от которой начинаю вшиветь, и буду жить более оседло, а главное – не буду воочию видеть и мучительно созерцать людское горе, к[ото]рому также не могу помочь, как ковшом вычерпать море; кроме того – вырвусь я окончательно из этой ненавистной мне банды штаба 25-го корпуса! […]
16 сентября. Преотвратительная осенняя дождливая и слякотная погода при сильном ветре, пронизывающ[ем] буквально до костей. В 9 часов выступил со штабом на СЗ – Ранишув[137]137
Ранишув – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Ранижув в Кольбушовском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], верст за 25, через Подлесье[138]138
Подлесье – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Тшебош-Подляс в Жешувском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], Соколув[139]139
Соколув – город в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Соколув– Малопольски в Жешувском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть]. Дорога раскисла до необычайн[ости], но благодаря песчаному грунту оказалась более сносной, чем в Маньчжурии; пролегала по большей части по хвойным лесам и перелескам; дождь с градом и ужасным ветром лил все время. Солдатики, очевидно голодные, шли кто покрывшись клеенкой из-под шахматн[ого] стола, кто какой-н[и]б[удь] женской кацавейкой, кто на одну ногу обутый в австрийские штиблеты; до слез жалкое зрелище! Во взглядах их я читал что-то зловещее и укоризненное по нашему адресу, едущих в экипажах, и даже как бы постигающее, знаем-де мы вас, заставляющих-де нас, навозников, ради ваших барских прихотей теперь жертвовать своей жизнью… […]
Предполагаю к послезавтра ликвидировать свои дела в штабе и поеду в ставку главнокоманд[ующ] его для разыскивания местонахождения] штаба моей армии. […]
Залег в кровать часов в 9 вечера. Свалился от усталости как сноп. Ночью от тревожных дум – к[а]к-то я один, без переводчика, буду скитаться по австрийским деревням, со скрытым неудовольствием и враждебностью нас встречающим, – в розысках штаба 10-й армии, о к[ото] рой только известно, что она формируется из сибирских войск («японская» армия!), а где пункт формиров[ан]ия ее, никто не знает (все «секреты»!). […]
17 сентября. Офицерство друг друга поздравляет с днем ангела кто Верочки, кто Любови, кто Наденьки и пр. Как хорошо теперь в Рязани… […]
Ночью прошелся мимо палаток; только и разговоров у солдат, что о своей еде… К пищевому голоданию присоединяется теперь и снарядное голодание пушек. Подам доклад командиру корпуса
о хроническом голодании солдат и о могущих из этого произойти последствиях. Ч[то]б[ы] избежать лишнего путешествия в штаб главнокоманд[уюгце]го, я решил было послать предварительно следующу[ю] телеграмму начальнику санит[арной] части штаба главнок[омандующ]его армий Юго-Западного фронта: «Будучи назначен заведуюгц[им] санит[арной] частью 10-й армии, прошу указания, в какой пункт мне выехать». Но командир корпуса настоятельно советовал не откладывать мне своего отъезда и не трудиться посылать означенной телеграммы, на к[ото]рую-де ответ может прийти не ранее двух-трех и более недель, да и не ответят-де прямо на мой вопрос ввиду секретного характера места формирования 10-й армии. Подумавши еще как следует, порешил не посылать означенной телеграммы, а прямо ехать на Холм через Люблин по шоссе. Колебания мои насчет вопроса, сколько брать с собой солдатиков: если трех, то надо специально нанимать фурманку, к[ото]рую так трудно иногда достать, а с одним – возницей, ввиду могущих быть случайностей, не так удобно. Порешил на последнем, ч[то]б[ы] не возиться с поисками фурманок, не прибегать к принудительным мерам и быть покойнее. Всеми силами души стремлюсь поскорее прошмыгнуть, как какой-то контрабандист, через границу в пределы своей России, ч[то]б[ы] чувствовать себя как-никак у себя дома и следовать по своим деревням с большими удобствами в смысле нахождения фронта, питания, ночлега, т[а]к к[а]к все-таки хоть кого-нибудь, да найдешь там говорящего по-русски, ч[то]б[ы] тебя понять и объясниться. […]
18 сентября. Унылая осенняя погода с перемежающ[имся] по несколь[ку] раз на дню дождем. Сильный ветер. Взял из полевого хозяйства деньги; заготовляют мне всякие бумаги по случаю отъезда, к[ото]рый я определил на завтра. Дневка, и стоим в тех же Станах[140]140
Станы – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), имение помещиков Комаровских, ныне в Сталёвольском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], откуда по кратчайшему пути верст 30–35 до нашей границы. Но не скоро еще я выберусь из областей со всеми этими «пане» да «дзинькуем». […]
Еду завтра на Розвадув[141]141
Розвадув – город в Галиции (Австро-Венгрия), ныне район города Сталёва Воля, административного центра Сталёвовольского повята Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть] верст за 20 к СВ, уже один, отделяясь от корпуса; чуть ли не более половины придется проезжать глухими местами. Револьвер, как и в прошлую кампанию, у меня всегда мирно покоится на дне чемодана.
19 сентября. В 10 час[ов] утра, откланявшись своему начальству, отправился к месту своего нового служения; на прощанье пришлось откровенно побеседовать с Рагозой о недавнем прошлом нашего штаба, когда подвизались наши герои-стратеги Зуев и Федяй, – о той затхлой атмосфере, к[ото]рую создавали с оставшимися еще здесь фендриками эти преступники. На прощанье Р[агоза] мне объявил, что поручил начальнику штаба составить для отдачи в приказе благодарности за мою совместную деятельность с ним; я, конечно, поблагодарил, [сказал], что-де очень тронут. […]
20 сентября. […] Из Брандвицы[142]142
Брандвица – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Салё– вовольском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть] выехал около 7 часов утра по дамбе на СЗ к Чекай[143]143
Вилька Туребска – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Сталёвовольском повяте Подкарпатского воеводства.
[Закрыть]. Погода прекрасная; по обеим сторонам насыпи – масса разбросанных жестянок из-под консервов, раскрывшихся шрапнелей и окопов, к[ото]рыми перерыта оказалась вскоре и сама дамба; ехать пришлось окольно. По пути бегали, как домашние куры, фазаны… По выезде из Вилька Туребска[144]144
Чекай – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Чекай-Пнёвски в Сталёвовольском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть] волей-неволей пришлось влиться в массу движущихся войск и их обозов по направлению] к Сандомиру[145]145
Сандомир – уездный город Радомской губернии, ныне административный центр Сандомирского повята Свентокшиского воеводства (Польша).
[Закрыть]; части принадлежали 14-му корпусу; то обгоняя, то следуя в обозах, доехал до Горжице[146]146
Радомысль-на-Сане – местечко в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Сталёвовольском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть]; на горизонте белел издали Сандомир, но я круто должен был повернуть к СВ на Чекай, обрадовавшись, что опять, Бог даст, буду ехать один, не в водовороте войск. Около 11 часов утра – у переправы через бурливый Сан; в ожидании окончания совершавшейся наводки моста пришлось простоять около часу. Скопилось немало обозов, следовавших на ту сторону. От сердца отлегло, когда переехал мост; направление взял, руководствуясь картой и расспросами «панов», на Радомысль[147]147
Липа – деревня Яновского уезда Люблинской губернии, ныне в Сталёвовольском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], где предполагал было остановиться лишь на 1–11/2 часа, ч[то]б[ы] покормить лошадей и затем тронуться через границу на Липу[148]148
Горжице – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Тарнобжегском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть]. Дорога шла на ЮВ опять дамбой среди дубняка, по сторонам селения как будто без признаков войны: на полях – пахали, паслись стада коров. Ввиду утомления моих лошадок (из к[ото]рых пристяжка уже несколько дней заметно стала худеть) и ч[то]б[ы] легче достать им корму, я решил временно приостановиться, еще не доезжая Радомысля, в одной показавшейся мне небольшой деревушке; въехавши в нее, узнал, что это – самый Радомысль и есть. За лучшее счел остановиться у ксендза, давшего мне приют и скудную трапезу, разделивши со мной пополам небольшую свиную котлету в бураках и картошке, к[ото]рую я проглотил с жадностью крокодила; хлеба, к сожалению, у него не оказалось ни крошки. Радомысль считается за местечко, будучи небольшим селением, но с костелом, без костела же селения называются просто деревнями – весями. Это местечко оказалось, как и до сего времени мне встречавшиеся, также буквально все объеденным и выбранным как австрийскими] войсками, два раза прошедшими его, так и нашими («Австрияки ходили туда и сюда, да русские – сюда и туда», – объясняют причину своего оскудения бедные поляки.). […] В местечке Радомысль еще существуют следы разрушений, произведенных] артиллерийскими] снарядами. Каким-то чудом уцелели ветхий деревянный костел и памятник «Адаму Мицкевичу, 1910 г.». Оказывается, что памятники Мицкевичу имеются во многих деревнях и местечках[149]149
Так же, как и памятники «Grunwald 1410–1910». – (Примеч. автора.)
[Закрыть], и я ошибся, предположивши ранее, увидав этот памятник в Сеняве, что она – его родина; его родина, как объяснил мне ксендз, – Новогрудков[150]150
Новогрудок – уездный город Минской губернии, ныне административный центр Новогрудского района Гродненской области (Белоруссия).
[Закрыть]. Ксендз заметил во мне необычайную особенность; что я очень заботливо отношусь к питанию и доставлению возможных удобств своему вознице. Скорее бы мне Господь привел вырваться из этого голодного района! Познакомился с австрийским коллегой Становским – земским врачом в Галиции, владеющим настолько русск[им] языком, что можно понимать его. Взаимоотношения врачей и сих последних к пациентам у них, оказывается, отлично урегулированы в этическом смысле в противоположность нашей российской разъединенности[151]151
Как хорош Мицкевич – выражение лица его так полно мысли, вызова, гордости, достоинства и энергии! Вот истинный король, из тех королей, к[ото]рые свою жизнь отождествляют с жизнью народов!
[Закрыть].
21 сентября. Погода днем гнусная, по прекрасной лунной звездной ночи никак не предвидимая. Заплатил ксендзу за взятый у него пуд с небольшим сена, немного молока и картошку 1 р[убль] плюс 1 крону плюс 10 геллер[ов] и в 8 часов пустился в путь-дорогу. Еду, удаляясь от кромешного ада; дорога не представляла обычного запружения войсками, лишь встретил идущие к Радомыслю 18-й саперн[ый] батальон, 18-ю артиллерийскую] бригаду, а еще далее – артиллерийские части 83-й дивизии и 45-й. Проехал Жабно[152]152
Жабно – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне в Сталёво-вольском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], затем Домброву[153]153
Домброва – деревня в Галиции (Австро-Венгрия), ныне Домб– рова-Жечицка в Сталёвовольском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть], откуда повернул к западу на Липу, последняя дорога была убийственная по своей трясучести, т[а]к к[а]к была устлана поперек дороги уложенными бревнами; непосредственно перед Липой – трясина, из к[ото]рой еле вытаскивали мои кони.
Около 11 дня были уже в Липах – на своей земле. Селение это представляет сплошные развалины – следы артиллерийского] огня, справа и слева все окопы и позиции; сложенные в штабели и так валяющиеся рельсы декавильки, лежавшие всю дорогу, в Закликове[154]154
Закликов – местечко Яновского уезда Люблинской губернии, ныне город в Сталёвовольском повяте Подкарпатского воеводства (Польша).
[Закрыть] же – целое депо вагонеток; очевидно, дело австрийских рук. […]
22 сентября. Погода премерзейшая – дождь и невылазная грязь. Слава Богу, что нет большого ветра. Переночевал у любезного ксендза довольно удобно, предупредительности его ко мне не было границ. […] Пан ксендз именуется настоятелем римско-католического прихода в Закликове Виктор[ом] Игнатьевич[ем] Суским; очень беспокоится и просит ему откровенно сообщить, дабы принять необходимые меры к самоохранению, – могут ли сюда прийти германцы, к[ото]рые-де прут теперь стеной на Вислу и хотят отрезать нашу Галицийскую армию, – или нет?[155]155
Вчера жители и сам он слышали глухую артиллер[ийскую] стрельбу со стороны Сандомира. – (Примеч. автора.)
[Закрыть] Я ему объяснил, что имеются наибольшие шансы этого не опасаться. В другой половине у ксендза поместились врачи госпиталей 83-й пех[отной] дивизии, жаловавшиеся мне на свою бездеятельность и безостановочное их мотание с места на место.