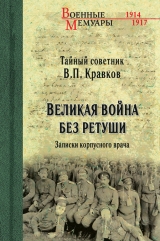
Текст книги "Великая война без ретуши. Записки корпусного врача"
Автор книги: Василий Кравков
Жанры:
Военная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Летчики наши, как только поднимутся на аэропланах, так тотчас же или сломается у них аппарат, то сами себе что-нибудь сломают. Какие артисты в воздухоплавании германцы – «не идет наш поезд, как идет немецкий!» О недостаточной (слишком уж мягко сказано!) продуктивности работ наших летчиков уже был приказ главноком[андующ] его фронтом от 13 декабря за № 335. Приказом же по фронту от 26 декабря за № 379 было объявлено об отпуске на каждого нижнего чина 1-й, 2-й и 5-й армий по бутылки красного вина для прибавления в чай или кипяченую теплую воду. Гладко же все у нас пишется на бумаге!!
За все время операции нашей армии с 1 февраля по сию пору считается, [что] приблизительные у нас потери до 60 тысяч (около
25 тысяч раненых, 6 тысяч убитых, остальные – пленные и без вести проп[авшие]), у немцев же убито до 70 тысяч. […]
24 февраля. Утром – 12°R[420]420
–15 °С.
[Закрыть]. День ясный.
Августов еще не в наших руках. Относительно членовредительства полковника Ступина убеждаюсь все более и более; со мной согласен хирург Додендорф Алексей Александрович]. Но официально начинать дело – это было бы ужасным скандалом для армии, да еще в такой момент… В конце концов, нашлись бы «благородные» защитники корпоративной чести, предали бы если и суду сего воина, все равно его оправдали бы, т[а]к к[а]к судили бы своего и сами. И я бы остался виноватым. […]
Отобрали у нас из армии на Ломжинский – Остроленский фронт семь полевых госпиталей, туда же ушел и 15-й корпус.
25 февраля. Утренняя t° – 11°R[421]421
–13,75ºС.
[Закрыть]. Погода солнечная, ясная.
Уже несколько дней не слышно пальбы – немцы отходят; нам же кажется, что это мы их вышибаем, но по общему умонастроению вижу, что мы действуем вслепую, без малейшего проникновения в карты своих хитроумных противников, к[ото]рые, предвижу я, еще не раз поднесут нам сюрпризов, а к празднику, пожалуй, так «махнут», что опять нас в дураках оставят.
А раненые все прибывают и прибывают; много обмороженных и совсем замерзших. Полки растаяли до батальонного состава. Не хватает людей, еще больше – ружей. 15-й корпус назначен в резерв фронта. […]
Наделавший переполоху в Гродненском госпитале самозванец – «великий князь» – оказался пьяным офицером, к[ото]рый подлежал бы теперь отдаче под суд за оскорбление врачей при исполнении ими своих служебных обязанностей, но ввиду того, что он – офицер, да еще с Георгиевским оружием, врачи же по идеологии военной касты суть не более – не менее, как говно собачье, то сего витязя стараются всячески избавить от ответственности и дело замять. Преобидное положение военных врачей, на к[ото]рых витязи готовы всегда собак вешать, к[ото]рые во всяком посетителе их учреждений с офицерскими погонами склонны видеть лишь карателя и не избалованы лаской…
Опросил я сегодня нескольких наших раненых солдатиков, к[ото]рым удалось уйти из плена; кормили их плохо; обращение было не из нежных (слова солдатика: «они такие нервные, что толкали нас…»), нек[ото]рых били по мордасам; своих раненых клали в более безопасные и уютные места, чем наших; весьма тяжело раненных – добивали; при поспешном отступлении одну из халуп с ранеными будто бы подожгли. […]
26 февраля. […] Второй день как в штабе гостит великий князь Андрей Владимирович.
Из Новокаменной[422]422
Новокаменная – деревня в Сокольском уезде Гродненской губернии, ныне Каменна-Нова в Сокольском повяте Подляского воеводства (Польша).
[Закрыть] и Сопоцкина прибывает много раненых. После обеда съездил в Сопоцкин, застал поспешно свертывающимся Саратовский лазарет Красного Креста и настроение у всех нервно-возбужденное] – готовое вот-вот перейти в панику. По краснокрестским информациям наши войска в беспорядке отступают; ч[то]б[ы] отрезать им отступление, немцы поперек дорог накладывают бревна и засеки. Возвратился в Гродно почти в полночь, а потому не мог немедленно же проверить в штабе правдивость столь неприятных для нас слухов.
Совершенно случайно в разговоре с дивизионным врачом 27-й пех[отной] див[изии] Беккаревичем узнал от него об Адариди[423]423
Адариди Август-Карл-Михаил Михайлович (1859–1940) – генерал-лейтенант (1914), с апреля 1914 по февраль 1915 г. командовал 27-й пехотной дивизией. В феврале 1915 г. был уволен от службы без мундира.
[Закрыть], бывшем его начальнике дивизии, что последний за постыдное бегство от своей дивизии во время боев под Маклавкой 25 октября был отрешен от должности и подлежал преданию суду. Прогностика моя и относительно этого «храброго» генерала блистательно оправдалась; готов поклясться всем святым, что сей «витязь» и в японскую кампанию, будучи тогда еще командиром полка, под предлогом контузии так же постыдно бежал с поля брани, как и теперь… Лицом к лицу я теперь созерцаю грубую правду жизни…
27 февраля. […] Меня очень тронуло отношение ко мне д-ра Шадрина, к[ото]рый вчера чуть не плакал, беспокоясь за меня, что я так долго не возвращался из Сопоцкина, откуда поспешно эвакуировались краснокрестские учреждения ввиду нашего отступления. Красный же Крест у нас является отличным барометром, своими передвижениями верно (с нек[ото]рым иногда преувеличением) заблаговременно показывающий погоду нашего положения. Отход наш на Сопоцкин вызван был неожиданно вылезшим из Августовских лесов целым немецким корпусом, грозившим нас окружить. […]
28 февраля. […] Поднесли мне по своей инициативе свою фотографическую] группу нижние чины команды санитар[ного] отдела с надписью: «Любимому начальнику…» Тронут! […]
Настроение наших штабных шантеклеров неугнетенное, пока немцы не устроят нам еще новой взбучки[424]424
А этого надо ожидать ввиду неизвестности: «Где немец?» – «Немец пропал». – (Примеч. автора.)
[Закрыть]… […]
Заведующий экономическим отделением Гвардейск[ого] общ[еств]а полковник Муромцев[425]425
Муромцев Семен Эммануилович (1872 —?) – племянник председателя I Государственной думы С.А. Муромцева. Полковник (1908), в 1910–1915 гг. состоял в постоянном составе правления Гвардейского экономического общества.
[Закрыть] уже ходит с «Владимиром» на шее! Молодой еще человек, и как бы он был теперь нужен в строю – пользовался всегда особенным вниманием будбергов, сиверсов и прочей влиятельной сволочи. А приедет с войны – будет рассказывать, как над ним рвались гранаты и к[а]к он проявлял свою храбрость!.. […]
МАРТ
1 марта. […] Великий князь Андрей Владимирович] продолжает жить при штабе. Оказывается, ему поручено свыше производство расследования всей истории катастрофы с нашей армией. Но подходящий ли он для этой цели субъект?! Хотелось бы и мне так многое поведать относительно действий Сиверса и Будберга, но кому? Будут только разговоры на разных языках… Припомнилось мне, что накануне еще нашего внезапного отступления Сиверсом, Будбергом уделялось уж слишком много ненавистнического и непросвещенного внимания санитарной части, сделано было распоряжение, ч[то]б[ы] один из лазаретов 64-й дивизии в Видминене[426]426
Главный врач – Европин. – (Примеч. автора.)
[Закрыть], помещение к[ото]рош я признавал вполне приличным, непременно перешел бы в другое здание и оборудовал бы его так, как полагается быть на мирное время лечебному заведению.
Зашел ко мне Никитин[427]427
Никитин Алексей Иванович (? —?) – действительный статский советник (1914), до 1914 г. занимал пост заведующего медицинской частью двора великой княгини Елизаветы Федоровны. Корпусной врач 7-го Сибирского корпуса в 1915–1916 гг., в начале 1917 г. стал московским окружным военно-санитарным инспектором.
[Закрыть], дивизионный врач 1-й кавалерийск[ой] дивизии – протеже великой княгини Елизаветы Федоровны[428]428
Елизавета Федоровна (1864–1918) – урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, сестра императрицы Александры Федоровны. Великая княгиня, вдова великого князя Сергея Александровича (1857–1905).
[Закрыть], ко мне относящийся с особенным решпектом; порассказал мне о нескольких несомненных случаях «самострелов» среди офицерства. […]
2 марта. […] За обедом немало пришлось мне говорить с великим князем Андреем Владимир[овичем], но не иначе как в духе causerie…[429]429
Светской беседы (фр.).
[Закрыть] Держит он себя необычайно просто и прибыл в штаб для сбора материалов о военных действиях погибшего 20-го корпуса; но какую ценность будут иметь эти материалы даже и при самом добросовестном его отношении к своей задаче?![430]430
Да и вообще – что такое данная история? Существует лишь история по такому-то (имярек). – (Примеч. автора.)
[Закрыть] Ведь человек он с другой планеты!
Слышал сегодня беседу среди молодых офицеров, с к[ото]рыми в компании был врач: один из них высказал здравую мысль, что-де врачи на передовых позициях проявляют больший подвиг, чем офицеры, так как работа первых требует от них больше, чем храбрости как состояния экстаза, а именно – мужества!
3 марта. […] Плохая примета, подтверждаемая наблюдениями: как только наши вояки начинают проявлять инициативу в возбуждении вопросов практической медицины и санитарии, и предписывать нам, врачам, руководящие по ним правила – так жди скорой беды, вроде той, к[ото]рую пришлось пережить в конце января; а казалось бы, что в распределении обязанностей по специальности должно было бы только следовать принципу suum quique[431]431
Каждому – свое (лат.).
[Закрыть], и было бы куда как лучше! Так подло устроена природа человека, что он, ставши по служебн[ой] иерархическ[ой] лестнице выше другого, считает последнего уже ниже и по существу – в области даже специальных познаний этого последнего. Думается мне, что здесь много и российского хамства: подчини служебно вдруг хотя бы нашего министра хоть тому же командиру нестроевой роты (он же факультативно и начальник санитарной части!) – и бьюсь об заклад, что в глазах этого командира этот министр сделается глупее и меньше! […]
4 марта. […] В штабе – тихо. Радкевич за обедом сидел без обычной веселости. Один из симпатичных подполковников Генерального] штаба Яхонтов[432]432
Яхонтов Виктор Александрович (1881–1978) – подполковник (1913), с декабря 1914 по октябрь 1916 г. занимал должность старшего адъютанта отделения генерал-квартирмейстера штаба 10-й армии. Впоследствии – генерал-майор (1917), товарищ военного министра (до октября 1917 г.), видный деятель русской эмиграции.
[Закрыть] передал мне, что у Сиверса имеются бесстыдные намерения возвратиться обратно в 10-ю армию на ту же должность. А ведь кого, как не его с бароном Будбергом нужно считать преступными виновниками наших неудач и гибели 20-го корпуса, пробивавшегося в как[их]-ниб[удь] 10–12 верстах от фронта Гродненской крепости и оставленного без выручки, так как немцы отлично втерли очки в глаза нашим дурням, установивши завесу перед фортами, ч[то]б[ы] успеть за это время ликвидировать все операции с корпусом.
Продолжается уборка трупов на полях брани. Августовские леса с трагически погребенными в них тысячами жизней должны составить для потомства богатую и страшно красивую легенду об обиталище в них загробных теней и духов. […]
5 марта. […] Район расположения 20-го, 22-го и 2-го корпусов около Липска, Сопоцкина, Гожи и др. страшно загрязнен; источники воды завалены трупами; приходится врачам нести сизифову работу по ассенизации почвы и оздоровлению питьевой воды.
Приехавший из Петерб[ург]а полковник передавал, что там только и разговоров за последние дни было об открытии якобы широко организованного у нас в армиях шпионажа, свившего себе гнезда во всех штабах, включая штаб Верховного главнок[омандующ]его; жандармерия в широких размахах производит обыски; обыску подвергся будто бы и сам Сухомлинов[433]433
Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) – генерал от кавалерии (1906), генерал-адъютант (1912), в 1909–1915 гг. занимал должность военного министра.
[Закрыть] (собственно], его жена). Не муссируются ли слухи о шпионаже нашими горе-стратегами, желающими этим прикрыть свои неудачи и оправдать свои действия?! В числе изменников упоминаются люди видного общественного положения. […]
6 марта. […] Утром, напившись чаю, поехал в автомобиле в Соколку для производства расследования по вопросу, правильно ли 495-й пол[евой] госпиталь ликвидировал свои дела в Лыке при январской нашей катастрофе. Интересны бы были результаты расследования по более общему вопросу – умеют ли и воспитаны ли лица нашего командного состава вести дела как подобает, не теряя совсем головы во время пожара и всяких аварий, ч[то]б[ы] на минимум свести гибель вверенных им масс?! […]
7 марта. […] За обедом общий разговор с великим князем; моя популярная сжатая лекция о значении азотной, азотистой к[исло] ты в питьевой воде по случаю абсу[р]дного понимания… Князь, оказывается, окончил курс Военно-юридической академии и ведет расследование боевых действий нашей армии за время ее отступления. Около князя имеются адъютанты, один из них – миллионер, снабжающий ресурсами великих мира сего… […]
8 марта. – 3°R[434]434
–3,75ºС.
[Закрыть]. День светлый и радостный, я собираюсь сегодня к отъезду, и ч[то]б[ы] скорее прибыть к месту устремления, отправляюсь не в санитарном, а в пассажирском поезде сначала в Варшаву, откуда на Седлец[435]435
Седлец – уездный город Люблинской губернии (с 1912 г.), ныне Седльце, город на правах повята в Мазовецком воеводстве (Польша).
[Закрыть] (ч[то]б[ы] там повидаться с Гюббенетом[436]436
Фон Гюббенет Виктор Борисович (1862 – после 1930) – тайный советник (1914), в начале 1915 г. – начальник военно-санитарной части Северо-Западного фронта.
[Закрыть]), а там… там прямо в Москву. Из стана погибающих выбрался лишь около 11 часов ночи, т[а]к к[а]к поезда идут со страшным запозданием.
Сейны[437]437
Сейны – уездный город Сувалкской губернии, ныне административный центр Сейнского повята Подляского воеводства (Польша).
[Закрыть] как будто нами заняты. Приходил князь Кропоткин, уполномоченный Рижского отряда, женатый на чистокровной немке – ex вице-губернатор, и отряд к[ото]рого весь состоит из немцев. Присюсюкивая, изливался в вожделениях получить орден «с мечами», для достижения чего, конечно, козыряет вовсю!
О Лашкевиче, начальнике 28-й дивизии, говорят прескверные вещи: много пограбил в Пруссии и все отправил большим транспортом в свое имение; генерала этого его сослуживцы называют «Бейлисом».
9 марта. Поля очистились от снега, солнце греет животворно, реки вскрываются. Около 10 часов утра приехал в Варшаву, где пробыл до 4 часов дня в ожидании отходящего поезда в Седлец, куда прикатил около 7 вечера. Природа полна тишины и мира, все в ней пропитано совсем не воинственной поэзией. От Варшавы до Седлеца удивительная гладь и равнинная местность, мелькают то там то сям мелкие озерца да молодой березняк. Совсем на вид мирная обстановка на вокзалах и станциях, общая физиономия людей – серьезно-сосредоточенная. Если бы не множество сестер милосердия, то ничто, казалось бы, не говорило о войне. Пребывание в купе 1-го класса для меня было настоящим раем.
По прибытии в Седлец остановился на ночлег у случайных знакомых – молодых офицеров фельдъегерского корпуса при штабе главноком[андующ]его[…].
Получена утром телеграмма о падении Перемышля. Город расцветился флагами. Совершено по сему случаю молебствие. […]
11 марта. На рассвете в Барановичах[438]438
Барановичи – уездный город Минской губернии, в котором с августа 1914 по август 1915 г. располагалась Ставка Верховного главнокомандующего, ныне административный центр Барановичского района Брестской области (Белоруссия).
[Закрыть] – Ставке Верховн[ого] главнокомандующего, где находится в настоящее время и государь. Дороги все более и более принимают вид зимний. Под Минском[439]439
Минск – губернский город Минской губернии, ныне столица Белоруссии.
[Закрыть] уже глубокие снега, езда на санях. Погода чудная, солнечная; так и рвусь в синюю бездну небес… Вечером уже темно – Смоленск[440]440
Смоленск – губернский город Смоленской губернии, ныне административный центр Смоленской области.
[Закрыть].
12 марта. Около 7 утра – в Можайске[441]441
Можайск – уездный город Московской губернии, ныне административный центр Можайского района Московской области.
[Закрыть]. Погода ясная; большой мороз; глубокая зима. Около 11 утра прибыл в Москву. Замучила совесть, что оставил стан погибающих и приехал на отдых, к[ото]рого лишены многие другие… Сердечная встреча с детьми; при виде и Сережи, и Ляли до слез стало грустно: такими-то они показались мне неземными, беспомощными. […]
16 марта. […] Еду в Петербурге большой нудностью, ч[то]б[ы], пока тяну служебную лямку, уж до конца выдержать мерку испытаний людской суетностью. Живу страдательно все какой-то навязанной внешней жизнью. Неудержимая тяга хоть последние 1–2 года жизни пожить для себя – созерцательно.
17 марта. Приехал в Петерб[ург]. […] Побывал в [Военно-]санит[арном] управлении. Разговоры о назначениях, чинах, орденах, формах и пуговицах… Ничего живого, захватывающего… Сенсационным сообщением – история с Мясоедовым[442]442
Мясоедов Сергей Николаевич (1865–1915) – полковник Отдельного корпуса жандармов, прикомандированный с 1911 г. к военному министру В.А. Сухомлинову. Был казнен в марте 1915 г. по ложному обвинению в шпионаже.
[Закрыть]. Но что, в сущности, и она, и он в ряду с целым комплексом прочих этиологических факторов, делающих Россию неизбывно несчастной?! […]
АПРЕЛЬ
17 апреля. Приехал в Гродно. […]
18 апреля. Погода прекрасная; у нас на фронте тихо. Не видно суматохи вокруг. Встретили меня в штабе приветливо. На вопрос Радкевича – «Ну, что у вас там нового?» – я ответил, между прочим, что-де все тянутся к нам сюда воевать; на это он, переглянувшись с начальником штаба, удивленно заметил, что «у нас же все неудержимо стремятся отсюда – туда!» […]
20 апреля. […] Формируются у нас на живую руку какие-то два корпуса для действий в районе Гродно и Ковно; видел я в штабе и вновь назначенных командиров этих корпусов – Сирелиуса и Вебеля[443]443
Вебель Фердинанд Маврикиевич (1855–1919) – генерал от инфантерии (1915), с апреля 1915 по февраль 1916 г. командовал 34-м армейским корпусом.
[Закрыть]; Боже мой, какое убожество! К обеду попал генерал Воронец[444]444
Имеется в виду Воронецкий Владимир Владимирович (1886–1916) – генерал-майор (1915), с мая 1915 по февраль 1916 г. занимавший должность начальника штаба 37-го армейского корпуса.
[Закрыть] (?), поспешающий к своему командиру корпуса Сирелиусу на Ковно, ожидающему его с нетерпением. Радкевич объявил этому генералу, что им предстоит задача «из ничего сделать что».
[…] Штабные наши «рябчики» разукрасились боевыми орденами с мечами и бантами; каждый из них стремится к скорейшему продвижению вверх по служебной лестнице, но… но… с прекрасно разработанным в стратегическо-тактическом отношении планом наибезопаснейших путей в достижении своих целей.
Мой разговор с подполковником бароном Икскуль о том, как он получил «Владимира» 4-й ст[епени] с мечами и как рассчитывает он получить командира полка, ч[то]б[ы] миновать теперь неприятной для него необходимости хотя бы полтора протекционных месяца прокомандовать предварительно батальоном; подвиг же его заключался в том, что 31 января он на автомобиле отвез пакет генералу Российскому, потерявшему-де было всякую связь с армией; верхом ехать – «не может» вследствие расширения вен на левой ноге! А полком командовать считает себя правомочным! Живет всю кампанию «по-семейному». Идеология сего марса есть идеология всего нашего воинства; сколько в ней для свежего человека цинизма, разврата, моральной низости… О, если бы наши военачальники всю гибкость своего ума по части всяких плутней, обходов закона и передергивания карт pro uso proprio[445]445
Ради собственной выгоды (лат.).
[Закрыть] да не поленились бы применить к противнику; последний уже давно был бы сокрушен! […]
23 апреля. […] Сегодня утром узнал, что ночью над Гродно летал цеппелин, сбросивший несколько бомб. Среди жителей много жертв[446]446
Поднялась большая стрельба и вообще суматоха, я же – крепко спал и ничего не слышал; так незаметно и легко можно было отправиться в место вечного упокоения. – (Примеч. автора.)
[Закрыть]. […] Беседовал с начальником штаба Поповым по поводу предложения Центрального общевоинского комитета Варшавы предоставить армии санитарный отряд для борьбы с эпидемиями, состоящий из хорошо обученных ad hoc[447]447
Для этого (лат.).
[Закрыть] 16 учителей и 6 дезинфекторов; хотя «благонадежность» их и заверена Варшавск[им] генерал-губерн[атором] Енгалычевым[448]448
Енгалычев Павел Николаевич (1864–1944) – князь, генерал-лейтенант (1914), Варшавский генерал-губернатор в 1914–1917 гг.
[Закрыть] и полицией, но настроение теперь у нас в штабе резко отрицательное по отношению к всем общественным] организациям, так как в них начали видеть организованную агентуру шпионства, предательства и крамолы. У какого-то члена Государственной] думы обнаружены прокламации. Относительно данного санитарн[ого] отряда я старался успокоить генерала, а вот на Рижский – Рижский отряд[449]449
Где отлично чуть не на всех языках говорят, но весьма скверно лишь на русском! – (Примеч. автора.)
[Закрыть], как я уже и давно твердил, следовало бы обратить в[есьма] серьезное внимание. […]
24 апреля. […] Санитарный мой отдел сегодня перебирается в другое помещение – в городское училище, а то в занимаемое теперь водворяется по-прежнему Контрольная палата. Администр[ативно]-правительств[енные] учреждения мало-помалу возвращаются в покинутый было ими г[ород] Гродно. […]
25 апреля. […] Расположились мы своим санитарным отделом возле железн[о]дорожн[ого] полотна у вокзала – в месте, особенно подверженном опасности от бросаемых бомб с тевтонских аэропланов. После недавнего ночного набега цеппелина на Гродно мы теперь несколько насторожились: по ночам то и дело наши прожекторы шарят по небу…
Судя по стереотипным официальным телеграммам к[а]к с западного, т[а]к и с восточного фронта, что-де мы все «успешно и энергично продвигаемся вперед», казалось бы, что мы с союзниками уже давно должны были бы быть в столицах Австрии и Германии. А немцы преподносят да преподносят нам сюрпризы – то пушку выдвинут, стреляющую на 40 верст, то изобретут удушающие газы, служащие «ядовитой завесой» при наступлении, и пр., и пр. Уже мой Сергей-сынишка, большой оптимист со своим дядей Николаем относительно наших военных гениев, – и тот в последнем своем письме по поводу занятия немцами Прибалтийского края замечает скромно, что-де «для меня, профана, кажется, что нами не предусмотрено чего-то элементарного…» Не везет же нам: недавно произошло еще весьма печальное военное событие – взрыв на Охтинском мелинитовом заводе… […]
26 апреля. […] Солдатики, живущие здесь, в Гродно, и проходящие на поле брани, лихо поют и даже пляшут.
Комендантом крепости сделано распоряжение, ч[то]б[ы] после 11 час[ов] ночи всюду тушились огни в учреждениях и квартирах или же завешивались окна; это – в целях охраны от цеппелинов и аэропланов. […]
27 апреля. Захолодало. Утром пошел снег и поднялся страшный ураган. После полудня стихло и прояснилось.
На Карпатах нас сбили, немцы дошли чуть не до Риги[450]450
Рига – губернский город Лифляндской губернии, ныне столица Латвии.
[Закрыть], а в газетах наших неизменное «мы продолжаем теснить противника», «мы успешно продолжаем продвигаться», там-то и там-то «произошло успешное для наших войск столкновение с неприятелем”. О противнике же нашем – тоже неизменное, что он почти совсем уже издыхает и не в силах бороться с нами. Уж не секретом для публики появилось известие о взятии немцами Либавы[451]451
Либава – портовый город в Гробинском уезде Курляндской губернии, ныне Лиепая, город республиканского подчинения в Латвии.
[Закрыть]. […]
МАЙ
5 мая. […] «Храбрый» наш полковник, с упрочением его положения исполненный взыгравшей властности и силы (в гостинице «Рояль» недавно даже побил – о чем, не краснея, рассказывает, – морду официанту за то, что последний «не так» обернул голову, отвечая на вопрос), поцукивая на делопроизводителей санитарного отдела, служащих ему и за страх, и за совесть, отлично управляет санитарной частью армии! Меня почтительно оставляют в покое. Я против этого ничего не имею; может быть, я – и лишний; так хотелось бы просить «ныне отпущаеши…» Но лишний ли я, как ржавый винт в отлично конструированной и прекрасно вертящейся машине, или же как вполне исправный винт, но не положенный ржавой, аляповато сколоченной, не столько вертящейся, сколько скрипящей и визжащей машине?!
А немцы-то нас ахнули с Карпат почти на 100 верст, к Ярославу и Перемышлю на линии реки Сан; противник в каких-н[и]б[удь] 70 верстах от Львова. Сколько тысяч жизней мы положили на пресловутый переход «наших орлов» через Карпаты, и теперь опять начинай сказку с начала – оказываемся почти при том же исходном положении, как и в сентябре прошлого года! Но изворотлив же мошенник-ум человека: продажные перья военных обозревателей ухитряются наше поражение обрисовать как победу!! Благодаря очищению Карпат наши-де армии теперь оказываются с развязанными руками, спала-де с них забота эта – защита перевалов от вторжения германцев в Восточную Галицию (sic!), не мы-де разбиты, а германцы накануне полного разгрома их армий! […]
6 мая. Царский день. Был в соборе. К обеду приехал архиепископ Михаил[452]452
Михаил /Ермаков/ (1862–1929) – архиепископ Гродненский и Брестский в 1905–1921 гг.
[Закрыть] благодарить командующего за награждение его звездой и бриллиантовым крестом на клобук; севши со мной рядом, его первыми словами обращения ко мне было: «Я Вас часто вижу у себя в церкви, но недолго Вы стоите в ней, будучи, очевидно, очень заняты».
Природа благоухает; изумрудный ковер полей обильно усеян распустившимися одуванчиками; сирень еще только что расцветает; зацвели яблони. Так хорошо было бы жить теперь у себя на родине…[…]
7 мая. Все те же телеграммы и военные репортерские рассуждения ребяческого характера для чтения только бы детям не выше среднего возраста. Десятками тысяч исчисляются потери у неприятеля без параллельного приведения потерь наших, Австрия-де при последнем издыхании, Германия-де умирает медленной голодной смертью; зато силен-де Бог земли русской – шапками забросаем! […]
8 мая. Погода продолжается прекрасная. А катастрофа-то, постигшая наши армии в Галиции, ведь ужасная. Если отберут от нас обратно Перемышлъ и Ярослав, то, пожалуй, несдобровать и всей Галиции, куда мы так спешно почли нужным первее всего направить наших обычных культуртрегеров – исправников да урядников; как бы не пришлось их оттуда так же спешно убирать, как случилось и со взятием нами Инстербурга… […]
9 мая. В Курляндско-Ковенской губернии мы все «тесним неприятеля»[453]453
Да «отражаем успешно его атаки, нанося неисчислимые потери» (конечно все ему же!) – (Примеч. автора.)
[Закрыть]. С Галицийского фронта – никаких известий. Не верится, ч[то]б[ы] в данном случае n’estpas des nouvelles было бы belles nouvelles[454]454
Отсутствие новостей… хорошей новостью (фр.).
[Закрыть]… […]
10 мая. День Св. Троицы. Светлый, голубой день. Не только дома, но и вагоны разукрасились срубленными березками. Запасшись в передний путь и в обратный «пропуском» – «бурка» и «ядро», – поех[ал] рано утром ознакомиться с санитарным[и] условия[ми] 28-й дивизии, в одном из полков к[ото]рой брюшной тиф стал принимать угрожающие размеры. Возвратился поздно вечером в тот же день ужасно разбитый автомобильной ездой – голова кружилась, испытывал какое-то оглушение; свалился как мертвый в кровать. […]
11 мая. […] У солдат на 1/4 фунта уменьшен паек мяса; теперь они будут получать по 1/2 ф[унта] свежего и 1/4 ф[унта] солонины. […]
12 мая. Наш энергичный «храбрый» полковник телеграфировал корпусному врачу 20-го корпуса, что-де пора прекратить эпидемию тифа в Волжском полку. Стараюсь всячески разъяснить нашим воякам, что не в одном враче дело, ч[то]б[ы] задушить эпидемию; не аналогично ли будет, если Верховный главнок[омандующ]ий прикажет командующему армией, что пора-де переходить через Карпаты или вступать в Пруссию. […]
14 мая. […] В публикуемых телеграммах Верховного главнокомандующего хотя и ничего не говорится пока о взятии немцами Ярослава, но в штабе «по секрету» это уже известно. Из сдержанной беседы по щекотливому для нашего оружия вопросу с Радкевичем о положении в Галиции – из шепотком произнесенных им слов, что-де, может быть, взят и Перемышль, да и по своему внутреннему убеждению я не сомневаюсь, что эта твердыня также отобрана у нас… Уж больно наше правительство поторопилось [с] торжественным] празднованием завоевания Галиции и насаждением там своих культуртрегерских учреждений… Мне думается – несдобровать и Львову…
Наши шантеклеры и в ус себе не дуют. Слава Богу, что выступление Италии все-таки морально хотя подбодрит наши войска, и они на позициях кричали уже по сему случаю «ура», на что немцы отвечали, что «зато мы у вас отобрали Перемышль и взяли 20 тысяч пленных».
17 мая. Жарко, бездождье. Телеграммы все в таком роде, что «захвачено нами у неприятеля несколько пулеметов, 60 пленных, в том числе много офицеров[455]455
И отступаем-то мы все не потому, что заставляет нас к этому противник, а лишь вследствие приказаний «в целях производства новой группировки войск». – (Примеч. автора.)
[Закрыть] (sic!)… Величаво прет на нас колосс, забирая и отнимая у нас методически территорию за территорией, а мы все хвастаемся и кричим «ура», вырывая у него по волосикам из его шерсти!! Несмотря на выступление Италии, я предчувствую, что тевтоны заносят над нами еще где-то могучий свой кулак. Мне думается все-таки, что с точки зрения реакционной ортодоксии в интересах охраны и укрепления своих «исконных» начал государственности, России, как военно-деспотической державе, не следовало бы воевать с Германией – державой, в к[ото]рой кулак, да еще бронированный, возведен в идеал, обеспечивающий человеческое благополучие. С упомянутой точки зрения, между Россией, с одной стороны, и Германией и другими державами одинакового с ней государственного режима – с другой, должна была бы существовать взаимная дружба и круговая порука… Но случилось то, что случилось! России на ратном поле посчастливилось очутиться в благодатнейшем сообществе с государствами прогрессивно-демократического строя. В хорошем же сообществе и плохой человек делается хорошим. Так отчего бы нам не надеяться, что и теперешнее боевое союзничество России с державами благороднейшего режима не повлияет впоследствии самым благоприятным (хотя бы смягчающим!) образом и на ее собственный режим, особенно если и после войны продолжится между союзниками и entente cordiale[456]456
Сердечное согласие (фр.).
[Закрыть], и формальное соглашение идти рука об руку против внешнего врага? Да здравствуют же наши союзники как защитники России и от ее внутренних врагов – «волков в овечьей шкуре»!! Ура!
Широкогоров[457]457
Широкогоров Иван Иванович (1869–1946) – патологоанатом, доктор медицины (1907), приват-доцент кафедры патологической анатомии Юрьевского университета в 1908–1915 гг., впоследствии – академик АМН СССР (1944).
[Закрыть] (приват-доцент Юрьевского университета), подвизающийся здесь в общественной организации, передавал о пассаже, как приехавший в 1-ю армию помощник верховного начальника по санитарн[ой] и эвакуационной] части генерал Поливанов[458]458
Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) – генерал от инфантерии (1911), с 1912 г. был членом Государственного совета. В 1914–1915 гг. был помощником Верховного начальника санитарной и эвакуационной части принца П.А. Ольденбургского. Военный министр в 1915–1916 гг.
[Закрыть] был изумлен при представлении ему начальника санитарн[ого] отдела полковника Донштрубе[459]459
Дон-Штрубо Василий Семенович (1864 —?) – полковник (1910), и.д. начальника санитарного отдела штаба 1-й армии в 1914–1917 гг. Генерал-майор (1917).
[Закрыть] и его помощника – тайного советника д-ра медицины Феодосьева… […]
18 мая. […] Не предвидится и конца кровавому кошмару. Как я устал, устал… А для наших штабных эта война – как хорошо оплачиваемая статья; кажется, что чем дольше будет тянуться – тем будет желательнее. Узко одностороннее развитие их и ограниченность умственного кругозора – поражающи. Как я одинок здесь… […]
21 мая. […] Полковник мой отлично отмеблировал себе квартиру и уже устраивает для нужных ему людей вечеринку с картами и прочими онёрами… А я… я… предпочитаю быть в «блестящем одиночестве»: при моей личной и мирской скорби мне так легче.
Зашел вечером после прогулки на Неман к сестрам в Гродненский госпиталь, у к[ото]рых ни разу еще не удосужился быть, несмотря на постоянное их приглашение как «доброго, хорошего Вас[илия] Павл[ович]а». Узнал, что будучи представлены все к наградам медалями одинаковых степеней[460]460
Так как все одинаково усердно работали. – (Примеч. автора.)
[Закрыть], получили они медали разных достоинств: кто покрасивей и поинтересней были для дежурного генерала – то получили высшую степень, менее же соблазнительные для него получили низшие степени; «видных фамилий» также получили высшие степени медали… Мне было очень неловко перед сестрами. Опять симптом: как у нас применяется закон…[461]461
И воспитываются «маленькие люди» в понятиях о законности. – (Примеч. автора.)
[Закрыть] «Горе вам, фарисеи-лицемеры… Гробы повапленные…» […]
22 мая. Свершилось! По источникам военных информаций все у нас шло неизменно прекрасно, «дезорганизованных» и «глупых» австро-германцев «искусным управлением и маневрированием» наших войск мы постоянно колотили да колотили… Перемышль пал! Предвижу, несдобровать и Львову. На душе грустно-прегрустно; одно утешение – не послужат ли наши поражения с сотнями тысяч уложенных зря жизней к скорейшему обновлению нашей многогрешной Руси – «Соединенных Губернаторских Штатов» – Руси беззакония, произвола, полицейского усмотрения и пр. мерзостей.
Совершившееся событие аппетита за обедом ни у кого не расстроило и не помешало нести всякие вздорные и пустые разговоры. Мы позорно разбиты… Ну, гг. военные, для пользы дела не нам ли, врачам, взять теперь командование полками и дивизиями? А вы продолжайте быть санитарными начальниками! […]
Радко-Дмитриев[462]462
Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич (1859–1918) – генерал-лейтенант болгарской службы, в 1914 г. состоял болгарским посланником в Санкт-Петербурге. После вступления Болгарии в Первую мировую войну на стороне Германии принял русское подданство. В августе – сентябре 1914 г. командовал 8-м армейским корпусом. Генерал от инфантерии (1914). С сентября 1914 по май 1915 т. командовал 3-й армией. С июня 1915 г. командовал 2-м, с сентября 1915 г. – 7-м Сибирскими армейскими корпусами. С марта 1916 по июль 1917 г. командовал 12-й армией Северного фронта. С января 1918 г. в отставке. Погиб в Пятигорске.
[Закрыть] – балканский герой! – отстранен от командования 3-й армией[463]463
Искусственно созданные герои и таланты – генералы Рузский и Селиванов – вовремя успели сойти со сцены! История их обязательно идеализирует настолько, что создаст о них целые легенды и сложит о них красивые пасторали для подрастающего юношества и институток. Искусственное создание героев при малейших успехах – явление обыкновенное во всех войнах (в Русско-турецкую войну и капитан Штоквич, комендант Баязета, был беатифицирован!!). «То был век богатырей». Да был ли такой в действительности? Не простыми ли выдумками летописцев представляются все события «в историческом разрезе»? Не баснописцами ли являются историки, сквозь призму времени рисуя давно прошедшее в мифических прикрасах? Людям необходимы сказки! «Mundus vult decipi!..» «Мир жаждет подвигов!» «Земля скучает по великим зрелищам». […] – (Примеч. автора.)
[Закрыть]. Пленные немцы говорят, что летом пособерут они хлеб, а к осени захватят Варшаву. Не случилось бы этого еще гораздо ранее!
23 мая. Погода райская; в резком контрасте с ней трагически складывающиеся для нас события текущей великой войны… Перед германцами мы оказались полными банкротами; не пора ли капитулировать? Интересно, как будут теперь извертываться военные обозреватели прессы, убаюкивавшие общественное мнение нашими quasi-успехами? […] Утешают публику, что нахождение в руках противника Перемышля не помешает-де нам его опять взять обратно! Благодарю покорно. Ведь и пределы терпения, наконец, не могут же быть безграничными. Опять брать Перемышль и завоевывать Галицию, равно отвоевывать захваченные у нас земли?! Начинать сказку о белом бычке с новыми стотысячными жертвами?! Это при могуществе-то оборонительных сооружений у противника, к[ото]рого не в состоянии из них вышибить ни мы, ни наши союзники?! Италия теперь для нас соломинка, за к[ото]рую мы цепляемся. Не надо обладать особым даром предвидения, чтобы утверждать, что скоро, может быть, покажет себя и германский флот, якобы запертый в Кильском проливе…
Грустно читать приказ Верховного главноком[андующ]его от 30 апреля за № 321, объявляющий о высочайшем даровании ему «Георгиевского оружия, украшенного бриллиантами с надписью “За освобождение Червонной Руси”». Из Львова уже идет усиленная эвакуация…
Ужасную вещь по неожиданности мне пришлось услышать сегодня в разговоре за обедом с почтеннейшим профессором стратегии в Никол[аевской] академии Генер[ального] штаба полковником А.А. Незнамовым[464]464
Незнамов Александр Александрович (1872–1928) – в 1904–1905 гг. занимал должность старшего адъютанта штаба 35-й пехотной дивизии, в которой служил В.П. Кравков. Генерал-майор (1915), командир 102-го пехотного Вятского полка, в 1916–1917 гг. занимал должность генерал-квартирмейстера штаба 7-й армии, с мая по август 1917 г. – ид. начальника штаба 7-й армии. В советское время – профессор Академии Генштаба РККА.
[Закрыть]: на мое к нему обращение, что-де вот, А[лександр] Александрович], вам теперь будет богатый материал для поучения своей аудитории касательно всех операций текущей войны, он мне с сокрушенным сердцем ответил, что научнокритическому разбору эти операции подвергать будет совершенно невозможно по цензурным условиям; а когда я наивно-удивленно спросил его, да как же будет писаться правдивая история наших военных действий, ч[то]б[ы] избегать на будущее время сделанных, может быть, нами ошибок, он отвечал: «Да так, как пишут теперь в газетах». О Боже мой, да неужели это так?! Берет жуть и отчаяние за судьбу России…








