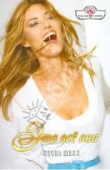Текст книги "Синие пташки-пикушки (рассказы)"
Автор книги: Василий Юровских
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Мы подхватили лыжи под мышки и побежали в деревню. Я у пожарки свернул в свой заулок, а Витька потопал дальше улицей. Изба у них стояла на краю Юровки.
Ни мы и никто другой в деревне так и не повстречали Прокопия в тот день. Они с Матреной приехали в полночь, и Витька не слыхал на полатях, как мать завела в избу его тятю, как потом отвела на конюшню Победителя, как долго-долго не спали мать с отцом у стола в горнице.
Дядя Прокоп до самого тепла не показывался на улице. Раз-другой, а к Витьке мы заходили редко и чаще всего стояли у порога, я видел его через раскрытую дверь горницы. Худой и белый лежал он на деревянной кровати, и когда выпрастывал руку из-под лоскутного одеяла, она была белая и костистая, с синими извилинами жил. Казалось, под кожей растеклись и остановились весенние ручейки.
Я не расспрашивал дружка о здоровье отца. Чего тут языком болтать! Если бы мог он, так разве лежал дома... Давно бы дядя Прокоп выправлял к весне телеги, чинил сбрую, вил из конопляной кудели веревки. Да мало ли бы дел нашлось для него в бригаде, в мастерской по дереву...
Помалкивал и Витька, и я понимал дружка. У нас тоже тятю отпускали по ранению, тоже еле-еле поправился и опять уехал на фронт.
Как-то незаметно привыкли мы с ребятами, что у Витьки дома отец, но по-прежнему звали его не иначе как Витька Матренин, и он никогда не поправлял нас и не обижался. Называли же меня Васька Варварин, другого дружка – Ванька Устиньин, как и всех остальных, по именам матерей. Даже учителя в школе вызывали к доске нас не по фамилиям – сплошь были Юровских, Мальгины, Поспеловы да Грачевы, – а по именам матерей наших. Они, матери, и краснели за наше озорство.
...Летом, когда после дождей-парунов появились по лесам синявки и обабки, как-то утром вывела Матрена своего хозяина. Левой рукой он держался за ее плечо, а правой опирался на березовую клюшку. Витькина мать усадила дядю Прокопа на лавочку у ворот, чего-то сказала ему и бегом направилась к ферме. Мы сидели за прудом наискосок Витькиного дома, где играли в прятки по кустам и сшибали шишки с двух сосен. Залезть на них не мог даже липучий Осяга – гладкие стояли они до самой вершины.
– Гляди-ко, ребята, дяде Прокопу полегче стало, – сказал Санко Марфин и показал рукой за пруд.
Витька смолчал, но разве мы не понимали, как он в душе радуется, что тятя его поднялся с постели и сидит на лавочке, как сиживал до войны, когда приходил под вечер с работы и приносил из мастерской сыну маленькие грабелки или литовочку, плуг или борону из дерева. А с поля кто как, а Прокопий всегда привозил ягоды или стручки гороха. И особо любил он ломать грузди.
В деревне быстро узнали, что Прокопий Степанович выходит на улку и дело пошло, стало быть, на поправку. Иные бабы начали уж и вслух завидовать Матрене:
– Счастливая ты, Мотя. Выходила Прокопа и теперь с мужиком. А нам-то где своих дождаться с того света, бумажки и осталось горючими слезами уливать.
И только все сходились на одном, когда смотрели издали или вблизи на Прокопия: "Тоскует мужик по лесу, по груздям... До чего мастер он их искать – задивуешься! Все пробегут грядой Дубровой, ощупают до листика под березами, а Прокоп следом – груздок за груздком выковыривает. Знать, заговор какой-то имеет, грузди сами из земли к нему лезут. Груздяник первый, чего тут скажешь боле!.."
С груздями каждый раз возвращались мы в деревню мимо Витькиного дома, и дядя Прокоп ласково окликал нас с лавочки:
– Ну, как там, добры молодцы, груздочки? Сухих или сырых наломали?
И подолгу советовал, куда лучше завтра идти, где и какие грузди здорово растут-напревают, как ломать их, чтобы не перевелись они по лесам:
– Грибы – они не уважают, кто роется в лесу, как свинья пятаком своим все искапывает. Они – существо тонкое, глазу не видно, как размножаются. Сломал груздок, осторожно прикрой корешок. После столь нарастет – всем таскать не перетаскать.
Запали нам в душу слова: тоскует Прокоп по груздям... Сводить его с собой? Да если мог, так разве усидел бы он на лавочке?! Он бы и в колхозе работал, и по грузди успел бы...
Идем ли дорогой полевой в дальние Отищевские березняки, бродим ли бельниками у Королят, а нет-нет да вспомним Витькиного отца. И если у Витьки меньше нашего груздей в ведре – незаметно подкладываем из своих. Не в отца он, попадаются ему все больше старые шляпы – червивые или иструхшие. Но и понимали, не маленькие: дяде Прокопу готовые грузди не в радость. Это кажется только, что хорошо бы они сами запрыгивали в ведро. Ну, напрыгали бы, а какое веселье, если не ты нашел, не полюбовался вначале, а потом аккуратно сломил?
Заненастило как-то, обложило дождем-мелкосеем со всех сторон, и пережидали мы непогоду под соломенной крышей овчарника за Витькиным прудом. Сухо и тепло нам на соломе, под самой крышей веники прошлогодние висят, и ветер не достигает нас.
Безделье хуже всякой работы показалось нам. Даже поливать грядки и окучивать картошку лучше, чем смотреть на близкое мутное небо и слушать, как сыплется и сыплется частый дождик.
– Робя, – покусывая соломинку, начал первым Осяга. – Дождь-то все равно пройдет, не век же ему полоскать. Я вот что думаю: как просохнет, давайте берегом пруда изладим груздяные грядки. Навозим земли из Дубравы на тележках и в грядки ее. Грузди напреют, и дядя Прокоп начнет за ними ходить.
– А верно Осяга придумал! – ожил Ванька Устиньин. – Долго ли оравой натаскать груздяной земли.
Осягина задумка приглянулась всем, и никто не приметил, как стемнело под крышей и "отбил часы" по подвешенному на углу лемеху фермский сторож, ревматизный Василий Южаков. На уме у нас были только груздяные грядки возле пруда для Прокопия Степановича. А расходясь домой, Витьке строго наказали: пока грузди не появятся – тяте своему ни словечка. Вдруг ничего не получится, и осрамимся перед ним.
"Хоть бы ненастье кончилось, хоть бы кончилось..." – изнывал я ночью. И пока не свалил сон, прислушивался: не бренчит ли дождь по стеклам, не каплет ли с крыши в деревянное корыто?
А утром первым делом подскочил к окну и с радости чуть не выдавил головой стекло – на улице было светло, резко голубело небо и в каждой лывине плавилось яркое солнце. На заплоте гоглился и голосил петух, куры мелкими глоточками отпивали дождевую воду из корыта, и даже воробьи лезли попурхаться в лывине, будто не стояло нудное ненастье, а прогрохотала короткая гроза.
С ведрами и тележками двинулись мы Морозовской дорогой в Дубраву. Мама еще раньше ушла на детдомовский огород, а сестре Нюрке я не стал объяснять, лишь махнул ведром и покатил тележку по заулку к пожарке.
Собрались у пруда на диво дружно, даже Ванька Устиньин – засоня из засонь – и тот явился без опоздания. И когда пять тележек проторили сырой дорогой прямую колею, я заметил, как переменился в лице Витька: волновался он, и слезы от благодарности к нам накатывались на узкие глаза.
"Ничего, Витя, вырастут на грядках грузди. Растут же огурцы, морковь и бобы, – думалось мне. – Дождей не будет – польем из пруда. Пруд пересохнет – из Крутишки речной воды наносим. Ключ под ветлой со срубом не испарится никогда. Вырастут грузди – взвеселим сердце дяди Прокопа..."
Что-что, а возить на тележках – дело привычное для нас, пусть земля и тяжелее чащи или сухостойника. А когда артелью, то и пауты не так больно кусаются, и солнце не очень-то жарит затылок, и о еде не думается. А летнему дню конца и края не видно. Неловко только, когда попадаются навстречу взрослые и допытываются, зачем из леса землю везем.
– В школе велели, – буркнул Осяга на расспросы сроду подозрительного конюха Максима Федоровича.
– В шко-о-ле? – недоверчиво растянул он. – А почто моя Манька не сказала, из озерка не вылазит, поди, грязи напарила в голове от перекупанья.
Если бы нужна была просто земля, то навозили бы скоро. Но мы аккуратно снимали грибной слой и складывали отдельно от земли – черной, вязкой и тяжелой. Ее ссыпали вниз, а уж после покрывали бурой, с перепревшими листьями. В ней таились невидимые семена груздей.
Витька ли обмолвился или сам Прокопий Степанович углядел, но на третий день он неслышно приковылял к нам на пруд под старые редкие березы, и мы услыхали:
– Гляжу и гадаю: чем это добрые молодцы занялись? А они, смотри, земляные гряды делают.
– Не земляные, а груздяные, дядя Прокоп, – признался Осяга и покраснел, и лишь брови и волосы забелели сильнее прежнего.
– Груздяные?! – удивился Прокопий Степанович. – А не проще ли грузди таскать? Или в лес неохота ходить, под боком хотите их ломать?
Витька подбежал к отцу и о чем-то зашептал ему на ухо. Видимо, признался, для кого грядки и грузди. Дядя Прокоп кивал головой, но было все-таки непонятно, доволен он нами или не одобряет.
– Так-так, ясно, ребятки! Однако скажу вам, вы уж, ради бога, не обижайтесь, не с того начали. Допустим, грибной земли вы навозили и грибницу не нарушили. А вырастут ли грузди? Может, чего им недостанет здесь?
Мы растерялись: наверное, действительно что-то мы не додумали, чего-то не так делаем. Дядя Прокоп лучше нашего знает, как грузди растут, на войнах побывал...
– Ну, вы не расстраивайтесь и духом не падайте. Нужно было, сынки... – голос у дяди Прокопа почему-то дрогнул. – Нужно с деревьев начинать, березы и осины сажать. Тогда, я вам скажу, точно вырастут любые грузди. Точно!
Прокопий Степанович поморщился, должно быть, раны разбередил, и медленно осел на почерневший пень спиленной березы. Он свернул цигарку, ловко высек кресалом искровые брызги на трутовник и затянулся табаком.
– Правее нашей избы, ребята, – ткнул дядя Прокоп клюшкой за пруд, жил Иван Григорьевич Поспелов, или Ваня Семиных, как помнят его старые люди в Юровке. Не такой, как все, он был. Во-первых, обожал лошадей, да не рабочих, а рысаков. От кавалерии, службы солдатской, осталось в нем. Запомнил я жеребца, Соловко звали, как ветер был, не конь, а огонь! Эх, да как скакал на Соловке Иван, как скакал! – заблестел глазами дядя Прокоп. Никто и не тягался с ним на скачках, где уж Соловка обогнать! Да и умен, умен был жеребец! Иной человек меньше соображает... Хотя совсем не о том я вам расскажу. И пруд, и ключ, и сад вот весь этот – все от Ивана Григорьевича осталось. Только худые люди перевели его, сад-то. Берегом целая березовая роща стояла, тут и рябина, и черемуха, и калина, и смородина. Сосны тоже он вырастил, а в пруду развел рыбу. Не караси, а лапти ловились. Ну, а главное-то – грузди здесь росли, что те по добрым лесам. Прыснет дождик – Иван Григорьевич с корзиной за пруд. Смотришь, синявок несет или обабков. А опосля грузди – ступить некуда. Соседи смущались в сад заходить, хоть Иван Григорьевич приглашал. Тогда он что надумал: груздями одарял нас, а бабушку Федосью за руку насильно заводил. Состарела она, под девяносто подкатило ей, а по грузди любительница была ходить. Только куда ей в лес? Вот и меня дядя Ваня приучил к груздям. Своих-то детишек он не имел, меня заместо сына привечал.
– А когда он умер-то? – вырвалось у Ваньки Устиньиного, стоило только Прокопию Степановичу замолчать.
– А? – поднял голову и очнулся от чего-то своего, нам неизвестного. Не помер Иван-то Григорьевич. Белочехи его зарубили шашками.
Дядя Прокоп уперся на клюшку, поднялся на ноги и улыбнулся нам:
– Ладно, сынки, подамся домой. А вы запомните мой-то совет. И будут, будут расти грузди у вас.
Сколько не мочило потом, а на грядках не появились грузди. Зато осенью мы натаскали березок, осинок и смородины. Засадили весь берег пруда и снова поверили, если поднимется лес, станут расти и грузди. Лишь бы поправился здоровьем Витькин тятя. А грибная земля тоже не пропадет даром: в ней есть незримые семена груздей, и они сразу оживут вместе с лесом.
...Слякоть и холода опять свалили дядю Прокопа. И когда Витька не пришел в школу, мы сбежали с уроков к нему домой.
В настуженной избе тесно от народу. Из горницы причитали проголосно бабы, а у стола на лавке сидел без шапки председатель колхоза и свертывал цигарку за цигаркой. Взрослым было не до нас, и Витька на печи за трубой не видел и не слышал нас. И мы тоже оглохли, сели на нижний голбец и, не стыдясь друг друга, заревели. Давились, всхлипывали и, стуча зубами, шептали:
– Дядя Прокоп, дядя Прокоп, чо ты не дождался груздей, чо не дождался...
СИНИЕ ПТАШКИ-ПИКУШКИ
Суслик дернулся-вздрогнул и покорно затих у меня в руках. Он не бился и не царапался, а скосил на нас темно-синий глаз с нависшей слезинкой и ждал решения своей судьбы.
– Да живой ли он, папа? – заволновался сын и осекся...
Песочная шерстка трепетала-мурашилась, словно вот-вот из груди зверька вырвется маленькое горячее сердце.
– Папа, суслик-то обмочился! – снова ахнул Вовка.
– Сколько он страху натерпелся, – усмехнулся я и ослабил пальцы.
– Ну что с ним делать, сынок?
– Как чего? Отпустим! – удивился Вовка.
– А ведь он вредитель.
– Ну и что. Чему здесь суслику вредить? Сам видишь, земля одна да сеянцы акации на питомнике.
– Будь по-твоему, помилуем! – и я разжал пальцы.
Суслик рванул полем, высоко подкидывая круглый зад и смешную кисточку хвостика, непросохшего после струйки.
Что же, пускай живет... И не заступись за него сын, все равно отпустил бы его. Понимаю, вредитель он, а душа протестует. Нынче совсем редко услышишь птичий пересвист сусликов даже на поскотинах. С полей и распаханных степей сжили их грозные пахари-тракторы, того и гляди, останутся скоро по музеям серые от пыли чучела зверьков. Ну а зерна осенями остается в полях немало, хоть и молотят хлеба чудо-комбайны.
...Грызуны – вредители. И в школе и дома внушали нам когда-то, если разговор касался сусликов, и хвалили тех, кто больше всех наловит простодушных зверьков.
И мы начинали с забавы, а в войну перешли на промысел. Лишь "съедали" ветра и дожди жидкий снег на степи у деревни, а мы уже бродили ватагами и отыскивали жилые норы.
– Нашел, нашел! – завопит кто-нибудь из нас, подскакивая у норы не столь от радости, сколько для согрева босых ног.
И загремят ведра на бегу, и начинаем мы таскать воду из лыв и болотин.
Эх, если бы с такой охотой поливали мы огуречные гряды!
Чего бы проще выманить из норы сухолюба-суслика – только не ленись, таскай воду, не давай ему опомниться. Ан нет! Оплошай, не ухвати вовремя, когда он мокрый очумело полезет из мутно-холодной дыры, – "заткнет" суслик ее задом и скорее задохнется-захлебнется, чем покинет нору. Хоть лей воду, хоть палкой тычь – не сдвинешь его, как норовистого быка.
Среди ребят прослыл я удачливым ловцом, и они освобождали меня от воды после двух-трех ведер, сажали сторожить суслика. Иные боялись, другие оправдывались, что, мол, бородавки по телу пойдут. А я навострился угадывать бульканье в норе и смело цапал сусликов даже за мордочки. Бывало, укусит зверек, но тогда еще сильней азарта и злости прибавляется...
Впитывала земля снежницу, и наступал самый трудный промысел.
Уже не оравой, а втроем – старший брат, дружок Осяга и я – вели мы ловлю пшенично-степных грызунов. Свивали петли из конского волоса и настораживали мелкие капканы, оставленные нам отцом.
– Добры отцы сусеки и лари хлеба заробили своим семьям, а наш всего и благословил оружья и капканы, – иногда, отчаявшись, ворчала мама.
Мы, однако, про себя не соглашались с ней. Хлеб мы давно бы съели, а ружье и капканы кормят нас круглый год.
Нет, не совсем уж и худой наш тятя, пусть сроду не домил так, как хозяйственные мужики. Всех младших братьев поочередно таскал он с собой по лесам и болотам. С возрастом они отходили от охоты и остепенялись, а тятя из всей Микитиной породы остался бродягой-охотником. А мы-то с Кольшей в тятю по нужде.
...Заготовитель дедушка Яков Иванович отоваривал шкурки сусликов, хомяков и водных крыс отрубями и даже желто-серым сахаром.
Как-то прибежали к сельповскому амбару, где заготовитель принимал у нас пушнину, и остолбенели у распахнутой двери. Дедушка доставал из сундука глиняные пикушки и каждой насвистывал. Синие пташки с красненькими пятнышками сбоку весело распевали из амбара, и нельзя было отнять глаз от голосистых игрушек.
Яков Иванович щурился из-под клочкастых сивых бровей, хитро подглядывал за нами, и густая борода шевелилась улыбкой. Казалось, он не просто проверяет товар, а испытывает-подзадоривает нас с каким-то умыслом.
– Нам бы, Кольша, – заикнулся я на ухо брату, и он согласно вздохнул.
– Чего же понатащили нынче, охотнички? Сколь хлебушка упасли от окаянных вредителей? – спохватился Яков Иванович и вынул из бороды последнюю синюю пташку.
К нашей пушнине дедушка не придирался. Он благоволил к тяте и частенько грустил, что война оторвала от дела самого заправского зверолова:
– Ить только горностая по две сотни за зиму сдавал Иван Васильевич. По две сотни! А шкурочки-то без единой помарочки, белее снега! Первым сортом на базе шли. Во как!
Мы снимали шкурки без порезов и рвани, обезжиривали начисто. И заготовитель похваливал нас, а на других ребят хмурился:
– Портят шкурки токо. Думают, война, так она все спишет.
Дедушка для чего-то помусолил палец, вроде бы собирался отсчитать нам бумажные деньги.
– Молодцы, робятушки, молодцы! А чем отоварить? Есть маленько крупки пшеничной. Поди, стосковались по хлебному? Ай и чего спрашивать-дразнить!
– Дедушка, а пикушки почем? – осмелел Кольша.
– Пикушки... – Яков Иванович о чем-то задумался, и мы снова оробели.
– На пикушки хватит, робята. Дак голоднешеньки же вы. А потом... Потом, чо мать-то, Варвара Филипповна, скажет? Вас и меня отругает. Старый хрен, соблазнил-омманул малолеток. Смотрите, вы добытчики, ваша воля.
– Пикушки! – выдохнули мы с Кольшей, и у дедушки разошлась в улыбке борода.
Он с эханьем махнул рукой на сундук:
– Ладно, робята! Мне тоже тятька в голодный год заместо пряника пикушку в гостинцы привез из города с заработка. Быть может, не запомнил бы я пряник, а пикушку до старости не забываю. Я ить чо их давеча перебирал? Вас растравливал, да? Не-е, детки, самого себя поминал и тятю-покойника. И не был я тогда пустобрюхим, а был самым богатым и сытым. Эдак-то оно, робята...
С пикушками, синими пташками, торопились мы домой от сельповского амбара. Свистульки из тальника, когда соковели лозины под гладкой корой, все ребята ладили хорошо; а Ванька Пестов соловьем-разбойником наяривал на берестинке. А таких, как эти, нет ни у кого в Юровке, и не на что их купить. А у нас есть они, распевучие пташки. Стоит дунуть легко в хвостик, и оживет птаха.
Мама услыхала, как мы затворили за собой избяную дверь, и выглянула из-за печи.
– Чего вам навешал сёдни Яков Иванович?
Переминаясь с ноги на ногу у порога, мы оба молчали с Кольшей.
– Чо не сказываете? Я кого спрашиваю?
– Да вот чо... – промямлил Кольша и разжал кулак.
На ладошке засинела потная пташка.
И у меня забилась в руке, как живая, точно такая же синяя птаха. А если дать деру к бабушке или в коноплище на меже? Отойдет мама, и тогда... а то вон как стемнела лицом и крепко сдавила ухват.
Ладонь у Кольши ходила ходуном, и птаха, казалось, сейчас спорхнет с нее, но не взлетит, а стукнется о половицы.
Мама уронила ухват и отвернулась от нас, а когда поднимала его с пола, почему-то вздрогнули у нее губы и – то ли дым пахнул из печи завытирала глаза запоном.
Мы шмыгнули на полати и зарылись в старую лопотину.
В потемках завернула к нам соседка Антонида Микулаюшкиных. Посудили они с мамой громко об отцах, о войне, о работе и зачем-то перешли на шепот.
– До чего, Тоша, война нас, матерей, довела, – услыхали мы мамин голос. – Совсем в робятах дитенков перестали различать. Давеча чуть не излупила я своих. А за что? Взяли на шкурки у заготовителя по пикушке. Только хотела ухватом хлестнуть, а с глаз-то вроде что-то и спало. Прозрела я, смотрю на них, а ить дитенки оне, совсем дитенки. Одежонка заплата на заплате, руки и ноги в цыпушках. Зверьков-то ить не просто наловить. Господи, думаю, да за что, за что я их бить собралась?! Сено сами косят и на корове возят, до полночи маются в лесу одни, ежели воз развалится. Дрова пилят и себе и чеботарю Василью Кудряшу за обутки. И ягодники, и грузденики они у меня. Ведрами таскают эвон с какой дали! В нужде и горе забываешь и с них, как с ровни, спрашиваешь. А тут глянула, и сердце кровью облилось. Ребятенки, детки еще оне. Ни еды-то не видывали, ни игрушек. Эдак и детства не узнают, останется в памяти работа, голод и нужда.
...Нам было душно и жарко под окуткой, кашель давил дыхание, но мы боялись шевельнуться. Скрипнет полатница, и оборвется мамин шепот.
Ночью сбили мы с себя лопотину и, ненадолго просыпаясь, прижимали к себе синие пташки-пикушки.
КЕДР
Дедушка Егор застал нас с Вовкой Мышонком врасплох. Мы с дружком жадно дорвались до кисло-твердой мелочи крыжовника: нещадно укалывая руки, выискивали пупырчики с белесым пушком в колючей зелени и забыли про осторожность. Вот и не слыхали, когда он отпер воротца в сад и доковылял до кустов с костылем на скрипучей деревяшке вместо левой ноги. Свою ногу Егор Иванович Поспелов, как мне сказывала бабушка, оставил на японской войне.
– Кхе, кхе, – закашлял кто-то над нами.
Нас передернул испуг, и крыжовник впился иголками в наши руки. Вскинули мы с Вовкой головы и поняли: нет, не удрать от деда Егора, пусть он и на деревяшке с костылем.
Егор Иванович спокойно смотрел на нас сверху, а мы на него снизу. Я как бы окоченел на корточках, а Вовка мигом опомнился и сунулся было в куст. Рыжеватый, с маленькими глазками на скуластом лице, он не зря получил прозвище Мышонок. И спрятаться Вовка пытался столь же проворно, как юркая мышь. Да как схоронишься в крыжовнике, ежели руки и те в крови? Ну и дедушка костылем где хочешь достанет...
Вовка наткнулся лицом на колючки, и у него без всхлипа-рева потекли слезы. Еще бы! И перед дедом страшно и больно...
– Стало быть, ягодки кушаем? – доставая из брючного кармана кисет, спросил дедушка Егор. – Крыжовник что, его с ветками не наломаешь, не черемуха, он постоит за себя, покусается. И что вам нападать на него теперя? Ни скуса, ни сытости, кислотье зеленое! А как наспеют ягоды и станут сладкие, во тогда, робятки, милости просим!
Помолчал Егор Иванович, посмотрел на свой домик за прудом, на баню у воды. Все-то у него обсажено черемухой, ветлами и тополями, а в палисаднике из цветков мальвы березки тянутся.
– Сад все одно общественный, всем краем садили. Малину робята по пути из Далматово навозили, в Серебряковой роще под Песками она растет. Всех, сердешных, на войну проводили...
Дедушка вздохнул и ловко, наугад, завернул козью ножку из полоски газеты, сыпнул в нее щепотку самосада и стал кресалом высекать искру из кремня черной гальки на проваренную вату. Вот он густо пыхнул дымом и медленно опустился рядом с нами.
– Чего вы, как зверьки, ужались? – спохватился Егор Иванович. По-людски садитесь-ко подле меня.
Молчком пододвинулись мы с Вовкой к нему и тоже уставились на прудок. Вода чистая, без ряски, не как в прудах на Одине. Сюда по логу Шумихи течет ручей, а собирается он из ключей, и где выбиваются они из глуби, там земля зыбкая и студеная даже в летнюю жару.
– Сад, сад, – снова заговорил дедушка. – Какие тут фрукты-ягоды! Черемуха родится и крыжовник, а смороденник застарел, малинник переродился, и трава его задавила. Огораживаю-то я сад вовсе не от людей, а от скота. Животина завсегда лезет к деревьям. Кажись, какой бы вред от овечек? Не огложут они тополя, однако посыхают тополины с овечьего помета. Робята, – повернулся к нам Егор Иванович. – А что я сад берегу? Трудодни мне колхоз не отмечает за него, их я зарабливаю за починку сбруи, ну и грабли да вилы к сенокосу лажу. Не знаете? Из-за кедра я сад оберегаю.
– Какого кедра?! – осмелели мы с дружком.
– Покажу, покажу!
Дедушка потушил окурок о деревяшку и, ухватившись обеими руками за костыль, трудно поднялся на ноги. И мы следом за ним пошли в тополя.
– Эвот, мой воспитанник! – похлопал дед твердой бугристой ладонью темно-коричневый ствол незнакомого нам дерева.
Раньше мы замечали его, особенно зимой. В школу мимо Егорова сада я три зимы протопал. Только поближе разглядеть хвойное дерево было некогда: и на уроки бы не опоздать, и на бегу греешь ноги в старых ботинках. Видно, что не сосна и не елка. Сосны растут на другом краю Юровки у фермы и в огороде Степана, по прозвищу Рева, а елки на Одине возле дома Настасьи Семифонихиной.
– А как он посажен? – дотронулся Вовка до кедра.
– Как? Семилеткой кедренка привез я из Красноярска. Раны там заживляли мне, япошки-то не токо ноги меня лишили. Подпортили кожу и в иных местах. С тамошним солдатом вместе лежали, он и дал мне на память кедр. Говорил, долго кедр живет, и ежели приживется, то и я буду жить, и дети мои, и деревня наша не переведется. Так я и заветил кедр не только на себя и сыновей Мишу с Иваном, а на всю Юровку. Зарастет-приживется он значит, деревне родной века вековать. А ерманца победим, покуда сынки живы на фронте. Михаил-то вон капитан, а Ваня на море сражается. И деревня тоже жива.
Дедушка долго гладил шершавую кору своего кедра и рассказывал, почему он зовется чудо-дерево. Смола его раны и ожоги затягивает, иголками ревматизм лечат, а орехи и подавно лекарственные.
– Вот и вы, робятки, сберегите кедр. Сам я не могу, а вы осенью залазьте на него. Должны быть шишки. Орешки в них сладкие, не чета крыжовнику. Ладно?
Мы с Вовкой никому не проболтались про кедр, чтоб ненароком не обломали его наши деревенские ребята. Детдомовцы, те не признавали юровских садов. "Ха, нашли сады! – издевались они над нами. – С каких пор ваши тополя и ветлы фрукты стали родить? Может быть, на них калачи вырастают?!" – "А черемуха?" – не сдавались мы. "А пошли вы с ней!" отмахивались детдомовцы, однажды с голодухи испытав вязкое свойство черемуховых ягод. Только в мае, когда она белела живыми сугробами, приезжие ребята с тоской смотрели на нее, поди, вспоминали неведомые для нас яблоневые сады.
...Снег в тот год не выпадал долго на застывшую землю, и нам нечего было делать после уроков. Мы случайно вспомнили про кедр у Вовки дома, а жил дружок недалеко от сада. Эх, прозевали шишки! Кинулись в сад, перемахнули прясло – и к кедру. Холодно, но не лезть же в ботинках! Разулись с Вовкой и, сперва я, а потом и он, забрались до вершины. Сучья у кедра крепкие, не сравнишь с сосновыми, да вот где шишки? Начали обыскивать хвою, и вдруг Вовка аж взвыл от радости:
– Васька, нашел, нашел!
– Шишки? Неужто есть!
Вовка не ошибся: он и верно отыскал три здоровенных шишки. А больше, сколько мы ни искали, шишек не оказалось.
Спустились на землю, обулись и, сговариваться нечего, побежали к дедушке Егору. Он сидел в натопленной малухе-избенке и чинил колхозную сбрую.
– Что случилось? – встревожился Егор Иванович.
– Шишки, дедушка, шишки нашли!
– Шишки? – заволновался дед, хотел вскочить с лавки, но деревяшка была отстегнута и валялась на полу.
Больше нашего радовался Егор Иванович шишкам своего кедра.
– Всем по штуке! – молвил он и все повторял: – Спасибо, спасибо, робятки! Не думал я дожить до шишек, а вот дождался...
Дома я положил шишку в печь, как советовал дед, она подсохла и ощерилась чешуйками. Из-под каждой выглянули бурые орешки. Их мы поровну поделили между собой. Мама ахала и дивилась:
– На-ко, у нас в Юровке орехи растут! Ране-то на базаре и покупали их к праздникам, из Сибири их возили к нам.
А мы с Вовкой загадали: на будущую осень родится много шишек, можно будет сказать ребятам и угостить всех кедровыми орехами.
...Когда в колхозах начали молотить рожь, в Юровке впервые за войну появились грузовые машины.
Одну из них мы приметили на мосту через ручей возле сада. Почему она шла с Одины – непонятно. И нам еще издали стало не по себе. Неспроста она там остановилась.
– Васька! А если машина застряла на мостике, он же худой, по нему и на конях-то никто не ездит, – догадался дружок, и мы побежали под горку к саду.
В саду мы увидали мужика, он со всего плеча рубил топором не тополину, а ...кедр. И не успели мы рта открыть, как кедр зашумел вершиной и грохнулся на прясло.
Нет, нам не верилось, что среди белого дня кто-то может срубить кедр дедушки Егора, один кедр на всю Юровку!
Мы с дружком остолбенело глядели, как мужик быстро отрубил от кедра два коротыша и поволок их к машине на мостке. И был это не какой-то приезжий из города, а зять Никанора Глызенка. Только жил он теперь не в Юровке, а в райцентре. Заехал он на Одину к тестю, видно, со стороны соседней деревни Макарьевки, напировался, поди, досыта – вишь, шатается, еле на ногах стоит, вот и понесло его на худой мостик...
...Эх, скорей к дедушке Егору!..
Дед лежал хворый на лавке под полатями, но враз понял нас и сдернул со стены берданку-крымку, как он ее называл. Втроем и выскочили мы из ограды и заторопились к мостику. Да где там успеть... Машина взревела мотором и сорвалась с мостика на берег, а там и на дорогу.
– Паскуда... – прошептал дедушка, выронил берданку и с подломленным костылем упал на землю.
И нам с Вовкой впервые за всю войну стало страшно за дедушку, за наших отцов на фронте и за всю Юровку.
ЮРА АРТИСТ
Третий день морочит над желтыми лесами с той стороны, где идет война, и Нюрка с Кольшей торопятся сегодня посуху докопать бабушкину картошку. А мы с ней топим баню, что притулилась к пряслу огорода Ивана Яковлевича Юровских.
Сперва натаскали воды из колодца: бабушка на коромысле, а я двумя ведерками. Когда банная посуда – три кадки и бадья для щелока запростана, начинаем носить дрова.
– Васько, ототкни-ко дымоход! – наказывает бабушка и затапливает каменку.
Я лезу на полок и вытаскиваю прокопченную тряпичную затычку в стене над каменкой, куда вытягивает дым из бани.
Сейчас остается следить за жаром и вовремя греть воду раскаленными круглыми гирями. Их бабушка выхватывает из подтопка клюкой и кидает в кадки, оттуда гулко ударяет густой белый пар. Тут только успевай убираться за порог, иначе можно ошпарить лицо.
– Слышь, Лукия Григорьевна! – окликает бабушку из своего огорода сосед Иван Яковлевич. – Обожди, чо я те скажу: опять седни похоронка в сельсовет пришла.
– На кого?! – меняется лицом бабушка и роняет на траву ковшик, которым она вылавливает угли из бадьи со щелоком.
– Не пужайся, соседка, не на твоих сыновей и не на наших деревенских.
– А на кого боле-то?
– Председатель Александр Федорович сказал давеча – Юра Артист погиб. Помнишь, с кином ездил к нам года два?
Дедушка Иван подходит бороздой к бане и тяжело опирается грудью на прясло. Ему не на кого больше ждать похоронные: младший сын, пограничник Дмитрий, погиб в самом начале войны, а старший, тракторист Степан, убит прошлый год под Ленинградом.