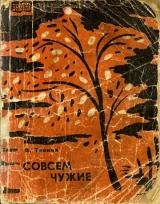
Текст книги "Совсем чужие"
Автор книги: Василий Тонких
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
– Что ты, окстись! – перебив его, замахала она руками.
– Зиму перезимуете, а там видно будет, – не обращая внимания на ее протесты, настойчиво продолжал Григорий. – А то вы одни до весны не дотянете.
– Как же это можно? – уже тише возражала Анастасия Семеновна. – Зачем мы тебе нужны? Ради чего колоду себе на шею вешать?..
– Мне станет покойнее, – откровенно признался ей Григорий. – Игорек не будет меня дергать за сердце.
Анастасия Семеновна в недоумении развела руки.
– Не знаю, не знаю, как и быть…
Пошамкав беззубым ртом, она примирительно сказала:
– Мы у тебя, Гриша, заночуем. Нынче я устала, мыкаться уже сил нет. Целый день в колготе. Да и мальчика не хочется тревожить. Пускай тут спит. А завтра поговорим об этом…
Утром она переехала. Когда на следующий день Григорий возвратился с работы домой, Игорек его поджидал, встретил у порога и восторженно закричал:
– Папа пришел! Папочка мой…
Григорий широко улыбнулся и ласково потрепал светлую головку Игорька.
– Папа мой, папа… – счастливо шептал мальчишка.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Николай, подъехав к почте, выключил моторчик. Прислонив велосипед к стене, он обогнул угол и вошел в пристроенное к почте деревянное помещение, на двери которого была прибита фанерная дощечка с надписью: «Эксплуатационно-технический участок».
В помещении находились два человека: низкорослый с длинным красным лицом техник участка Константин Павлович Фетисов и директор совхоза Макар Потапович Банников. Толстыми руками директор уперся в стол и, склонив круглую бритую голову, читал свое выступление перед микрофоном звукозаписи. Около него лежал на венском стуле светло-коричневый портфель с двумя поблескивающими металлическими замками.
Заметив инженера, Фетисов подошел к нему, поздоровался, не подавая руки (начальству неудобно совать руку, пока оно не протянуло свою, а то может и не заметить, когда бывает не в духе), с напускной уважительностью тихо произнес:
– Наконец-то, Николай Спиридонович, вы и к нам заглянули.
Николай холодно поздоровался и распорядился:
– Продолжайте записывать. Я подожду, – и сел на стул за шатающийся маленький столик, залитый фиолетовыми чернилами. «Видно, выбросили с почты, а они подобрали», – заключил Николай. На столе лежали костяшки домино.
– Мы сейчас хотим с каждого плодородного гектара чернозема получить как можно больше дешевой продукции, – сообщал слушателям свои планы директор совхоза.
Николай, подперев коленом ножку, облокотился на стол, прикрыл глаза рукой. Тягостное мучительное состояние не покидало его ни днем, ни ночью. Он будто выпил яд, но не смертельную дозу, а чуть меньше. И хотя он не умер, в нем парализовано все: мозг, сердце и все члены. Страшная нелепость вырвала его из жизни, как буря выворачивает из земли дерево с корнями. Николай чувствовал, что за последние две недели он сильно сдал. Тенниска на нем болталась, как мешок на палке.
– Нынче год урожайный, – будто из мрачного подземелья слышался ему голос Макара Потаповича. – Хлеба уродились могучие…
И ничего нельзя сделать. Беда захватила врасплох. Она – не чернильное пятно, ее не смоешь. Но жить надо, хотя бы для ребенка. Совсем недавно говорил с ней, целовал ее руки, ласково успокаивал: «Миленькая, не волнуйся, все обойдется. Ты только, пожалуйста, не нервничай, не думай о плохом». А теперь ее нет. На фотокарточке она живая, смеющаяся. А в жизни ее больше никогда не увидишь.
В ушах Николая отдавался далеким эхом голос директора:
– Свеклы мы надеемся получить с гектара более двухсот центнеров. У нас густота не плохая – семьдесят тысяч растений на одном га. Рост корня в настоящее время продолжается. Необходимо районному руководству уже сейчас позаботиться о том, чтобы были заблаговременно созданы дополнительные приемные пункты. Мы хотим вывезти свеклу до наступления ненастья. У нас ни одного килограмма не должно остаться в поле под снегом…
А перед глазами Николая – искаженное болью лицо жены. Искусанные губы шепчут: «Скорее, скорее…» Глаза в слезах, полузакрыты. Он берет ее на руки, выбегает с ней на улицу, кладет в машину. Одна нога разута. По дороге где-то соскочила босоножка. Он бросился в дом. В коридоре нашел обувь и опять выскочил на улицу. Но машина уже уехала.
Николай устало поднял голову: «Вроде закругляется».
Макар Потапович словно на совхозном собрании в подтверждение сказанного взмахивал рукой и кивал головой, отчего у него на красной шее гармошкой собирались и разъезжались складки.
– У нас имеются все возможности, – отрывисто бросал он в микрофон. – Мы скоро получим свеклокомбайн СКД-2. Он лучше комбайна КС-3, более прост в эксплуатации и меньше допускает потерь…
Николай снова уткнул лицо в ладони. И опять перед глазами возникла она. Маленькое посиневшее лицо с застывшим на нем оскалом стиснутых зубов, будто и в гробу ее преследовала неугасимая жуткая боль. Отец, приехавший на похороны, жалкий и растерянный, стоит рядом, опустив по швам руки, приглушенно кашляет, ремень у него на животе подскакивает… Траурная процессия растянулась. Скорбная музыка заунывно разливается по улице. Отец поддерживает его, но сам спотыкается на ровной дороге… Маленькая могилка вырыта возле чугунной ограды. Окружив ее, стоят на желтом песке люди. Последнее прощание. Он поцеловал ее в холодные синие губы и отошел. А через полчаса могильный холмик опустел. Слез не было. Только какая-то жуть ядовитой змеей опутала сердце. А в голове – бездумная легкость I и звенящая пустота. И он понял тогда, что теперь не тот, а другой человек идет с кладбища, а прежний Николай остался там, под опустевшим небольшим холмиком.
– Ты что задумался? – закончив свое выступление, спросил у него подошедший Макар Потапович.
Николай очнулся, встал, поздоровался.
Банников посмотрел на него и удрученно закачал головой:
– Ах, как горе-то тебя садануло. По делам приехал?
– Да, – ответил Николай. – По служебным и по личным. Хочу ребенка своего взять к себе.
– Этого мальчика, который сейчас с Григорием живет? – спросил директор. – Неужели и вправду говорят, что он твой сын?
– Мой, – подтвердил Николай.
Макар Потапович вскинул брови, зацокал от изумления языком.
– Вон оно какое дело, – качал головою директор. – Он же теперь к Григорию привык, трудненько тебе придется с ним.
– Он еще маленький, – возразил Николай. – Привыкнет и ко мне.
– Сложное это дело, – то ли подытоживая разговор, то ли не соглашаясь с Николаем, произнес Макар Потапович. – Бабка-то умерла. Слыхал? Недавно похоронили.
– Знаю.
– Я на машине приехал, могу подвезти до дома, – предложил директор.
– У меня велосипед, доберусь сам, – отказался Николай. – Шестьдесят километров проехал, а тут немножко-то как-нибудь осилю. Да и с техником надо поговорить. А то скажут: домой приезжал, а к нам не зашел.
– Правильно, – поддержал директор. И опять удивился:
– Совсем молодой был, а сейчас ты по виду с отцом сравнялся. Беда шутить не любит. Ну пока, – и пошел вразвалку к выходу.
Техника Фетисова Николай слушал рассеянно. Но суть доклада уловил: к больнице проводку сделали, линию до Никольского еще не отремонтировали, столбов не хватило и людей мало. Иван Чибисов уволился, не захотел лазить по столбам.
По пути к дому Николай думал над тем, куда определить ребенка. С матерью у него отношения испортились с тех пор, как он женился на Марине. Николай ей не писал, а посылал письма на отца. В конце письма он только подписывал: «Передай привет маме». На похороны жены она не приезжала. Вряд ли мать согласится взять на воспитание ребенка.
Но Николай ошибся. Как только мать увидела его, схватила в объятия, зарыдала, причитая:
– Бедняжка, иссох весь… Сыночек родненький, да на кого же ты стал похож…
– Мама, я хочу привести к вам Игорька, – приступил Николай сразу к делу.
– Приводи, приводи, сынок. Разве я тебе могу в чем отказать? Буду ухаживать за внучком, как за тобой.
Николай тут же сел на велосипед и поехал за ним. Игорька он увидел около дома тети Маши. Тот стоял у кучи золы и хворостинкой стучал по ней. После каждого удара поднимался столб пыли и развевался ветром.
– Здравствуй, Игорек! – приветствовал его Николай.
Мальчик склонил набок головку, посмотрел без интереса на незнакомого дядю, равнодушно сказал:
– Здравствуй.
– Хочешь на велосипедике покататься? – с хитростью подступал к нему Николай, боясь, что ребенок может зареветь на все село, если его без доброй воли везти домой.
– А у меня свой есть, только маленький. Мне папа купил, – не соблазнился Игорек.
– Мой с моторчиком, – нажимал Николай на преимущества своего велосипеда.
Но и Игорек умел похвастаться:
– А мне папа к велосипедику звоночек купил.
«Как же к нему подойти?» – задумался Николай.
– Ты что любишь, Игорек? – пустил он пробный камень.
– А у тебя что есть? – пробудилось у мальчишки любопытство.
– Конфеты хочешь?
– Ну давай, – уступчиво произнес Игорек, словно сделал для дяди одолжение.
– У меня с собой нет, поедем купим в магазинчике.
Игорек невесело опустил головку, будто понял, что его обманывают, и снова стал ивовым прутиком взбивать золу.
– А виноградика хочешь покушать? – решил Николай ошеломить мальчишку.
– Он какой, дядь, виноград? – выяснял Игорек, словно хотел убедиться, стоит ли из-за этого оставлять свое интересное занятие.
– Виноградик очень вкусный, – певуче объяснял Николай. – Ягодки на веточке висят. Их много-много.
И это последнее «много-много», вполне понятное Игорьку, покорило его. Он любил, когда его щедро угощали. Вчера тетя Маша нарвала для него в саду алюминиевую миску яблок. Игорек ими наполнил оба кармана и целый день ходил гордый и довольный, похрустывая и время от времени щупая свои карманы. Яблоки были на месте, не потерялись через дырочку в кармане, как то зеленое стеклышко, сквозь которое мир ему казался удивительно красивым и до страха таинственным.
– Поедем в магазинчик, – вкрадчиво подбирался к мальчику Николай.
– Ну поедем, – наконец Игорек дал свое согласие.
Николай быстро посадил Игорька, завел мотор и поехал.
«Домой привезу и надо сразу поехать Григория разыскать, сказать ему, что взял ребенка, а то будет напрасно его искать, беспокоиться», – размышлял в дороге Николай.
Взгляд его вдруг остановился на грязных босых ногах Игорька.
«Выкупаем его с мамой, – развивал дальше он свои планы, – одежонку найдем для него чистенькую. Может, сейчас в магазине удастся что-нибудь купить».
Моторчик ровно тарахтел, велосипед мягко катился по пыльной дороге.
Игорек, сидя на раме, держался ручонками за руль, глядел вперед и при виде на дороге ребятишек сигналил им, подражая гудку отцовской машины:
– Би-би!
Так они доехали до магазина. Велосипед оставили на улице и оба, держась за руки, поднялись по ступенькам и скрылись в приветливых, распахнутых настежь, приземистых с железной обшивкой дверях.
А из магазина вышли с целым ворохом коробочек, свертков и пакетов. Видно, инженер не жалел полученной перед отъездом домой зарплаты. Кладя на багажник покупки, Николай говорил Игорьку:
– Это твои сандалеты, а вот костюмчик… Нарядим тебя барчуком.
Барчук у Игорька ассоциировался с бирюком, и затея вырядить его пришлась ему не по душе. В знак недовольства он тут же повыше подтянул, будто их уже снимали с него, свои штанишки со сборками под коленями и с единственной здоровенной темной пуговицей, на которой было белое пятнышко, как бельмо на сожженном раскаленной окалиной глазу кузнеца совхоза.
– Дай мне виноградик, – попросил Игорек.
– Вот тебе конфеты, держи, – протянул Николай к нему руку с пакетом.
Игорек свои ручонки убрал за спину, кривился, досадливо твердил:
– Виноградик хочу.
– Продали весь. Я тебе из города привезу, – обнадежил его Николай.
– Я сейчас хочу, – упрямился мальчик.
– Ничего не сделаешь. Придется тебе подождать, – сказал ему Николай и, подхватив Игорька под мышки, посадил на велосипед.
Игорек нахмурился, нехотя взялся за руль. По дороге он больше не сигналил, а около дома тети Маши попросил:
– Ссади меня.
Но Николай, не обращая внимания на его просьбу, направился к своему дому.
Игорек заболтал ногами, хотел спрыгнуть на ходу, но испугался, заплакал.
У загородки поджидала сына и внука Татьяна Михайловна. От самого магазина она следила за ними, словно чуяла беду. А она была уже рядом. Едва Николай слез с велосипеда и передал упиравшегося Игорька матери, к их дому стремительно подлетел на машине Григорий.
– Ты зачем ребенка взял? – грозно спросил он, выскочив из кабины.
Николай возмутился тоном Григория. Полуобернувшись, процедил сквозь зубы:
– Ребенок-то мой, – и, высокомерно оглядев Григория, презрительно скривил губы, добавил: – А ты не лезь свиньей в чужой огород.
– Сам ты свинья! – крикнул Григорий и одним ударом сшиб Николая на землю. Вся ненависть прорвалась в его сильном кулаке.
– Банди-и-и-т! – истерически взвизгнула Татьяна Михайловна и, оставив Игорька, бросилась к Григорию.
Николай тяжело поднялся. От нахлынувшей ярости у него дрожали побледневшие губы. Измученный и отощавший за последние дни, он после удара Григория едва держался на ногах. Но с остервенением напал на Григория, видно, готов был или погибнуть или отстоять свои права на ребенка.
Григорий, отшвырнув от себя Николая, под натиском Татьяны Михайловны отступал к дороге. С ней он не хотел связываться. А она больно хлестала его клеенчатым фартуком по лицу. Тогда он отпихнул ее от себя. Татьяна Михайловна заголосила громче прежнего:
– Я тебя в тюрьме сгною!
К месту драки бежали люди.
При виде на лице у Григория крови Игорек задрожал, подлетел к Николаю, ненавистно начал стегать по спине ивовым прутиком, приговаривая: «Ты нехороший, нехороший», – потом свистнул хворостинкой и – жух по уху Татьяне Михайловне.
Та, схватившись рукой за ухо, вырвала у него прутик и толкнула его. Игорек упал. Григорий подбежал к нему, поднял, не оборачиваясь, пошел домой.
Из конторы совхоза выскочил без головного убора плешивый бухгалтер Спиридон Филиппович – отец Николая. Пригнув голову и размахивая тощими, высохшими за канцелярским столом, руками, бежал к дому. На миг задержался возле толпы, затем бросился преследовать Григория.
– Я милицию вызвал. За свое буйство ответишь, – ощерив мелкие острые зубы, шипел он.
Опустив на землю ребенка, Григорий, выкатив налитые кровью глаза, грозно двинулся на Спиридона Филипповича. Но тот, не принимая боя, козлом поскакал к народу, перепрыгивая через глубокие, заросшие травой, старые колеи дороги, пронзительно тонко выкрикивая:
– Помогите! Убивают!
Толпа шарахнулась на середину улицы, покатилась к нему навстречу. И он вместе со всеми побежал вперед. Но Григория на улице уже не было. Толпа остановилась у его дома, растеклась. Кто смотрел в окна, кто стучал в наглухо закрытую дверь.
– Выходи к народу! – смело требовал Спиридон Филиппович. – Иди на суд общественный!
Резко открылась форточка, в нее выглянула всклокоченная голова Григория.
– Идите отсюда! Ваш самосуд я не признаю.
– Ты чего чужого ребенка под замком держишь? – выступила с обличением, словно прокурор, бабка Мирониха. – Зачем он тебе?
Ее поддержал чей-то бас:
– Отдай дите родному отцу, и всему делу конец!
Форточка с шумом захлопнулась. Хозяин не хотел уступать требованиям толпы. И тогда захрустела сухая березка, отжила свой век. Перед домом остался один могучий тополь. Он шумел на ветру, будто возился несправедливостью толпы.
Затрещала входная дверь. Загудели крепкие, озлобленные голоса:
– Открывай дверь! А то весь дом снесем!
Григорий взял на руки Игорька, тихо проскользнул в сени, неслышно открыл заднюю дверь и через двор вышел на огород. Готовый в любую минуту оказать сопротивление, он уходил медленно, собранный и гордый.
А в это время к дому подбежала его соседка – тетя Маша, темноволосая, чернобровая, с молодым здоровым румянцем во всю щеку. Глаза у нее строгие, полны пренебрежения к окружающим:
– Вы что, очумели? – набросилась она на толпу.
– Пускай ребенка отдаст Скворцовым! – с надрывом закричала Мирониха.
– Ты, бабка, иди домой! – зашумела на нее тетя Маша. – Я вижу, чем ты дышишь. Скворцовы тебе по сходной цене вишенку, клубничку-земляничку продают, а ты на рынке ее стаканчиком сбываешь. Вот и подпеваешь им.
Мирониха позеленела от злости. Потрясая изъеденными морщинами желтыми кулаками, загомонила надсадно:
– Я ни у вас, ни у государства ничего не беру, не спрашиваю и не занимаю. Своим горбом живу. Чужих детей тоже не присваиваю. Ты, Самосадка (тетю Машу прозвали Наседкой-Самосадкой за рождение множества детей), про дело гутарь.
– Где тебе, бабка, понять дело? – кольнула ее тетя Маша. – Ты своего сына по судам затаскала. Посылал он тебе деньги, а ты все думала – маловато отчисляет. А суд и того меньше присудил. Ты с жалобами все пороги в области обила. Где же тебе понять отцовское чувство? Ишь, родитель разыскался! Пять лет молчал, а теперь объявился. Родить-то всякий дурак сможет, а ты вырасти дите. Ребенок тянется к Григорию, он и пригрел его. Человеческое сердце не камень. А вы пришли разбивать их. Эх, вы! А ну марш отсюда все! Ты, Матвей Родионыч, брось ломать дверь. Не твоими руками она сделана, – и смело шагнула к нему, схватив за березку, потянула к себе.
Матвей Родионович рывком дернул к себе березку, свалив на колени женщину.
– Миронихин прихлебатель! – бросила ему в лицо тетя Маша. – За стакан самогона приплясываешь перед ней. Люди, чего же вы смотрите?
И вдруг толпа, словно услышав последний сигнал к бою, разделилась на два лагеря. Группа, стоявшая поодаль от дома ради любопытства, примкнула к тете Маше, стеной оттеснила от дома Григория сторонников Миронихи.
Спиридон Филиппович благоразумно отошел в сторону, недоуменно таращил глаза на сплотившуюся вокруг тети Маши группу противников, бессвязно шептал:
– Что творится… Тьма кромешная…
– Иди копеечку считай с огорода, – принялась и за него тетя Маша. – Стыдно тебе, человек-то ты грамотный, а прихотью своей не владеешь. Я вас всех насквозь вижу! – и погрозила пальцем.
– Ты чего тут разбрехалась? – нагло выкрикивала Мирониха. – А ну-ка, мужики, уймите ее!
Матвей Родионович нетерпеливо закрутился на одном месте, словно разгонялся перед выполнением приказа благодетельницы, предвкушая вечером, кроме уже двух полученных авансом, граненый стакан, как он сам называл, коньяку «Три свеклы».
Но страстям не суждено было разгореться. К дому подъехал мотоцикл, разрезав на две стороны сходившихся противников. Милиционер Курлыкин не спеша слез с мотоцикла, который он приобрел после злой шутки теленка Миронихи (транспорт, как ни говори, теперь надежнее), важно спросил:
– Что здесь происходит?
– Хулиган у нас появился, – выдвинулся вперед Спиридон Филиппович. – Избивает всех. Примите, гражданин милиционер, к нему меры. Нельзя же так распускать их.
Курлыкин снял фуражку, носовым платком, счищая пыль, провел по козырьку, стал расспрашивать:
– Он вам нанес побои?
– Да, то есть нет, хотел, но я не позволил. Он моего сына избил до полусмерти…
Кто-то его бесцеремонно перебил:
– Правду рассказывай! – И сразу вмешалось в разговор несколько голосов:
– Оба виноваты!
– Они подрались из-за ребенка!
– У мальчика два отца!
Милиционер поднял руку, строго предупредил:
– Давайте, граждане, по порядку, не все разом.
Выслушав подробный рассказ о происшествии, Курлыкин объявил:
– Это не хулиганство. Здесь мотивы личные.
– Выходит, вы его не накажете? – растерянно обратился к представителю власти Спиридон Филиппович.
– Это дело частного обвинения, – быстро, как давно заученную фразу, проговорил милиционер. – Подавайте в суд. Возможно, что суд оштрафует виновника или применит другие меры. А в отношении ребенка вам следует обратиться в гражданский суд.
Спиридон Филиппович раздраженно заругался:
– Обидят, изобьют, ребенка отберут и – никакой управы. Вот и ищи правды…
– Ты ее сам давно потерял, – возразила тетя Маша.
Спиридон Филиппович шел домой, понуро опустив голову. Мрачные мысли теснили душу. И зачем Николка затеял этот скандал? Опозорились только. А ведь до этого жили тихо, мирно. Связался с этим Гришкой. Раз не отдает добром, и не надо. Пускай воспитывает. Можно и еще родить, не поздно. Что ж из-за этого мальца теперь на дуэли биться? Проживем пока и без внука. Ничего не случится, еще покойнее будет…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Чисто вымытый некрашеный деревянный пол еще не просох. На нем то тут, то там виднелись темные круги. От пола несло сыростью и прохладой. Григорий дышал тяжело, капельки пота проступали у него на лбу. Он вставал, когда суд появлялся в зале судебного заседания и удалялся через маленькую, плотно прикрывавшуюся дверь, в совещательную комнату. Душою овладевала робость, беспокойство. Судьи садились на высокие с гербом кресла, слушали очередное дело о взыскании материального ущерба за падеж скота, алиментов либо о расторжении брака, дружно поднимались, как по команде, и исчезали в боковой двери. И снова повторялся тот же четкий и слаженный ритм. Григория в суд вызвали впервые. Ему казалось, что народный судья обращается к людям так: «Не волнуйтесь, дорогой товарищ. Расскажите нам не торопясь, все что вы хотите, раскройте перед нами всю свою душу и горечь, и, поверьте, мы поймем вас». Но вместо этого он услышал сухие безликие слова: «Слушаем вас, истец», «Встаньте, ответчик», «Это к делу не относится».
Непонятные слова «истец», «ответчик» не воспринимались разумом, холодком ложились на сердце. И хотя суд решил все, по мнению Григория, правильно, он трепетал перед предстоящим разбором его дела. Строгость народного судьи Анны Павловны Дмитриевой, ее проницательный взгляд, устремленный иногда выше голов присутствовавших в зале, словно ему было тесно в душевных границах этих простых людей и он вырывался на широкий простор, преждевременный кивок головы, задолго до того, как допрашиваемый скажет последнее слово, означающий: все мне давно ясно и понятно, – лишали Григория надежды на решение дела в его пользу, сеяли сомнения. «Какой я ему отец? Ну кормил, одевал, воспитывал, и все. Ведь это каждый человек может сделать для ребенка. Выходит, что у него и всякий может быть отцом. А у ребенка должен быть один отец – родитель».
С паническим настроением он ждал своего процесса. А когда объявили слушание иска Скворцова Николая Спиридоновича, Григорий совсем упал духом.
Николай Скворцов говорил перед судом спокойно, уверенный в своей правоте:
– Весной нам дали квартиру, вернее – нам дали ее раньше, но жильцы долго не выезжали. Когда мы вселились, решили взять от бабушки нашего сына Игоря. Но не успели. Жену отвезли в роддом, и там она от тяжелых родов скончалась. После похорон я поехал за ребенком. А Королев Григорий мне сына не отдал, в драку полез. Прошу вас, судьи, отобрать у него моего ребенка и отдать на воспитание мне. Аза драку я его прощаю, потому что сам кое в чем был неправ.
Народный заседатель Сергей Тимофеевич Горбачев, директор книжного магазина, сидевший слева от председательствующего, взял в руки со стола тонкое дело, достал из кармана пиджака очки, надел их на узкий длинный нос, зашелестел страницами и, склонившись, стал читать какой-то документ.
Анна Павловна, посмотрев на маленький столик, за которым сидела белокурая девушка, недавно оформившаяся на работу секретарем судебного заседания, и, убедившись, что та успела записать показания истца, приступила к допросу:
– Почему вы считаете ребенка своим сыном?
Николай Спиридонович удивленно глянул на судью. Вопрос ее он посчитал нелепым и не знал, что сказать.
– Как «почему»? – торопливо спросил он.
– Отвечайте на вопрос, – спокойно потребовала Анна Павловна.
Николай, ища сочувствия, глянул на народных заседателей. Но Сергей Тимофеевич читал дело, а второй заседатель, бухгалтер сберкассы Раиса Степановна Чайкина, скрестив на столе руки, смотрела в зал.
– Так он же мой!
– А чем вы это докажете?
«Ах, вот оно в чем дело, – понял Николай. – Нужны им доказательства». Он приложил руки к груди, со всей убедительностью произнес:
– Об этом все село знает, да и Королев Григорий подтвердит.
«Ишь какой самоуверенный, – скосил Григорий на него глаза. – А вдруг да откажусь, чтобы ты на моем пути никогда больше не стоял. Возьму и заявлю: ребенок от меня, родился при нашей совместной жизни с Мариной, записан на мою фамилию. Никаких серьезных отношений до нашей женитьбы у жены с ним не было. И все. Пусть кто-нибудь опровергнет. Анастасии Семеновны нет, Марины тоже. А больше об этом, кроме меня и тебя, никто теперь толком и не знает. Нет, дела мои не так уж и плохи. Зря расстраивался. Судьи правильно, все по закону делают. Одна беда: язык не повернется сказать неправду», – с грустью подумал он.
– Предположим, что вы его породили…
– Это точно.
Анна Павловна приподняла ладонь, ровным тоном закончила:
– Но это еще не значит, что вы его отец.
«Правильно, правильно, – приободрился Григорий. – Насквозь видят судьи и до тонкости все знают…»
– Я вас не понимаю, – загорячился Николай, – я породил, но не отец. Вы говорите столь парадоксальные вещи, что мне затруднительно давать вам объяснения.
– Позвольте, – снимая очки, спросил Сергей Тимофеевич у председательствующего разрешения. Пощипывая короткие седенькие усы, он резко заметил: – Отец не тот, кто породил, а тот, кто воспитал и вырастил. Вы инженер и должны были давно усвоить эту истину.
«Так, так его, – заулыбался Григорий, – и этот судья не на стороне Николая».
– Я прочитал ваше заявление, – говорил Николаю народный заседатель, – просмотрел все документы в деле, и нигде не указано, что вы воспитывали ребенка, хотя бы один день провели с ним вместе.
– Вот я и хочу его взять, чтобы всю жизнь быть вместе, – высказался Николай громко и напористо.
– Теперь и скажите сами: кто же у ребенка отец? – сказал народный заседатель.
– Я, конечно, – не долго думая, выпалил Николай и оглянулся, ища поддержки у присутствовавших в зале.
Но зал замер. Все, затаив дыхание, слушали, с жадностью ловили каждое слово судей, молча прикидывали: «Кто же настоящий отец? Как решит суд?» Тишина лишь изредка нарушалась приглушенным стеснительным покашливанием.
– Поймите, граждане судьи, мне стыдно перед людьми: ребенка воспитывает чужой человек, а я, отец, в стороне.
И будто в защиту «чужого человека» в зале взметнулся нетерпеливый голос:
– Какой ты сыну отец? Сам ты ему совсем чужой.
– Тихо! – строго потребовала Анна Павловна.
Бледный и растерянный стоял Николай перед судом. Он чувствовал, как у него дрожали пальцы рук. Желая скрыть от суда свое волнение, он одну руку опустил в карман, а пальцами другой ухватился за пуговицу на пиджаке, стал ее закручивать.
– У вас есть вопросы? – негромко спросила председательствующая у Чайкиной.
Раиса Степановна кивнула головой. Ее красивые глаза мягко взглянули на Николая, обласкали его, а певучий голосок вежливо произнес:
– Скажите, пожалуйста, Скворцов, как вы мыслите воспитывать сына? Вы ведь работаете? Кто же за ребенком будет ухаживать?
«Эта, видно, за Николая», – опасливо подумал Григорий.
– Я ребенка отдам пока на воспитание матери. Я с ней говорил. Она согласна.
– Зачем же вы ребенка оставили больной старушке, а не своей матери? – хмурясь, вмешался Сергей Тимофеевич.
– Так хотела жена, – заявил Николай. – А потом моя мама в то время могла и не согласиться. Она была против моего брака.
Горбачев кивнул головой и подумал: «В этой семье ребенок не нашел бы теплоты и ласки».
– Ответчик Королев! – позвала Анна Павловна.
Григорий, криво усмехаясь, подошел к судейскому столу.
– Какой я вам ответчик? – резко проговорил он. – Приклеиваете тут ярлыки непутевого человека ни за что и ни про что, – осмелев вдруг от явно, на его взгляд, незаслуженного оскорбления, упрекнул он суд.
– Такая у нас форма обращения, – зашептала ему молоденькая секретарша. – Говорите по существу.
– А что говорить? – грубовато начал Григорий. – Живем с Игорьком дружно. По документам я ему отец, стало быть, и должен к нему по-отцовски относиться.
На улице послышались частые резкие гудки.
Неожиданно Григорий от стола шагнул к окну, загорелым кулаком легко стукнул по створкам и выглянул наружу.
– Перестань сигналить! – крикнул он.
– Вы с кем там разговариваете? – развеселившись от необычного поведения ответчика, заинтересовалась председательствующая.
– С сыном, – возвратившись на свое место, пояснил Григорий. – Прошу извинить меня, боюсь, аккумулятор посадит.
– Вы его с собой в рейс берете? – совсем просто спросила Анна Павловна, как будто она из судьи превратилась в собеседника.
Это Григория расположило. Он теперь совсем уверился, что суд не отберет у него ребенка и откажет Николаю в его претензиях. Игорька в дальние рейсы он никогда не брал, иногда только катал по совхозу, когда работал в селе. Но сейчас он взял с собой Игорька на случай, если судьи захотели бы поглядеть ребенка. Он его одел по-праздничному. На Игорьке была совсем новая темно-синяя шерстяная матроска, гольфы и белые ботинки. Пусть судьи дивятся, какой ребенок при нем справный и приглядный. Не желая выдавать своего замысла, Григорий ответил:
– Беру иногда.
– А у вас какой сегодня маршрут? – задал ему вопрос Сергей Тимофеевич.
– После суда поеду на нефтебазу, потом по бригадам. Работенки сегодня у меня хоть отбавляй.
Потемнело лицо у Сергея Тимофеевича. Он крякнул, неодобрительно потряс головой, затеребил пальцами по столу. И сразу заметил Григорий, что промазал, не то сказал судьям. Желая поправить пошатнувшуюся позицию, он поспешно прибавил:
– А чаще оставляю его у соседки – тети Маши. Она баба…
– Женщина, – поправила его Анна Павловна.
– Она баба, то есть женщина, шумливая, может, конечно, и всыпать, но всегда накормит и присмотрит.
Анна Павловна слушала ответчика охотно. Ей нравилась простоватая, но человечная его речь, открытая душа. И ей жаль было Григория, когда она задумывалась над тем, что у него не созданы нормальные условия для ребенка. Трудно ему, холостяку, растить и воспитывать Игорька. Да и ребенку тяжело с таким отцом. Он ведь целый день на работе.
Григорий робко поднял глаза на судей. Прямо в упор на него глядели ласковые-ласковые, совсем бесхитростные глазки Раисы Степановны.
«И на меня так же смотрит, – с удивлением отметил про себя Григорий. – Видно, у нее подход такой к людям, чтобы располагать к себе и выведывать тайные мысли».
Тот же певучий приятный голосок спросил у него:
– А почему вы не хотите отдавать ребенка?
Григорий кольнул ее прищуренными острыми глазами и переступил с ноги на ногу, опасаясь подвоха народного заседателя. А его, собственно, и не было. Раиса Степановна бездетна. Ни ее муж, ни она сама не скучали без детей, не понимали родительской озабоченности, самопожертвования их, когда дети болели, отцовской и материнской хлопотливости перед отправкой ребят в школу. Она, конечно, любила своего племянника Славу, сына сестры. Не забывала преподносить ему в праздники и в день рождения подарки, брала к себе домой, когда сестра уезжала в отпуск. И за это время он успевал ей надоесть. Все родственники знали, что она любила Славу. Да мало кто из них догадывался, что любовь-то эта была ласково-обходительная, вызванная долгом и приличием. Без этой любви Раиса Степановна вполне могла жить и не худеть. И непонятно ей было, почему мужчина вцепился в чужого ребенка, вступил за него в битву.








