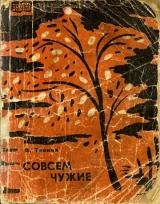
Текст книги "Совсем чужие"
Автор книги: Василий Тонких
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
ГЛАВА ВТОРАЯ
Григорий вечером пришел в клуб. В фойе под баян танцевала молодежь. Ребят мало. Девушки танцевали без них: побойчее – за кавалера, посмирнее – за даму, а остальные сидели возле стены, одна другой лучше. Подходи, выбирай любую.
Григорий пригласил Нину Бочарову на вальс. Он в последнее время подружился с ней.
У Нины родной отец погиб на фронте. Жила она с матерью – Дарьей Ивановной – женщиной рослой веселой и с отчимом – Кондратом Поликарповичем – тщедушным ворчливым мужичонкой. Кондрат Поликарпович в доме жены хотел установить свои порядки. Но беспрекословного повиновения женщин не добился, сам оказался под их влиянием. Особенно он опасался острой на язык Нины.
– Щи-то есть нельзя, кислые, – придирался к жене Кондрат Поликарпович.
– Нина варила, – спокойно отвечала Дарья Ивановна.
И сразу прекращалось ворчание. Кондрат Поликарпович смирялся:
– Ну, может, объедятся…
Встретив Нину на птицеферме, Григорий обменивается с ней шутками:
– Отец здоров?
Поняв, что он здоровье отчима ставил в зависимость от их женского засилья, Нина звонким голосом парировала:
– Отец-то здоров, а вот ты, холостяк непутевый, свихнулся.
В разговор вмешивался кладовщик Никита Степанович Востриков:
– Не цепляйся к Грише. Давай со мной любовь закрутим, осечки не будет.
Нина удивленно вскидывала брови, легонько его осаживала:
– Да у тебя и сил-то мужских нету, ты ведь на одной каше, наверное, сидишь, рот-то беззубый. Жена и то скоро убежит.
Востриков добродушно ухмылялся:
– Теперь не убежит: смирный я стал, грызться нечем.
Баян то звонко заливался, то раскатисто басил. Пары кружились друг за другом.
Нина, полузакрыв глаза, плыла по кругу умиротворенно. Лицо у нее довольное. На розовых губах – благодарная улыбка. Пышная коса развевалась, привлекала взгляды женихов, бередила их сердца.
Григорий танцевал рассеянно, часто сбивался с ритма. Глаза его внимательно искали милое лицо. Но оно не появлялось.
Кинокартину привезли, но радость посетителей клуба омрачилась: киномеханик Федор Колотушкин нетвердо держался на ногах, и его начальство отстранило.
– Эх, Николай, уехал, – вздыхали девушки. – Он бы прокрутил.
В будку пошел баянист Васька Попов, приятель Колотушкина, успевший за время дружбы с киномехаником постичь и его буйную натуру и его просветительную технику.
Перед самым началом кинокартины Григорий увидел забившуюся в угол Марину. Когда погас свет, он около стены стал пробираться к задним рядам. Сесть негде было. И Григорий простоял до конца фильма, часто отрываясь от экрана и в темноте разыскивая Марину.
При выходе из клуба он пристроился к ней, пошел рядом. Оба молчали. Григорию хотелось многое сказать ей, но холодная сдержанность девушки останавливала его.
Земля еще не просохла. Марина скользила по тропинке, съезжала в лужи.
– Возьми меня под руку, – попросила она Григория. Он поспешно подошел, схватил под локоток и, шагая сбоку, повел ее по сухому месту.
– Понравилась тебе картина? – наконец решился заговорить Григорий.
– Обманывают дураков, – раздраженно отозвалась она. – В жизни так не бывает. Ты заметил, что в кино любовь – лучше и не придумаешь.
– И в жизни и в кино раз на раз не сходится, – возразил он. – Помнишь стариков Демьяновых? Вот тебе и жизнь.
– Правда, – вдруг поразилась она и посветлела. – Я их встречала. Иду как-то с поля и слышу пение. Голоса негромкие, приятные такие. Не пойму, откуда быть тут певцам. Я замерла как вкопанная, вслушиваюсь. Подхожу к посадкам, вижу, сидит дед Яков со своей бабкой Марфой. Разулись, отдыхают в тени возле дороги и поют. Я присела около них. И каждый, кто проходил мимо, останавливался. Долго они пели, да так здорово, слаженно.
Из района тогда шли, пенсию деду хлопотали. Всегда были вместе, один без другого никуда. Но таких дружных редко встретишь, – с сожалением заключила она. И, жадно вздохнув, обронила: – А как бы хотелось по-демьяновски пожить… У них вся жизнь, словно их песня, – веселая и ладная.
Они подошли к школе, где в двух небольших комнатках жила Марина со своей матерью, Анастасией Семеновной, работавшей уборщицей. Григорий открыл калитку, пропустил Марину вперед. В палисаднике они сели на скамейку.
Ночной ветерок обдавал холодом и сыростью. Стойкое жаркое лето сдавалось, отступало перед осенью. Марина плотнее закуталась в плащ, прижалась к Григорию. На чистом небе перемигивались лучистые звезды. Неожиданно глухую тишину потревожил голосистый баян. Васька Попов, закрыв будку, шел домой, наигрывая. Временами баян внезапно замолкал: Васька Попов оступался, ругаясь, вылезал из лужи.
Марина тихонько запела. Тоскливый голос ее лился перекатным тихим ручейком:
Замела метель дороги,
Скрылся тонкий санный след…
Стынут руки, стынут ноги,
А его все нет и нет.
И часто мигают ее веки, застилаются слезами глаза. Их не видит Григорий, но чувствует, понимает ее. Он знает ее с детства.
В памяти вспыхнула живая картина. Он лежит на траве под тенью, возле грейдерной дороги, с обеих сторон заросшей высокими густыми вязами. Возле него трещотка, которую он время от времени крутит, пугает резким звуком воробьев, налетавших разбойничьей стаей на колхозную пшеницу (тогда еще не было совхоза). Зашелестели кусты, и появился Николай. Они вместе учились в семилетней школе, в то время закончили шесть классов. Николай пришел к нему покрутить трещотку. Григорий старше Николая только на два года, а выглядел намного взрослее и крепче физически. Заласканный и чистенький сынок учительницы тогда заискивал перед Григорием. Он принес ему целую фуражку анисовок. Пока Григорий их ел, Николай, взяв трещотку, незаметно отошел в сторону. Выглянув из-за деревьев на дорогу, Николай заметил всадника и притаился в кустах. Как только верховой поравнялся с ним, он обеими руками завертел трещоткой. Лошадь поднялась на дыбы, бросилась к противоположной стороне посадок, дико всхрапывая, забилась в кустах вяза. Седок едва удержался в седле. Он выкрикивал ругательства и угрозы. Николай побледнел, боясь взбучки, на четвереньках пополз в пшеницу прятаться. На шум прибежали Васька Попов, Володя Усачев и Марина. Они шли по грейдеру с реки после купания. Всадник, успокоив лошадь, стал у них выведывать:
– Кто это хулиганил?
– Гришка, – вполне определенно заявил Володя.
Марина стойко возражала:
– Как тебе не стыдно, Усач! Гриша не мог этого сделать!
– Сказа-а-ла, – издевательски протянул Володя. – «Не мог». А кто же тогда? Ведь он пшеницу охраняет.
Григорий пролез через кусты, вышел на дорогу.
– Я трещотку не крутил.
Всадник перемахнул ногу, слез с лошади, подошел нему, потребовал строго:
– А скажи кто?
Григорию не хотелось выдавать товарища, и он замялся.
Тогда незнакомец недобро усмехнулся, схватил его за ухо, пригнул к земле, приговаривая:
– Я тебе покажу, паршивец, как безобразничать!
Потом заставил его принести трещотку. Когда Григорий ее разыскал и возвратился, мужчина сидел уже на лошади, закручивал рыжие усы.
– Дай сюда! – скомандовал он.
Григорий подал ему трещотку.
Всадник, то ли хотел ударить его, то ли попугать, взмахнул трещоткой, и она, закрутившись на своей оси, неожиданно для него самого огласила окрестность неприятным дребезжащим звуком: «Тр-р-р-р-р!..»
Лошадь будто взбесилась: встала на задние ноги, пригнула на кусты, затем с пеной на губах, выкатив остекленевшие испуганные глаза, боком понесла всадника, сама не зная куда. Так он и ускакал с этой бедовой трещоткой.
Григорий пробрался через кусты к пшенице, лег на землю и от обиды заплакал. На дороге Марина ругалась с ребятами. Но вскоре и они затихли. И тогда осторожно вылез из пшеницы Николай.
Марина нашла Григория, присела на корточки, начала успокаивать. И хотя он всхлипывал, лежа вниз лицом, слушал ее охотно, отрадно. Ему было приятно, когда Марина защищала его, сочувствовала ему.
А через год он неожиданно раскрылся перед ней.
«Я тебя люблю», – как-то после занятий, оставшись в школе один, Григорий написал мелом на доске.
Марина тогда подглядывала за ним. Просунувшись в открытое окно, она оперлась локтями на подоконник, наблюдала скрытно, а затем, прочитав его признание, не выдержала, пристала с расспросами:
– Ты про кого написал? Скажи, скажи мне.
Григорий смутился, быстро стер написанное с доски и убежал.
– О чем ты думаешь, Гриша? – закончив песню, спросила она.
Григорий от неожиданности вздрогнул.
– Да вот вспомнил, как Николай меня с трещоткой подвел.
– Брось, не говори о нем.
«А может, она и не любила его, а просто так немножко увлеклась?» – с надеждой подумал он.
– А помнишь, как ты меня обидел? – неожиданно повеселевшим голосом спросила у него Марина.
– Когда я тебя обижал? Что ты! – встрепенулся Григорий.
– Ты прибежал к нам за чем-то, кажется за пилой. Я с тобой вышла в сени, и там ты мне сунул в руку записку. В комнате я ее прочитала и заплакала. Ты писал, что меня любишь и целуешь в губы. Я так разревелась, что мама даже испугалась. Мне понравилось твое признание, но зачем же целовать в губы? Разве нельзя любить без поцелуев? За это слово я на тебя сильно обозлилась. Девчонка еще была глупенькая… – И равнодушным голосом спросила: – Ты не замерз еще? В одном костюме сидишь.
И замолкла, забылась, будто была не с парнем, а совсем одна, как там, на берегу реки.
– А ты не забыла, как мы с тобой в лесу сено сгребали? – напомнил ей Григорий о первом поцелуе.
Но она молчала, думая о чем-то своем.
Много было встреч. Григорий-то их помнит. Он ничего не забыл, особенно последнюю встречу.
Дорога опоясала пригорок. Марина, съезжая под уклон на велосипеде, пригнулась, затормозила. И вдруг запрыгала на неровной дороге, ноги сорвались у нее с педалей, и велосипед понес ее вниз. На лугу она налетела на муравьиную кочку и упала на колючий татарник. Когда он подбежал, Марина лежала с закрытыми глазами, недвижимая. У него ледяной холодок пополз по спине. Но вот у нее открылся сначала один смеющийся глаз, затем другой, заалевшие губы улыбнулись.
Потом они поехали по опушке леса. Тропинка вилась среди сосен. Ее часто по пути перехватывали, словно жгуты, оголенные упругие корни деревьев. Под Мариной седельце сжималось, поскрипывало.
– Пригинайся! – временами кричала она.
Иногда ее сигнал подавался с опозданием и тогда Григория больно стегали по лицу ветки. Он беззлобно ругался, а она смеялась.
Проскочив березовую рощу, они выехали к реке. Купаясь, Марина озорничала, плескалась на него водой. И радостно ему было от ее шалостей и совсем родными казались ее поблескивающие задорным огоньком глаза, прилипшие к шее мокрые волосы. Он был уверен, что она довольна сегодняшней прогулкой, купанием, и ей, так же как и ему, не хотелось уезжать от реки, из этого тихого уголка леса.
После ужина они пошли в клуб. Не знал Григорий тогда, что приезд Николая отнимет у него любимую…
– Гриша, – вдруг оживилась Марина, – я сейчас загадала: если увижу горящую звездочку, то ты до нового года женишься…
– Тоже сгорю? – засмеялся Григорий.
– Так вот она только сейчас скатилась по небосводу.
– А на ком же я женюсь? Ты не загадала?
– Ну хотя бы на Нине. Она же в тебе души не чает.
– Смеешься ты, что ли? – И, повернувшись к ней, Григорий еле слышно добавил: – Ты ведь сама знаешь, что этого не случится.
«Конечно, по любви надо жениться, – поддержала она в душе Григория. – Правда, не все с этим считаются. Вон Петька Миронов, говорят, женился на Тоне из-за богатства. Дом у нее громадный, с роскошным садом. Когда она работала буфетчицей, его деньгами снабжала, кормила и поила. А он пришел из армии – ни кола ни двора. А взять Полякову Шурку? Выскочила за лысого агронома, старше себя на пятнадцать лет. Скрывать нечего, он с образованием, вежливый. Но слух был, что он в стакан зубы на ночь кладет, вставные они у него. Живут, не расходятся. А мне тогда все уши прожужжала: „Я его боюсь, страшный он“. Привыкла, должно быть. И ведь никто ее не принуждал, по своей доброй воле пошла. Не всем, видно, на роду демьяновская любовь прописана…»
Она горько усмехнулась. Через минуту, положив Григорию на плечо руку, хрипло спросила:
– А ты, Гриша, мог бы жениться на девушке с приданым?
Григорий насторожился:
– Ты о чем?
– Какой же ты недогадливый, – зашептала она. – Ну как тебе сказать… В общем, ты в скором времени стал бы отцом.
Предчувствие какой-то недоброй игры смутным страхом защемило сердце. Преодолевая возникшее подозрение, он простодушно промолвил:
– Так я об этом и мечтаю.
– Да нет, – возразила Марина. – Не фактически папой, а формально…
– А-а-а, – протянул Григорий, чувствуя, как кровь бросилась в голову, зашумела в ушах.
Марина сощурила глаза, пристально уставилась на него, с пренебрежением протянула:
– Вот ты оказывается какой. А я-то думала…
Она встала, быстро прошла к дому, поднялась по ступенькам крыльца и, открыв дверь, полуобернулась, небрежно бросила растерявшемуся Григорию:
– А ведь я, между прочим, пошутила, просто испытать тебя хотела: настоящая у тебя любовь или нет. Сильная любовь ни с чем не считается. А ты вон как расстроился.
– Марина! – встав, крикнул Григорий. – Обожди!
Но дверь закрылась, изнутри глухо стукнул засов.
– Вот черт какая, – с досадой проговорил Григорий.
Достав спички, он прижег папироску, раскурил и, зябко поеживаясь, пошел домой.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
За селом угасала розовая пелена заката. Звонко щелкая кнутом, пастух гнал по улице стадо коров.
Распахнув дверь, Григорий шагнул в коридор, взял ведро с водой, эмалированную кружку, мыльницу с мылом и вышел на улицу. Раздевшись до пояса, он вымылся, растер докрасна озябшее тело и, одевшись, сел на табурет у тополя – единственного дерева, росшего перед домом.
– Здравствуй, Гриша! – приветствовала его мимо проходившая Анастасия Семеновна, мать Марины.
– Здравствуйте! – ответил Григорий.
Анастасия Семеновна остановилась у загородки, поставила сумку на землю, глубоко вздохнув, заговорила:
– Устаю быстро, а магазин далеко. Кто его придумал на краю села – уму непостижимо. А ты, сосед, что же к нам не заходишь?
– Плохо встречаете, – шутливо ответил Григорий.
Анастасия Семеновна вытерла платком маленькое морщинистое лицо, скупо улыбнулась бескровными губами.
– Грех тебе на меня обижаться.
– Я не про вас сказал, а про вашу дочь.
Анастасия Семеновна оперлась на загородку, поманила к себе Григория рукой и, когда он подошел, склонилась к нему, с тревогой в голосе спросила:
– Ты вчера вечером с Мариной был около нас?
– Ну я, – признался Григорий. – А что?
– Чтой-та Марина ночью плакала. Ты ее ничем не обидел?
– Что вы! – удивился Григорий. – Это она надо мной все смеется, шуточками забавляется. В конце концов могу и я…
Анастасия Семеновна замахала руками, перебила его:
– Что ты говоришь? Подумай. Неужели тебе ее не жалко? Сколько она уже бедная настрадалась из-за этого… – но осеклась, вовремя спохватилась: неудобно об этом рассказывать Григорию. Однако, перескочив через опасный рубеж, мысль ее не оборвалась, потекла своим ходом. – Слава богу, что уехал. Я на него глядеть не могла. Как-то пришла в клуб и гляжу: все люди как люди, а он мечется по залу, как угорелый. То с одной покружится, то другую подцепит. А они, пустоголовые, рады-радешеньки. А что в нем толку? Может, он к наукам способный, – продолжала она сокрушать ненавистного ей Николая, – а к нашей жизни непутевый. Уедет в город, там не понравится – опять куда-нибудь сиганет. Характер у него непостоянный.
Григорий знал, чего она опасалась. Подвернется дочери какой-нибудь верхоглядный муженек и увезет ее из обжитого родного уголка в незнакомое место. Она, конечно, туда не поедет. Нечего ей на старости лет трясти своими костями. И останется доживать последние дни в тоске и одиночестве. И дочери больше не увидит, и внука не понянчит.
– Я его, чертилу окаянного, еще с самого детства невзлюбила, – копнула поглубже Анастасия Семеновна. – Забыла уж, в какой год снегом занесло всю деревню. Школа выше всех домов, и к ней до самой крыши тянулся от дороги сугроб. Ребята с утра и до самого вечера катались на санках на этом сугробе. А он что ж отчебучил. Влез на крышу с Васькой Поповым и напихал мне полную трубу снега. Я как затопила печь, дым клубами повалил в комнату. Ох-хо-хох, думаю, страсть какая. Мариночка от дыма кашляет, плачет. Вот я тогда и прибежала к вам за помощью. У тебя отец еще был живой. Ты трубу шестом пробивал. Выпачкал сажей пальто свое новое и заплакал. Я тебя уговаривала-уговаривала, никак не уйму. Ты как бес глаза вылупил, сжал кулаки и побежал их искать. Вроде ты им тогда подсыпал?
– Одному Ваське Попову, – уточнил Григорий. – Николай-то домой удрал и матери пожаловался. А она утром пришла в школу и стала меня допрашивать: «Какое ты имеешь право ребят избивать? Если они поозорничали, ты должен сообщить об этом учителям и родителям, а не лезть со своими кулаками. Чтобы я больше, – говорит, – не слышала о твоих хулиганских проделках». И вроде я стал виновником, – закончил Григорий и покраснел.
Не любил он судачить по-бабьи о людях, тем более про Николая, своего соперника. Ему казалось, что в таких случаях надо лестно отзываться, чтобы никто не подумал, будто он человека осуждает по злобе.
– Может, вы посидите? Заходите, Анастасия Семеновна, – пригласил Григорий.
Но соседка отказалась:
– Домой сейчас пойду, ужин надо готовить.
Глаза у нее слезились от ветра, на побелевшей от времени темной жакетке чернели на локтях свежие заплаты. Но туфли на ней были современные: на тонкой подошве и с острыми носами. Видно, попали они к ней с ног дочери.
– Придет поздно, – рассказывала Григорию она, – начну ее точить, а ей хоть бы что. Никак к моим словам не прислушивалась. А чуяло мое сердце, что ничего хорошего из их гулянок не получится.
Об этом Григорий уже слышал от нее. Она приходила к нему вечерами, жаловалась на дочь. С перового взгляда могло создаться впечатление, что она оправдывалась перед ним. Григорий помогал им в хозяйстве: подвозил топку на зиму, заготовлял сено, ремонтировал квартиру. В свою очередь, Анастасия Семеновна убирала у него в доме, носила ему молоко к завтраку, смотрела за его огородом. Вообще он считался в их семье своим человеком. В совхозе его называли женихом Марины. Но стоило сделать ей шаг в сторону, и все изменилось. Семейные связи соседей оборвались. Григорий перестал бывать у них в доме. Людская, молва разжаловала его из почетного жениха в неудачного холостяка. Не желая примиряться с мыслью, что она теперь лишилась надежного зятя, за которым можно было бы ей со, слабым здоровьем жить спокойно, как за каменной стеной, Анастасия Семеновна нападала на дочь каждый день, повелительным голосом гипнотизера выкрикивала:
– Ложись спать! Никуда не ходи!
Но дочь не смыкала век, широко раскрывала глаза, глядела на мать с, изумлением и непокорным упрямством. Она была уже заворожена другим. И когда дочь уходила, Анастасия Семеновна шла к Григорию. Удобно или неудобно было ей к нему обращаться – она об этом не думала. Некому, кроме него, изливать ей свою душу, не у кого искать сочувствия. Заговорщически шептала она ему целый вечер о своем желании сломить характер строптивой дочери. Не оправдывалась она перед Григорием, а искала в нем верного союзника. Но он не подавал никаких надежд на тайный сговор. Тогда она поднималась, трясла седой головой, с укором говорила:
– Ох, Гриша, уж больно ты смирный. Вся шоферня бойкая, а ты какой-то чудной. Мухи не обидишь. Тебя и цыпленок залягает. Куда тебе отвадить от нашего дома Кольку!
И, шаркая ногами, исчезала за дверью.
– Сейчас только начинает прислушиваться к моим словам, – заканчивала свой рассказ Анастасия Семеновна. – Теперь вроде поумнела. Но, может, уже и поздно, – и вопросительно уставилась на Григория.
Ей хотелось узнать, как он сейчас относится к Марине. Не махнул ли он на нее рукой? Ведь за такого парня любая выйдет.
Но он, потупив взор, молчал.
И тогда Анастасия Семеновна взяла в руки сумку.
– Помог бы, – попросила она просто, по-соседски.
Подойдя к школе, Григорий передал ей сумку и хотел уйти. Но Анастасия Семеновна запротестовала, пригласила на ужин.
– Хитрая вы, Анастасия Семеновна, – раскрыл он ее. – Ведь я чуял, чем все это кончится.
– А как же иначе, – нисколько не смутившись, созналась она. Лукаво улыбаясь, прибавила: – Нынче человеку без хитрости, как слепому без посоха…
На кухне Марина жарила яичницу. Анастасия Семеновна, посадив Григория за стол, достала из комода белую чистую скатерть.
«Ого, – удивился Григорий, – как для дорогого гостя». Не понравилась ему такая забота хозяйки. И вообще она слишком вмешивается, не в свои дела. До каждой сокровенной мелочи хочет докопаться. Конечно, дочь у нее одна. Все мысли о ней. От дочери зависит и ее судьба. Одно цепляется за другое. Но все-таки она слишком дотошная.








