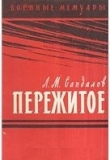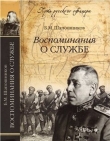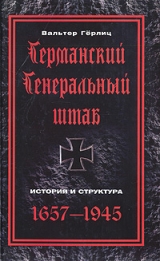
Текст книги "Германский Генеральный штаб. История и структура. 1657-1945"
Автор книги: Вальтер Гёрлиц
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Следовало более, чем когда-либо, сосредоточить внимание на подводной войне, и адмиралтейство стремилось заручиться в этом вопросе поддержкой Фалькенхайна. К сожалению, Фалькенхайн не мог правильно оценить свои возможности. Похоже, он не понимал, как низки его шансы на успех и какие возможности давала подводная война, которая могла бы втянуть в противостояние США.
Подводная война была, конечно, тесно связана с проблемой промышленного производства, что, в свою очередь, поднимало не менее сложные социальные вопросы. На протяжении десятков лет не складывались отношения между рабочим классом и офицерским корпусом, но в первые месяцы войны Генеральный штаб столкнулся с невероятным энтузиазмом тех, к кому до недавнего времени испытывал отвращение и недоверие.
В довершение ко всем трудностям наступила эпоха так называемого «военного социализма». Военное министерство и Генеральный штаб были вынуждены вмешиваться в процесс производства пищевых продуктов и вооружения. «Военный социализм» мог дать результаты только в случае существенного изменения традиционной экономики и удовлетворения требований рабочих в части повышения жизненного уровня. Таким образом, Фалькенхайн должен был сыграть роль Шарнхорста или Гнейзенау; полная нелепость для людей вроде Фалькенхайна. Так что ничего удивительного, что в этом вопросе Генеральный штаб потерпел фиаско.
Как бы то ни было, но в 1915 году резко возросло влияние Генерального штаба. Под давлением канцлера Фалькенхайн согласился на разделение офицеров военного министерства и Генерального штаба. Это не означало, что Генеральный штаб откажется от обретенного влияния, поскольку новым главой министерства был не кто иной, как генерал фон Гогенборн. В Верховном командовании не были представлены люди, имевшие реальную значимость, такие, как начальник имперского штаба, главы имперского военного, морского и гражданского кабинетов и даже начальник Генерального штаба. Власть принадлежала таким незначительным фигурам, как начальник оперативного отдела Таппен, полковник Бауэр, начальник отдела, связанного с техническими вопросами артиллерии, полковник Николаи, преемник Хенча на посту начальника разведывательного отдела. Самое главное, что начальники штабов различных воинских подразделений, Сект, Куль, Лоссберг, Хейс и Рейнхардт, благодаря интеллекту которых было проведено много блестящих боев местного значения, приобретали больший вес, чем командующие армиями. Началась эпоха правления Генерального штаба.
Время от времени возникала идея уступить место для ведения войны начальникам штабов нового поколения, при этом Фалькенхайма сделать канцлером, Людендорфа начальником Генерального штаба, а Секта генерал-квартирмейстером. Однако этому проекту было не суждено претвориться в жизнь, поскольку он затрагивал чувство собственного достоинства части офицеров. В этом отношении весьма типична позиция, которую занимал Сект, будучи начальником штаба у Макензена. Он не выносил, когда его сравнивали с Гнейзенау. Я, заявлял Сект, уникален. Эта самонадеянность и расчетливая холодность были абсолютно чужды традиции обезличенности, которую поддерживали офицеры Генерального штаба. По сути, это было нарушением традиций.
XII
В этом отношении интересны политические взгляды Секта, поскольку он был самым способным из своего поколения штабных офицеров. Для прусского офицера и юнкера у него были невероятно широкие интересы. Он объездил мир, побывав во время отпуска в мирное время в Испании, Англии, Франции, Северной Африке и Индии.
Как и большинство штабных офицеров, он был противником парламентаризма и либерализма, причем столь ярым, что, по его мнению, Гронер, начальник железнодорожного отдела, был южногерманским демократом. Демократия рассматривала личность в целом, в то время как Пруссия только с точки зрения выполнения долга и служения государству. Именно поэтому в то время Сект не испытывал интереса к пробуждающейся потенциальной мощи народа и стремился сдержать его с помощью власти «сильного человека», диктатора. Вероятно, свою роль в этом сыграли воспоминания об эпохе Бисмарка, поскольку он считал, что именно таким человеком и должен быть канцлер (об императоре и речи не шло). Он, похоже, не понимал, что подобная диктатура уничтожит монархию.
Огромный интерес вызывает отношение Секта к внешней политике. Он не верил, что соперничество между западными державами, послужившее причиной мирового пожара 1914 года, будет разрешено только с помощью оружия. Современная война, по мнению Секта, приведет к временному истощению воюющих государств. Затем последует период экономической борьбы. И только после этого произойдет решающее вооруженное столкновение. Следовательно, Германия должна готовиться к следующей войне и выделить тех, с кем ей наиболее выгодно бороться. Это вовсе не означает политику аннексионных притязаний, выдвинутую пангерманцами. Скорее это должна быть система альянсов между Атлантическим побережьем и Ближним Востоком, лига государств, куда бы входили Голландия, Бельгия, Швеция, Дания, Норвегия, Австро-Венгрия, Румыния, Болгария, Греция и Турция. Что касается России, то он надеялся достигнуть взаимопонимания, направив панславянские амбиции в сторону Азии, и прежде всего Британской Индии. Япония, как считал Сект, должна контролировать Восточную Азию.
Вот так рассуждал Сект. Но это было его личное мнение, а уж никак не мнение Генерального штаба. Правда, в то время подобные идеи витали в воздухе. К примеру, в 1916 году вышла работа (без указания имени автора) под названием «Следующая война», в которой делался упор на необходимость экономической подготовки ко Второй мировой войне. По всей видимости, ее автором был ведущий специалист в области артиллерии полковник Брухмюллер. Сект, тем не менее, придерживался более умеренных взглядов, чем большинство его современников. В отличие от Фалькенхайна, решительно возражавшего против планов аннексии, Штресеман, который впоследствии превратился в горячего сторонника франко-германского и европейского сотрудничества, положительно относился к подобным проектам и разговорам о Германской империи, которая будет простираться от Фландрии до Эстонии. Сект не заходил так далеко, и не сложно понять, что идеи Секта были промежуточным звеном между целями Генерального штаба и пангерманцев и послужили их сближению. Известно, что Людендорф разделял взгляды Секта.
XIII
Более мощные силы, чем предполагали отдельные личности, добились взаимопонимания между пангерманцами и Генеральным штабом. Известные промышленники и финансисты, стоявшие за пангерманским движением, уже в конце августа 1914 года сформулировали цели, которые должны была преследовать война. В требовании больших частей Фландрии, Восточной Франции, польских и балтийских территорий национал-либералы вроде Штресемана и Бассермана были заодно с консерваторами типа Гутенберга и даже с таким «одиноким волком», как Стинес (который требовал аннексировать всю Нормандию), и с Эрцбергером из католической партии, который высказывал подобное мнение до тех пор, пока ему не стала очевидна его чудовищная сущность.
Весь ужас состоял в том, что желание крупного капитала овладеть рудными месторождениями Лонгви и установить контроль над разработкой полезных ископаемых в Бельгии и Северной Франции совпало со стратегическими устремлениями Генерального штаба создать перед германскими границами буферную зону. Деловой интерес и внушавшее постоянный страх географическое положение подвигли Генеральный штаб поддержать идеи пангерманцев.
Если принять во внимание и в дальнейшем учитывать отсутствие, начиная со времен Бисмарка, настоящего политического руководства, можно понять многое из того, что произошло, понять, например, как случилось, что, когда пангерманская лига начала кампанию против Бетмана-Гольвега, поскольку он стремился не дать хода наиболее рискованным военным разработкам, она нашла союзников в Генеральном штабе. Германское руководство не могло придумать ничего хуже, чем заявить, что призыв к войне в основном исходит от крупного капитала. Это было не чем иным, как провокацией по отношению к простому человеку в окопах, чья семья в недалеком будущем должна была столкнуться с голодом.
XIV
После победы над Сербией Макензен и Сект надеялись, что Фалькенхайн прикажет двинуться к Эгейскому морю, и в частности к порту Салоники, что обезопасило бы Балканы от вторжения. Однако Фалькенхайн считал, что это потребует привлечения слишком больших сил. Самым опасным врагом для него была Англия. Он полагал, что существует единственное средство, не считая подводной войны, с помощью которого можно силой заставить Англию выйти из войны. Следовало сломить Францию, британский «континентальный меч», а для этого навязать французской армии бой там, где она не сможет отступить, не потеряв авторитета, и истечет кровью. Таким местом был Верден.
Верден, наиболее современная французская крепость, была окружена двумя укрепленными поясами. Казалось бы нелепым атаковать врага в таком месте, но Таппен любил говорить, что смешно атаковать там, где нечего разрушать. Сект, имевший «намного больше мозгов», чем Таппен, предсказывал провал этого предприятия.
В феврале 1916 года 5-я армия под командованием кронпринца атаковала крепость. Многомесячные артиллерийские дуэли и доставшиеся дорогой ценой штурмы привели к захвату нескольких укрепленных узлов. Франция истекала кровью, битва уничтожила цвет французской пехоты. Примерно семьдесят французских дивизий сгорели в этой печи; германская пехота пострадала немногим меньше. Потери Германии составили двести восемьдесят две тысячи человек, в то время как Франция потеряла триста семнадцать тысяч. Но за Францией стояла Британская империя, огромные армии России, ослабленной, но не побежденной, и, потенциально, огромная мощь Соединенных Штатов. За Германией – только мысли о родине, которой угрожали голод и социальные смуты, и два союзника – Турция и Австрия, находившиеся в процессе упадка.
Людендорф искал решение на востоке, и именно на востоке решилась судьба Фалькенхайна. Фон дер Гольц умудрился в Кутэлт-Амаре остановить британскую армию, намеревавшуюся захватить Багдад, и заставить ее сдаться. Гольцу не удалось пережить кампанию; тропическая лихорадка свела его в могилу. Во время поминальной службы в рейхстаге у Мольтке-младшего случился сердечный приступ. Удивительное совпадение: оба они были не в чести. Спустя неделю на Сомме сокрушительный удар нанесли превосходящие силы британцев, а в Галиции под мощным напором русских дрогнули австрийцы. Хетцендорф был вынужден отказаться от плана нападения на Италию. Была срочно сформирована германо-австрийская часть под командованием австрийского эрцгерцога Карла для спасения Карпат и бассейна Дуная.
Наступление русских имело серьезные последствия. Румыния ввела в войну семисопятидесятитысячную армию. Объявленное Румынией 27 августа решение о вступлении в войну стало для Фалькенхайна смертным приговором. Фалькенхайн не был вдумчивым стратегом и не относился к тем, кто мог вдохновлять массы. Он был типичным генштабистом, человеком, который предпочитал оставаться в тени и не искать популярности. Вот почему, в отличие от Гинденбурга и Людендорфа, он никогда не пользовался народным доверием.
Мы уже упоминали о полковнике Бауэре. После Таппена он стал самым влиятельным человеком в Генеральном штабе. Таппен напрямую обратился к военному министру с требованием заменить Фалькенхайна Гинденбургом. 28 августа Гинденбург и Людендорф были вызваны в штаб-квартиру, а тем временем Лункер объявил Фалькенхайну, что его величество решил воспользоваться его советом относительно командования Восточным фронтом.
Фалькенхайн был слишком гордым человеком, чтобы позволить вывести себя из игры. Он тут же объявил об отставке, которая была принята. 29 августа Лункер сообщил Людендорфу, что император принял решение назначить Гинденбурга начальником Генерального штаба, а Людендорфа его правой рукой. Людендорф предпочел стать генерал-квартирмейстером.
Это был первый случай, когда общественное мнение повлияло на назначение начальника штаба. В момент наибольшей неразберихи, под грохот канонады на всех фронтах, Гинденбург занял пост начальника Генерального штаба.
Глава 8
БЕСШУМНАЯ ДИКТАТУРА
Гинденбург и Людендорф. 1916–1918
I
Во время Первой мировой войны во всех больших городах были установлены деревянные статуи Гинденбурга. Пошлая идея! Сект, имевший потрясающий художественный вкус, спустя какое-то время написал, что невозможно представить статую Гинденбурга, выполненную в бронзе или мраморе. Ей подходит только материал, который использовали великие германские скульпторы Средневековья, изображавшие королей и святых.
Во времена Мольтке люди рассматривали Генеральный штаб как институт, в котором даже невозможное было возможно, и в этих статуях люди видели больше чем просто изображение человека. В годы заката правления Гогенцоллернов лицо, ставшее последним начальником прусского королевского Генерального штаба, воспринималось олицетворением в человеческом образе силы государства, утешением для нерешительных и надеждой для неуверенных.
Все же Гинденбург относился к прошлой эпохе. Он не кривил душой, когда говорил, что его место – в Германии Бисмарка и Вильгельма I. В этом он сильно отличался от Людендорфа, обладавшего почти бешеной работоспособностью и экстраординарными организаторскими способностями, но, по сути, бывшем ограниченной личностью. Людендорф являлся прекрасным специалистом, но для плодотворной деятельности ему была необходима руководящая рука человека, обладающего более широким и сбалансированным кругозором. В целом Гинденбург был не способен играть эту роль. Однако они прекрасно дополняли друг друга, хотя их личные отношения были далеко не так идеальны, как казалось многим. Эти два имени так же неотделимы друг от друга, как имена Блюхера и Гнейзенау, несмотря на то что их партнерство носило совершенно иной вид.
Гинденбург и Людендорф имели мало общего, за исключением частностей. Оба происходили из обедневших семей землевладельцев. Когда-то существовали огромные поместья Бенекендорфов в Восточной и Западной Пруссии, к которым после свадьбы наследников родов добавились поместья Гинденбургов. Практически все было потеряно в период аграрного кризиса, наступившего после освободительных войн. Поэтому, как у большинства офицеров из юнкеров, большая часть жизни Гинденбурга прошла в бедности, и только в старости он смог удовлетворить страстное желание вернуть семейное поместье в Нойдеке.
Его карьера, успешная в профессиональном плане, в общем-то ничем не примечательна. Лейтенант в гвардейской пехоте, два срока в Генеральном штабе, глава военного департамента прусского военного министерства (единственный случай, когда ему пришлось столкнуться с политической сферой деятельности), начальник штаба армейского корпуса, командир дивизии. С 1903-го по 1911 год он командовал 4-м армейским корпусом в Магдебурге. На протяжении всей жизни прусская армия и Генеральный штаб олицетворяли для него весь мир. Ничто иное его не интересовало. Человек не должен забивать голову всякой ерундой, резко заявлял он, когда речь заходила, к примеру, о гуманитарных науках. Он открыто признавался, что, кроме книг по военной тематике, за всю сознательную жизнь не прочел ни одной книги. Он был типичным представителем своего класса, полностью осознающим свое положение, тактичным, обладающим чувством собственного достоинства, рассудительным, лишенным воображения и отличавшимся свойственной крестьянам узостью ума. Он был тем, кого немцы называют «ein amusischer Mensch», человек, у которого отсутствует «чувство прекрасного», хотя настоящий генерал обязательно должен быть творческой личностью и обладать артистическим талантом.
Людендорф тоже был ein amusischer Mensch. Его отец, землевладелец, в 80-х годах обанкротился и стал зарабатывать на жизнь, занимаясь страховым бизнесом. Сын волей-неволей затаил обиду, что свойственно людям подобного склада, на несправедливость судьбы. В воспоминаниях Людендорф пишет, что отец был культурным человеком. Довольно странно, если учесть, что его поместье находилось на голых равнинах Восточной Эльбы, начисто лишенных каких-либо очагов культуры. Старший Людендорф во время кампании 1870 года был офицером запаса. В его комнате, кроме обычной мебели, было несколько военных сувениров в память о войне, а именно меч, патрон и кусок обоев из поместья близ Седана. Единственным украшением комнаты был алебастровый бюст Фридриха Великого.
Людендорф, как и Гинденбург, прошел через суровое испытание кадетской школой и стал пехотным офицером. В Военной академии его преподавателем был генерал Меккель, реорганизатор японской армии, который порекомендовал Людендорфа в Генеральный штаб. Темно-синяя форма с серебряной оторочкой по воротнику и брюки с красными лампасами значили для Людендорфа больше чем просто признак успешной военной карьеры. Это был знак восстановления его в социальных правах.
В 1908 году Людендорф возглавил сектор развертывания. Работа была для него всем. Он рассматривал все мыслимые и немыслимые обстоятельства, которые могут повлиять на изменение боевой ситуации. Причиной того, что он был более отгорожен от мира, чем офицер из любой страны, занимающийся такой же работой, была крайняя замкнутость именно германского офицерского корпуса. Во время штабных поездок Людендорф изучил свою родину и поездил по миру. Он побывал в России, Англии и Норвегии, но смотрел на все исключительно глазами офицера Генерального штаба.
Людендорф отличался невероятным честолюбием и вызывающей самонадеянностью, которая, при определенных обстоятельствах, толкала его на нарушение традиций Генерального штаба. Так, вскоре после сражения при Танненберге он заметил: «Когда явыиграл битву при Танненберге…» – непростительное пренебрежение кодексом Генерального штаба. Согласно его собственному признанию, Гинденбурга он рассматривал как некий полезный символ, считая, что массам необходим символ подобного рода. Подобное высказывание равносильно тому, что Людендорф рассматривал Гинденбурга как «соломенное чучело».
В свою очередь, Гинденбург, обладавший солидной долей здравого смысла и некоторой хитростью, унаследованной от предков, прекрасно понимал, что его советник наделен высочайшей технической эрудицией и, как и большинство генералов, стремится к власти. Гинденбург принимал свое положение с тем смирением, которое зачастую отличает умного человека.
II
Произошел ряд серьезных изменений. Подполковник Ветцель сменил Таппена на посту начальника оперативного отдела. В этом не было ничего странного. Ветцель, одаренный богатым воображением, был не только человеком с широким кругозором, но и лучше, чем Таппен, разбирался в принципах современной войны. Тогда же значительно возросшие военно-воздушные силы, обнаружившие стремление выделиться в отдельную службу, поступили в распоряжение Генерального штаба. К политическому отделу добавился специальный сектор по взаимодействию с министерством иностранных дел, который возглавил некий капитан фон Шлейхер. Все это соответствовало основной тенденции, проповедуемой Людендорфом, о совместной ответственности командующих войсками и прикрепленных к ним офицеров Генерального штаба за принимаемые решения. В особенности это относилось к начальникам штабов. В результате Генеральный штаб смог больше прежнего навязывать свою волю.
Генеральный штаб стал занимать в жизни нации особое место. Теперь он занимался вопросами прессы, кинематографии, пропаганды, вооружения и продовольствия. Мы уже говорили, что император должен был удерживать равновесие между разными соперничающими структурами. Формально это положение сохранялось, но, как мы помним, чем дальше, тем больше император понимал, что эта задача ему не по плечу. В равной степени это относилось и к канцлеру. Бетман-Гольвег не был настолько сильной личностью, чтобы энергично воспротивиться военному влиянию. Не лучше обстояло дело с рейхстагом. Либеральная оппозиция равнодушно относилась к происходящему. Социалистов лишили возможности как-то повлиять на ход событий. Однако социалисты, несмотря на наличие в своих рядах таких людей, как Эберт, Винниг, Носке и Лиджон, испытывали недостаток выдающихся личностей. Штресеман, представлявший национал-либеральных реформаторов, совершил грубую ошибку, стремясь завязать партнерские отношения с высшим командованием. После Бисмарка никто уже не мог навести ужас на рейхстаг, а император, рассматривая законодательный орган не более как сборище болтунов, даже не пытался найти точки соприкосновения с ведущими парламентариями.
По логике такое положение дел должно было привести к военной диктатуре. На самом деле этого не произошло. Планы Людендорфа потерпели крах. Он пожаловался кронпринцу, что никто не хочет ничего делать, и предложил ряд далеко идущих планов, многие из которых серьезным образом затрагивали частную жизнь рядовых немцев. Среди прочего он предложил программу по увеличению рождаемости, по уменьшению численности уклоняющихся от военной службы, по улучшению жилищных условий, по борьбе с венерическими заболеваниями, по созданию льготных условий возвращающимся солдатам (путем переселения в сельские районы), по предвоенной подготовке молодежи и борьбе с подрывной агитацией (опасно увеличившейся в последнее время). Но самым важным было то, что Людендорф настоял на введении воинской повинности для всех лиц в возрасте от пятнадцати до шестидесяти лет и мобилизации женщин для работы на предприятиях по изготовлению военной амуниции.
Как ни странно, но Людендорф отвергал идею военной диктатуры. И хотя Макензен настаивал на необходимости военного канцлера, а Сект заявил, что имеющиеся проблемы проще всего решить с помощью военной диктатуры, одним словом, несмотря на благоприятные обстоятельства, Людендорф упорно отказывался от этой идеи и продолжал поиски сильного человека, «германского Ллойд Джорджа» в рядах политиков и парламентариев. Поиски оказались безрезультатны. Самое парадоксальное, что парламентарии вроде Штресемана все более склонялись к идее военной диктатуры, видя в ней единственную надежду на спасение, и видели в Людендорфе германского Кромвеля. Политика Людендорфа имела для молодых генштабистов далеко идущие последствия. Во времена Веймарской республики, заняв ведущее положение в рейхстаге, они придерживались принципа, что солдат не должен разбираться в политике и что военные не должны принимать на себя политических обязательств. Они не верили в военную диктатуру, инстинктивно понимая, что любая диктатура базируется на массах.
Но хотя Людендорф отвергал идею о военной диктатуре, военные, по сути, установили экономическую диктатуру. Возрастающий с каждой неделей контроль над производством продовольствия, сырья, военного снаряжения и тому подобного был сосредоточен под началом генерала Гронера. Это и понятно. Учитывая огромное превосходство врага в отношении имеющихся у него ресурсов, сектор производства требовал особого внимания.
Таким образом, первые серьезные шаги, предпринятые режимом Людендорфа – Гинденбурга, были связаны с увеличением роста производства. С благословения Людендорфа Гронер и Бауэр разработали программу, предусматривавшую значительное увеличение выпускаемых аэропланов, пушек, грузовиков и других атрибутов войны. Практически одновременно в декабре 1916 года удалось обеспечить на фабрики значительный приток женских рабочих рук, не говоря уже о военнопленных и «вспомогательных рабочих» из Бельгии и Польши.
Несмотря на негативное отношение к военной диктатуре, Людендорф с огромным энтузиазмом воспринял идею военного социализма (бельгийские рабочие дали бы этому другое название по вполне понятным причинам). Военный социализм обеспечивал безжалостную эксплуатацию человеческих и материальных ресурсов, что полностью соответствовало исповедуемой Людендорфом концепции войны. Тем не менее военный социализм не смог решить самую важную проблему – усилить мобилизационную активность германского народа.
Людендорф, безусловно, отдавал себе отчет, насколько трудно при существующей избирательной системе решить этот вопрос. Он считал, что необходимо назначить министра по пропаганде. Но правящий класс давно уже сбросил со счетов такое понятие, как патриотизм простых немцев, и не обращал никакого внимания на требования Людендорфа.
Лучшая часть офицерского корпуса пала на поле боя, и Людендорф настоял на пополнении офицерских рядов (не принимая во внимание происхождение) из наиболее перспективных людей среди резервистов и рядовых, проявивших себя в пылу сражений. Однако подбор офицерских кадров был последней оставшейся привилегией военного кабинета, а для него определяющим фактором служил социальный статус. Единственная уступка, на которую они согласились, – создание некоего гибрида должности, «человека, занимающего офицерскую должность» (Offizierstellvertreter). Во время войны в некоторых случаях сержантам с хорошим послужным списком было разрешено исполнять офицерские обязанности, но по окончании войны им возвращались прежние звания.
Попытки Людендорфа заняться политикой потерпели фиаско. Призыв к независимости Польши в тот момент, когда царь только что назначил министром Бориса Штюрмера, имевшего репутацию человека, решительно поддерживающего междинастическое взаимопонимание, разрушил последние надежды на возможность заключения сепаратного мира с Россией. Фон Беселер, генерал-губернатор Польши, заставил Людендорфа поверить в то, что независимая Польша предоставит Германии от пятнадцати до двадцати дивизий. Людендорф всегда попадал под гипнотическое воздействие чисел и в данном случае стал жертвой беспочвенных фантазий фон Беселера. Хотя, казалось бы, кому, как не ему, было прекрасно известно, какую ненависть питают поляки к немцам.
Полагаясь на оптимистические сообщения адмиралтейства, Людендорф ошибочно считал, что предпринятые попытки к ведению неограниченной подводной войны помогут вступить в мирные переговоры с врагом. Главное – не дать почувствовать противнику свою слабость. Разговор, по его мнению, должен был идти только с позиции силы. Из-за ограниченных способностей он попросту не мог оценить усилия президента Вильсона по примирению враждующих сторон. Сект был уверен, что вступление в войну Америки, в результате все той же неограниченной подводной дуэли, отстаиваемой Людендорфом, может затянуть войну; он был не в состоянии понять, что может заставить Америку пойти на этот шаг.
III
В какой-то момент Людендорф осознал, что его политика тотальной войны может не осуществиться, пока на посту канцлера остается Бетман-Гольвег; он был чересчур гуманным. Многие в армии разделяли эту точку зрения. Не только пангерманцы, но даже ряд членов либеральной и левой партий, находившихся в оппозиции к действующему канцлеру, настаивали на решении этого вопроса. Возникающая время от времени борьба за военные ассигнования приучила Людендорфа иметь дело с политическими партиями. Следовательно, он вполне мог рассчитывать на поддержку при назначении «военного канцлера».
Через полковника Бауэра были установлены связи с рядом оппозиционеров в рейхстаге. Многие стремились увидеть на этом посту самого Людендорфа, но он понимал, что не вынесет двойное бремя. Штресеман и Эрзбергер, две наиболее заслуживающие внимания политические фигуры, настаивали на кандидатуре принца фон Бюлова, безусловно обладавшего дипломатическим талантом, который, как они надеялись, способен найти политическое решение их проблем. Людендорф отдавал предпочтение Тирпицу, но его взгляды на подводную войну шли вразрез с мнением императора. Кроме того, Тирпиц был в немилости.
Занявшись политикой, Генеральный штаб продемонстрировал готовность к уважительному общению. В 1917 году впервые в истории члены рейхстага были приглашены на Кенигсплац для детального ознакомления с существующим положением дел. Вскоре императору и кронпринцу представилась возможность послушать, что думают партийные лидеры (в том числе социал-демократы). К сожалению, император и кронпринц не смогли воспользоваться предоставленной возможностью, причем кронпринц так обращался с парламентскими делегатами, словно они были капралами, пришедшими на доклад к командиру.
Потраченные усилия, тем не менее, не прошли даром. В конце концов, угрожая, Гинденбург и Людендорф добились снятия канцлера. Однако император по-прежнему противился назначению Тирпица или Бюлова, и даже начальник Генерального штаба не смог навязать свою волю главнокомандующему. Тогда генерал-полковник фон Плессен предложил кандидатуру доктора Михелиса, министра продовольствия, представив его человеком, способным всерьез взяться за решение проблем. Гинденбург и Людендорф не знали Михелиса, но заявили, что согласны, и Михелис стал канцлером. Наконец-то Генеральный штаб добился решающего голоса при назначении канцлера.
Однако Людендорф не успокаивался, стремясь заручиться поддержкой в проведении жесткой политики. И он нашел ее в организации (Vaterlandspartei), созданной в 1916 году Тирпицем и Вольфгангом Каппом, в партии, воплотившей цели всех аннексионистов и приверженцев политики грубой силы. Дух этой партии был враждебен настрою масс. Людендорф глубоко заблуждался, если считал, что с ее помощью удастся поднять моральный дух и усилить единство народа Германии. Следует отметить, что аппетит Людендорфа в отношении чужих территорий возрастал день ото дня. В меморандуме, датированном сентябрем 1917 года, он не только требует создать стратегический пояс, включающий территории Польши, Литвы, Курляндии и Восточной Франции, но, вдобавок к этому, предлагает включить в империю Бельгию. Присоединение Бельгии, утверждал Людендорф, не оставит Голландию равнодушной, и она рано или поздно начнет добиваться слияния с Германией. Дания должна будет установить тесное экономическое сотрудничество с Германией, а в дальнейшем такие же тесные связи будут установлены с Японией и с Африкой. Ллойд Джордж как-то спросил у Фоша, что он думает о Людендорфе. «Un bon soldat» (бравый солдат), – ответил Фош. Заметьте, он не сказал: «Un bon gênerai». Фошу не откажешь в здравомыслии. Людендорф был солдатом, но не более того. Политика была для него вражеской территорией, и там он был беспомощен.
Тем временем Англия нашла ответ на подводные атаки в виде системы конвоев. Опять все надежды Людендорфа и Гинденбурга сконцентрировались на войне на суше, и, хотя перспектива была неутешительной, им удалось одержать одну заслуживающую внимания победу. Они создали объединенное германо-австрийское командование под номинальным руководством германского императора. К сожалению, смерть Франца-Иосифа в ноябре 1916 года и замена Гетцендорфа генерал-лейтенантом фон Штраусенбургом свели на нет их усилия. Новый император Карл IV решил спасать империю с помощью собственных методов, и если понадобится, то и отречься от германского союзника.