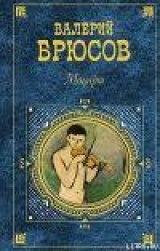
Текст книги "Моцарт (сборник прозы)"
Автор книги: Валерий Брюсов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 47 страниц)
После этой ночи я спал сном тяжелым и, проснувшись, увидел, что мне надо торопиться к началу занятий в школу Энделехия. Я сам не знал, зачем я тороплюсь к нему, потому что мысль о самоубийстве еще не покидала меня, но все же, поспешно одевшись и подкрепив силы сыром и глотком вина, направился к выходу.
Проходя через атрии, я увидел маленькую Намию, которая, укрывшись в угол, около армариев с масками предков, горестно плакала. Последние дни, занятый разнообразными и тяжелыми событиями своей жизни, я с ней мало встречался, и мне даже казалось, что девочка меня избегала. Теперь я подошел к ней и спросил:
– Что с тобой, милая сестрица? Кто тебя обидел? Почему ты не хочешь больше со мной говорить? Или ты на меня рассердилась?
Намия вдруг вскочила, тряхнула своей хорошенькой головкой, словно затем, чтобы высушить слезы, и глаза ее сделались злыми, как у раздраженной собачки. Она мне ответила:
– Какое тебе до меня дело? Уходи. Я тебя ненавижу. Ты думаешь, что я плачу из-за тебя? Что мне в тебе! Я о тебе давно перестала думать. Ты оказался так же глуп и незанимателен, как все другие. А если я кого-нибудь люблю, кто получше тебя, и о нем плачу, это тебя не касается.
Проговорив эти слова, девочка, по своему обыкновению, быстро выбежала из атрия, а я был тогда слишком занят своими печалями, чтобы раздумывать над ее горем, и продолжал свой путь.
В тот день я был в школе крайне невнимателен, и мои товарищи не раз толкали меня, когда я, углубившись в свои унылые думы, переставал слушать учителя и оставался сидеть неподвижно с бесполезным стилем в руке. Один из товарищей даже сказал мне:
– Клянусь Геркулесом, Юний, ты, должно быть, влюблен.
Выйдя из школы, я пошел не домой, но на форум, так как мне хотелось в шуме и движении, там никогда не стихающих, успокоить свое волнение. Я переходил из одного форума, в другой, входил в различные лавки, у торговца сосудами приценивался к бронзовому кубку, у книгопродавца рассматривал новоизданную книгу, смотрел, как ловко исполняет дело меняла, быстро отсчитывая монеты, вмешивался в толпу бедняков, которая никогда не покидают форумов, готовая предложить свои услуги любому наемщику для чего угодно: – рукоплескать его речи или любимой им плясунье, освистать его соперника или просто, в одеждах, полученных на время, изображать из себя клиентов, – слушал грубые речи и сам вступал в чужие разговоры. Потом на Римском форуме я сел подле арки Тиберия и долго смотрел, как на священном месте, тесно огороженном торжественными храмами, быстро сменялись разнообразные картины, как прогуливались здесь завсегдатаи форума, по древнему закону приходящие сюда лишь в тогах, как изумленно оглядывались кругом недавно приехавшие провинциалы или чужеземцы, в причудливых одеждах, появлялся важный сановник, сопровождаемый толпой, то проходила кучка веселых гуляк. Все вокруг было пестро и шумно, лучи солнца сверкали на старом мраморе и бронзе, голоса, смех и крики не смолкали ни на минуту, и можно было думать, что по-прежнему на этом месте бьется сердце всего мира.
Несколько развлеченный своей прогулкой, я пообедал в какой-то попине поблизости, где долго молча сидел одинокий за столом, потом еще побродил по улицам и по полю Агриппы и только на склоне дня вернулся домой.
В тот вечер тетки не было дома, и дядя, который скучал без слушателей, позвал меня к себе выпить с ним по кубку вина. Хотя рассуждения дяди мне давно наскучили, я не уклонился от приглашения, потому что мне тягостно было оставаться одному. Как всегда, дядя скоро заговорил о древнем величии Римского народа и о погибели, к которой ведут Рим последние христианские императоры.
– Боги уже давали нам предостережения, племянник, – говорил мне Тибуртин, – но мы им не внемлем. Все продолжают обычную жизнь, бездельничают, пьянствуют и не думают о благе республики. Варвары везде переходят границу империи и селятся на Римских землях. Хуже того, тех же самых варваров принимают в Римское войско, из них образуют легионы, оскорбляя тем священное имя: легион! и им же поручают защиту границ! Вспомни мои слова: если не опомнятся граждане, не возьмутся за старый Римский меч, в самую Италию вторгнутся какие-нибудь племена из Германии и Скифии, и переживем мы новое нашествие галлов!
Думая сделать угодное сенатору, я сейчас же привел предсказание Горация:
Варвар, увы, победитель, на прахи наступит, и всадник
Копытом звонким мир встревожит Города,
Те, что от солнца и ветра таим мы, кости Квирина
(Увидеть страшно) он размечет дерзостно.
Но дядя живо возразил мне:
– Нет, нет! этого не будет никогда! До самых стен Города может дойти варвар, но священной черты не переступит. Еще стоят на своих местах святилища аргеев и весталки блюдут залоги незыблемости Рима, и в Курии еще парит статуя Победы. Знай, племянник, пока на эти святыни не посягнули, – нечего Риму бояться. А кто святотатственный, будь он даже христианин, осмелится на них посягнуть?
Не знаю, было ли то предчувствие, ниспосланное неким богом, или случайное совпадение, которое нередко наблюдается в жизни, только после этих слов дядя стал говорить о алтаре и статуе Победы подробно и с увлечением.
– Божественный Август, – говорил он, – был третьим основателем Рима, после Ромула и Камилла. Помнишь богами подсказанные слова центуриона: «Стой, воин, здесь всего лучше останемся!» Тогда речь была только о Городе. Август сделал Рим средоточием вселенной, повелителем мира. Август первый сказал, что вне империи, управляемой Римом, нет и быть не должно ничего, кроме варварства. Потому-то Август, нашедший Город кирпичным и оставивший его мраморным, воздвиг множество новых храмов, с великими священнодействиями, как бы основывая новый Город, ибо старому было дано назначение новое. И, завершив новую Курию, откуда Сенат должен был своей мудростью править миром, Август по ее середине поставил алтарь и древнюю статую Победы, знак того, что Риму дано вовек торжествовать над врагами. Дважды пожар истреблял Курию Юлия – при Нероне и при Карине, но дважды боги спасали крылатую статую Победы, и вновь сенаторы пред ее алтарем приносили свои клятвы. Так и Рим не раз бывал охвачен пламенем погибели, но всегда выходил из огня победоносным и крылатым. И так всегда будет, племянник, пока отцы Города собираются вкруг этого священного алтаря.
Я тогда не очень внимательно слушал рассуждения Тибуртина, так как не придавал им цены. И сам он скоро перешел к соображениям, кто будут назначены консулами на следующий год, намекая, что он, Тибуртин, был бы достоин этой чести предпочтительно перед другими. Когда секстарий вина нами был допит, я попрощался и ушел в свою комнату, чувствуя утомление после дня, целиком проведенного в ходьбе.
Скоро я задремал беспокойным сном, но вдруг мне показалось, что в комнате кто-то есть. Я открыл глаза и, действительно, во мраке различил белую женскую фигуру. Всмотревшись, я убедился, что это – Намия, почти раздетая.
– Милая Намия, зачем ты здесь? – спросил я шепотом.
Мне пришло в голову, что Намия подвержена той священной болезни, в которой люди, подчиняясь чарам луны, ходят по комнатам и даже по высоким крышам, во сне, с закрытыми глазами. Но Намия не спала; она бросилась к моему ложу, стала перед ним на колени и, плача, сказала мне:
– Братик! милый братик! Я тебе солгала. Я тебя не ненавижу. Я плакала по тебе. Я тебя люблю, мой братик. А ты меня не любишь. Ты любишь эту противную Гесперию. Я все знаю, мне передали. Ты у нее постоянно бываешь. Три последних ночи ты провел у нее. Ты ее любовник. Я этого не могу перенести.
Я обнял худенькое тело маленькой Намии, стал ее целовать и пытался успокоить.
– Полно, сестрица, – говорил я, – все это выдумки, неправда. Три последних ночи я, может быть, провел дурно, но, клянусь великими богами, не у твоей сестры. Я у нее бывал, это верно, потому что она меня звала к себе, но между нами о любви не было речи. А что ты говоришь о своей любви, тоже неправда: ты еще маленькая девочка и ничего не понимаешь. Время любить к тебе придет позже, а пока будь умной, отри свои глаза, ступай спать и останься моим хорошим другом.
Намия на мои слова рассердилась и ответила зло:
– Ты говоришь так умно, как учитель грамматики. «Есть некоторые глаголы безличные, например, первого порядка: „luvat me, te, illum, restat, distat...“ Все это верно, а только я тебя люблю! Возражай мне, что хочешь, а я тебя люблю!
Потом, снова заплакав, она продолжала:
– И я хочу, чтобы ты тоже меня любил. Милый, хороший братик, на что тебе эта Гесперия, у которой, кроме тебя, десятки любовников. Я сделаю для тебя все, что женщины делают для мужчин. Я все понимаю, и я знаю, зачем отец Никодим потихоньку приходит к матери. Я буду твоей самой хорошей любовницей. Только люби меня.
В каком-то исступлении маленькая Намия непременно хотела лечь рядом со мной на ложе и добивалась, чтобы я ласкал ее. А я не знал, что делать, так как постыдным почитал нанести обиду дочери моего гостеприимного хозяина. Между мною и Намией началась борьба, во время которой она то рыдала, то царапала и кусала меня, то целовала безудержно.
– Нас услышат, сюда придут, – молил я.
– Мне все равно, мне все равно, – возражала девочка, – пусть все узнают. Я хочу, чтобы ты меня любил. А если нет, я пойду и утоплюсь в Тибре.
Не знаю, чем окончилась бы эта наша борьба, если бы вдруг в доме, несмотря на поздний час, не послышался неожиданный шум, торопливые шаги и голоса. Испуганный, я сказал Намии:
– Это тебя ищут. Подумай, что я скажу твоему отцу, если он тебя застанет у меня. Уходи скорее, Намия, а завтра я тебе все объясню.
Намия упрямо спросила:
– Ты клянешься, что завтра мне прямо ответишь, будешь ли меня любить или нет?
– Клянусь Юпитером, – сказал я.
После этой моей клятвы Намия, также смущенная, соскользнула с ложа и скрылась в темноте. Но шум все продолжался и даже делался более громким. Подумав, что нехорошо оставить девочку без защиты, если мать грозит ей за ее ночное поведение, я наскоро оделся и вышел в атрий.
Там была в сборе вся семья. Два раба освещали атрий фонарями, которые держали в руках. Дядя был одет в сенаторскую тогу и дрожащей рукой творил возлияние перед маленьким домашним алтарем. Тетка и Аттузия, в ночных одеждах, перебивая друг друга, в чем-то его упрекали.
Увидя меня, дядя обратился ко мне:
– Ну, милый Юний, – сказал он, – сегодняшним разговором накликали мы с тобой беду, такую беду, что теперь дело идет о спасении республики.
– Что же случилось? – спросил я.
– Ночью прибыл посол от императора, – ответил дядя, – и привез повеление: немедленно, слышишь ли, немедленно, ночью же, вынести из Курии алтарь и статую Победы, о которых я тебе говорил. Это – конец, так как хотят лишить Рим покровительства богов. Это – последний удар, а затем закроют все храмы, заставят всех Римлян поклоняться Христу, а непокорных будут бросать на съедение зверям. Боги отступятся от нас, и совершится погибель империи.
– Куда же ты идешь? – спросил я.
– Куда? – гордо возразил дядя. – В Курию! Сенат соберется немедленно, и мы воспротивимся исполнению неправого повеления. В такую минуту Римляне должны показать себя Римлянами и спасти империю. Грациан думает, что он может все, но сенат и Римский народ покажут ему, что он заблуждается. Подайте мне плащ.
Тогда яростным голосом заговорила тетка:
– Остерегся бы так говорить о святости императора, при рабах, бездельник! Одних этих слов довольно, чтобы тебе голову отрубили, нас всех бросили в темницу, а имущество наше отобрали в фиск! Ты только и делаешь, что пропиваешь добро, нажитое твоими предками, а теперь вовсе нас погубить задумал!
Аттузия добавила:
– Христианнейший император намерен истребить идолов в Курии, где заседают его сенаторы. Его благодарить нужно за искоренение суеверий, а не противиться его божественной воле. Господи, благодарю тебя, что ты дал мне дожить до этого счастливого часа.
– Молчите, женщины! – строго произнес дядя. – Эти вопросы должны решать мужи.
– Мы тебя не пустим, – решительно сказала тетка, загораживая дяде дорогу. – Завтра же всех сенаторов, которые скажут слово против императора, отправят в ссылку. И куда ты-то спешишь. Думаешь, там без тебя не обойдутся?
– Здесь отец семейства я, – так же сурово возразил дядя. – По Римскому праву я имею власть жизни и смерти над тобой.
– Да ведь тебя убьют! – уже со слезами закричала тетка, все закрывая своим телом выход.
– Прекрасно и сладко пасть за отечество, – ответил ей Тибуртин стихом Горация.
Он неожиданно сильной рукой отстранил свою жену и с высоко поднятой головой направился в вестибул. Но, сделав два шага, остановился и нерешительно добавил:
– Только вот что, вели подать мне кубок вина, а то на улице холодно.
– Нет тебе вина, пьяница! – закричала тетка с озлоблением. – Хочешь идти, так иди трезвый.
– Да, я пойду и без вина, – сказал Тибуртин.
Он вышел из дому, и за ним последовали рабы с фонарями.
Тетка, рыдая, начала причитать, как плакальщица на похоронах.
– Погибли мы! Завтра же отберут у нас и дом, и земли, и рабов, и все имущество! Будем мы голодать и спать в холоде! Господи Иисусе Христе, разве мало я тебе молилась! Разве не делала я вкладов в церкви и не давала обетов сделать еще более богатые! За что ты меня так жестоко караешь!
– Успокойся, – уговаривала ее Аттузия, – никто не обратит внимания на их смехотворное заседание. Да и сами они не посмеют пойти против воли императора. Соберутся, посмотрят друг на друга и разойдутся.
Пока женщины разговаривали, новая мысль пришла мне в голову: что Гесперия, муж которой не был сенатором, не должна еще знать новости о императорском эдикте.
Вдруг мне показалось, что я должен немедленно известить ее о нем. Не раздумывая долго, я набросил плащ на плечи и тоже бросился бегом на улицу.
XVЯ ни о чем не думал, пока не достиг ворот дома Гесперии. Только здесь, на пустынной и темной улице, я спросил себя, как я войду в дом в такой поздний час. Но тотчас мне вспомнились те условные знаки, о которых говорил Юлианий, и я без колебания постучал дверным молотком четыре раза.
Скоро послышался голос раба, спросившего меня:
– Кто там? Я ответил:
– Иисус распятый.
Ворота открылись; я уверенными шагами прошел по ночному саду. В дверь дома я тоже постучал четыре раза и дал тот же ответ на вопрос, кто стучит; меня впустили и в дом. Сонный привратник на меня смотрел недоверчиво, но я ему сказал:
– По важному делу мне нужно видеть госпожу Гесперию.
Привратник вызвал молодую рабыню, которая проводила меня в атрий и, сказав, что известит Гесперию, скрылась.
Только тогда мною в первый раз овладело смущение.
Я стоял, одинокий, в огромном полутемном атрие, слабо освещенном одной лампадой, которую рабыня поставила на подножье статуи Флоры. Все кругом было тихо, и минуты шли с медленностью необыкновенной. Та радость, с какой я бежал к дому Гесперии, постепенно сменялась страхом ее увидеть.
Мне вдруг показалось нелепым, что я ночью тревожу Гесперию, чтобы сообщить новость, о которой через несколько часов заговорит весь Город. Не будет ли Гесперия вправе, если в ответ на мои слова рассмеется и гневно мне прикажет идти домой и не мешаться не в свое дело? Я подумал также, что поступил неосторожно, воспользовавшись тайными знаками, о которых узнал случайно. Гесперия должна будет предположить, что я какими-то кривыми путями, подслушивая на перекрестках или расспрашивая рабов, стараюсь проникнуть в ее тайны с намерениями дурными. Она, может быть, не позволит мне больше никогда приходить к ней и постарается избавиться от опасного соглядатая.
Так размышляя, я с радостью убежал бы из дома Элиана, но уже было поздно отступать, и я с тоской продолжал ждать Гесперию. Наконец послышались шаги, замерцал свет лампад, и появилась Гесперия в легкой столе, накинутой поверх туники, без всяких обычных украшений, сопровождаемая двумя рабынями, которым она сделала знак удаляться. Гесперия направилась прямо ко мне и спросила без гнева:
– Что тебя привело ко мне, Юний? Не случилось ли чего дурного с твоим дядей?
Приветливый голос Гесперии привел меня в еще большее смущение; я чувствовал, что мои ноги дрожат, и, собрав все силы, с трудом произнес:
– Domina! Прости, что я тебя потревожил. Этого, может быть, не должно было делать. Но ты ко мне была так добра. Мне показалось, что тебе важно это узнать. Сейчас в дом дяди принесли известие. От императора прибыл посол. Приказано вынести из Курии алтарь и статую Победы. Дядя говорит, что это – погибель империи. Созвано ночное заседание Сената. Хотят принять решения важные.
Я говорил запинаясь и бессвязно, и с каждым словом мне становилось все более и более стыдно за свой необдуманный поступок. Потом, совсем смутившись, я замолчал и стоял, опустив глаза, как провинившийся ученик перед своим литератором. Но Гесперия мне ответила с прежней ласковостью:
– Ты – милый, и хорошо сделал, что прибежал рассказать это мне. Известие, конечно, важное, хотя судьба империи и не зависит от того, та или другая статуя стоит или нет в таком-то храме. Но эдикт Грациана может взволновать тех простых людей, которые на этот алтарь смотрят как на лучший оплот Рима, и последствия могут быть гибельны.
Я смотрел на Гесперию, и она, без блеска золотых колец и запястий, драгоценных серег и жемчужных ожерелий, с обнаженными, словно мраморными руками, казалась мне прекраснее, чем когда-либо. Я испытывал такое желание поклоняться ей, как никогда, и мне казалось блаженством даже умереть пред ее очами. Я сжимал губы, чтобы не закричать ей: «Я тебя люблю, Гесперия!» – но она вдруг спросила:
– А как ты вошел сюда, Юний? Почему рабы тебя впустили в такой поздний час?
От стыда мои щеки покраснели, я отступил на шаг, и не знал, что говорить, а Гесперия продолжала спрашивать безжалостно:
– Откуда ты узнал тессеру? ты ее где-нибудь подслушал? тебе ее кто-нибудь сказал?
Что было мне говорить? Следовало лгать, придумывать объяснения, но перед Гесперией лгать я не смел. И, как бросаются в самую середину битвы, я вдруг упал на колени перед Гесперией, как перед святыней божества, и воскликнул:
– Гесперия! я должен тебе сознаться во всем! Случай выдал мне одну из твоих тайн. Я знаю, кто собирается в твоем доме и зачем. Я знаю, что ты, Симмах, Претекстат и Флавиан замыслили. Я знаю, кого вы назначили преемником Грациана. Но ты видишь, что, узнав эту тайну, я ее ото всех хранил, о ней ни перед кем ни одним словом не обмолвился. И верь мне, что я ее буду хранить свято, хотя бы меня подвергли пытке, – буду хранить не потому, что дал тебе клятву в этом, даже не потому, что ваше дело – это дело мое, это дело всех истинных Римлян, но потому, что я тебя люблю, Гесперия, потому что для меня счастие – служить тебе.
Я сам не понимал, как я решился сделать последнее признание, но мною тогда владело то отчаяние побежденных, о котором говорит Вергилий: «Побежденным спасение одно – не мечтать о спасенье!» Я ждал, что Гесперия рассмеется над словами безумного юноши или гневно мне прикажет замолчать, но когда я поднял на нее глаза, я увидел в том полусвете, который нас окружал, что ее лицо кротко и печально. Она тихим голосом сказала:
– Ты также, бедный мальчик. Меня любить не должно. Я теперь все равно что мертвая статуя и более не буду любить никого. У меня сердце стало твердым, как камень. Ты разобьешься о него, бедный, как маленькая лодка о скалы Пахина. Теперь я люблю лишь одно: ту цель жизни, к которой я стремлюсь. Знай, что я более не женщина, и отойди от меня. Ты – живой и ступай к живым.
Но я, все стоя на коленях, продолжал говорить в безумии:
– Я не властен тебя не любить, Гесперия! Да, я – юноша, я – мальчик, и ты вправе мне сказать, что любовь юноши подобна зыби на реке, сменяющейся с каждым ветром. Но разве не бывает такой любви, которая приходит лишь один раз в жизни и уз которой нельзя разорвать до самой смерти? Я тебя полюбил не потому, что ты всех прекраснее в Риме, не потому, что ты была первая прекрасная женщина, которую я встретил, но потому, что так решили боги, и я тебя буду любить всегда, все годы моей жизни, – все равно, буду ли я близ тебя или далеко. Я знаю, что я тебя недостоин, что тысячи других, с которыми я не смею соперничать, тебя молят о любви. Но ведь я у тебя ничего не прошу. Я хочу только, чтобы ты мне позволила тебе поклоняться и тебе служить. Единственная награда, о которой я мечтаю, это – тебя видеть, большего мне не надо.
– Так все говорят, – сказала Гесперия.
– Пусть же в первый раз, – воскликнул я, – эти слова станут правдой! Любят не за то, что получают любовь, а потому, что так повелел в боях неодолимый Эрос. Энона продолжала любить своего Парида, им отвергнутая. Гемон умер у могилы своей Антигоны, хотя уже ничего не мог от нее ждать. И я буду тебя любить, хотя бы сердце твое и было, по твоим словам, каменным, хотя бы мне и предстояло умереть у твоих ног.
Тут Гесперия рассмеялась и мне ответила:
– Ты, Юний, опять увлекаешься. Ты все бредишь героями древних сказаний. Но уже пора тебе подумать, что мы живем не в век героев, но людей. Я не Лаконская Елена, и ради меня умирать не стоит.
– Хорошо, – сказал я, вставая с колен, – я более не буду докучать тебе признаниями любви. Я понимаю, что они тебе не нужны. Но не отвергай меня. Подумай: где ты найдешь более преданного служителя, нежели я? Ты говоришь, что любишь одно: далекую цель своей жизни. Позволь же мне помогать тебе, служить тому же, чему ты служишь. Я – молод, но в молодости есть сила. Я – неопытен, но отважусь на то, перед чем отступят мужи. Я тебя люблю, и потому буду повиноваться каждому твоему слову, буду тебе верен, как самый честный раб. Доверься мне.
Все время мы говорили, стоя посреди атрия. После же моих слов Гесперия медленно отошла к стене, села в кресло и, опустив голову, задумалась. Я за ней последовал, продолжая свои настояния. Наконец она покачала головой и произнесла решительно:
– Нет, Юний, тебя я не могу вовлекать в наше дело. Мне жаль твоей молодой жизни и жаль твоей матери, которую я знала.
– Гесперия! – с отчаянием ответил я. – Я тебе признаюсь, какая мысль меня занимала эти последние дни. Поняв, что я тебя люблю, что эта любовь окончится лишь с моей жизнью и что счастия она мне дать не может, я хотел пойти на берег Тибра и броситься в воду. Юпитером клянусь, я так и сделаю, если ты меня отвергнешь. Если я не могу тебе служить, мне больше на этой земле нечего делать – ни теперь, ни после.
– Ты сам не понимаешь, о чем просишь, – сказала Гесперия. – Служить мне – значит отказаться от себя, отказаться от всех радостей и надежд, подчиняться мне, без колебания, хотя бы я приказывала тебе противное чести, служить тому, кому я повелю, хотя бы ты его презирал и ненавидел. Умереть за того, кого любишь, легко, но я потребую большего. Этого ли ты хочешь?
– Этого я хочу, – сказал я.
– Поклянешься ли ты, – спросила Гесперия, – не только никому, ни в дружеской беседе, ни перед палачом, не открывать того, что ты можешь узнать, но и никогда меня не спрашивать, зачем я что-либо делаю или приказываю исполнить? Поклянешься ли, что никогда во мне не усомнишься, не сделаешь ни одного возражения, не откажешься ни от какого дела, как бы страшным и даже постыдным оно тебе ни показалось?
– Клянусь, – сказал я твердо.
– Клянешься ли ты, – спросила Гесперия, – ничего не скрывать от меня, сообщать мне о себе все, даже свои самые тайные мысли, клянешься ли, по моему приказанию, притворствовать и лгать, и убить человека, если я потребую, и украсть, если это будет нужно, и не побояться быть позором и посмешищем людей, если я этого захочу?
– Клянусь, – сказал я.
– Клянешься ли ты, – спросила Гесперия, – никогда не просить у меня награды, что бы ты для меня ни совершил, никогда не добиваться моей любви и своей любви ко мне не выражать ни одним словом, ни одним движением? Клянешься ли ты, если все-таки ты встретишь женщину, которая тебе понравится, покинуть ее по одному моему знаку, отречься от нее, отвергнуть ее?
– Клянусь, – сказал я.
– Поклянись еще, – добавила Гесперия, – что ты, если я тебе прикажу прийти к дверям моей спальни, когда я буду в ней со своим возлюбленным, и стать на страже, будешь охранять вход, как верный воин, что в тот час ты мой покой ничем не нарушишь и никому не позволишь переступить через порог.
– Клянусь, – сказал я с трудом.
– Клянись самой страшной клятвой, – потребовала Гесперия.
– Во всем, что ты от меня требуешь, – воскликнул я, – и во всем другом, что ты можешь потребовать, я тебе клянусь, Гесперия, клянусь Стиксом, – клятва, которой сами боги страшатся. И этой клятвой, снять которую не властны ни олимпийцы, ни подземные боги, я связываю себя на всю жизнь. Стиксом клянусь, Гесперия, тебе повиноваться, быть тебе верным и любить тебя до своей могилы и после, за вратами смерти.
Такую страшную клятву я произнес в пустынном и темном атрии не пред каким-либо алтарем, но пред ликом женщины, которая для меня была божеством. Выслушав мои слова, Гесперия тихо встала и мне протянула руку, и когда я ее поцеловал, сказала голосом строгим:
– Помни эту клятву, Юний. Я от тебя потребую ее пополнения от слова и до слова. Боги грозно отомстят тебе, если ты ее нарушишь. Но и я умею мстить тем, кто меня обманывает. Теперь уходи, уже поздно, и хотя ты мой родственник, но неприлично, что ты так долго остаешься в моем доме ночью.
– И ты ничего мне не прикажешь, – горестно спросил я, – ты не хочешь, чтобы я сейчас же начал свое служение?
– Ты мне поклялся ничего у меня не просить, – возразила Гесперия. – Когда будет надо, я тебя позову.
Я продолжал печально смотреть на Гесперию, но вдруг она, словно неожиданная мысль пришла ей в голову, быстро добавила:
– Впрочем, приди ко мне завтра, в полдень. Может быть, я тебе дам одно поручение.
Произнеся последние слова, она тотчас повернулась и вышла из атрия, а меня охватила безудержная радость, как если бы самые счастливые обещания мне были даны.
Мне хотелось целовать след ног Гесперии на мраморе пола, и казалось, что воздух атрия еще полон ее присутствием. Опомнившись, я пошел к выходу, растолкал сонного привратника, бегом пробежал через сад и через минуту уже был на улице. Ночной, почти безмолвный Рим, белые стены оград, смутные образы ближних домов, и белые громады отдаленных храмов, и самое темное небо в звездах, – все мне представлялось прекрасным. Я простирал к кому-то, может быть, к незримым богам, руки, невольно, словно пьяный, восклицал бессвязные слова и вслух говорил сам себе:
– У тебя опять есть жизнь, Юний! Ты счастливее всех смертных, потому что можешь служить Гесперии. Ты достиг всего, о чем смел мечтать, потому что она теперь знает о твоей любви. Как хорошо быть в Риме, где живет она, как хорошо быть под тем же небом, которое покрывает ее! Как хорошо дышать, и жить, и чувствовать любовь! Благодарю вас, бессмертные боги!








