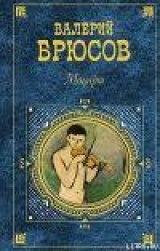
Текст книги "Моцарт (сборник прозы)"
Автор книги: Валерий Брюсов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 47 страниц)
Словно какой-то сон, наведенный чарами, длилась та моя жизнь, в которой я носил имя апостола Иоанна, но я не спешил и не стремился проснуться.
VIIНе знаю, сколько дней прошло в этом смутном сне, но понемногу ряд событий, не совсем неожиданных, нарушил обычный ход жизни в Новом Селе. Действуя медленно, но неуклонно, префект окружил все пространство, охваченное мятежом, и начал предпринимать походы против отдельных селений, разоряя их и истребляя жителей. К нам являлись, в испуге и отчаяньи, то гонцы из других селений, то беглецы оттуда, рассказывая про неистовства, совершаемые посланными против них когортами. Несколько наших отрядов, вышедших на добывание припасов, наткнулись на Римских воинов и были истреблены. Наконец, префект занял противоположный берег Лария и сделал для нас невозможным переправляться туда за добычей. Понемногу в нашем Селе стал ощущаться недостаток в хлебе и, что было для нас всего тягостнее, в вине.
Пока длился наш беспечный праздник, враги Реи, преимущественно сторонники поклонников Змия, не смели поднять головы и без возражений подчинялись власти Царицы. Но как только начались затруднения, тотчас выступили хулители, которые сначала осторожно, потом более открыто стали обвинять Рею в том, что своим бездействием она всем готовит гибель. Поклонники Змия говорили, что прежде, таясь от императорских соглядатаев, они жили мирно и безопасно исповедали свою веру; теперь же, когда их принудили к явному восстанию, им нечего ожидать, кроме копья легионария и плахи палача. Люди собирались на улицах, громко обсуждали положение, злобно жаловались на лишения и Царицу уже не встречали более с тем безграничным преклонением, как прежде.
В один из дней, для нас особенно неудачных, когда припасов в Селе было так мало, что мы не знали, чем прокормить жителей, а в то же время к нам прибыло десятка два пастухов, так как воины префекта преследовали их, как диких зверей, устроена была попытка возмущения. Толпа заговорщиков, преимущественно стариков, окружила дом, где мы, апостолы, собрались, как обычно, чтобы вести суд и обсуждать дела, буйствовала, кричала угрозы. К шумящим вышел Петр, но его строгие окрики и суровые повеления цели не достигли, и люди продолжали бесчинствовать, называя нас тиранами и предателями. Тогда Pea, в порыве негодования, который всегда делал ее прекрасной, появилась на пороге, бледная, как бог Страха, ударила о доски змиевидным жезлом, который держала в руке, и гневно спросила, на что жалуются собравшиеся.
Так сильно было обаяние Реи, что, едва она стала в лицо заговорщикам, те смутились и смолкли, и только после молчания выступил старик Лука и стал говорить:
– Мы недовольны, – сказал он. – Не ту жизнь мы здесь ведем, как достойно. Разве мы для того бросили наши дома и семьи, чтобы сидеть в горах, терпеть лишения, а порою пировать? Пусть апостолы, как в старину ученики Христа, идут и проповедают новое учение по всей земле.
– Вы, значит, не веруете в Пришедшего? – спросила Pea, еще более бледнея.
– Веруем и исповедуем, – твердо возразил Лука, – только мы веруем, постигнув истину учения, и потому хотим ее проповедать другим. А вы соблазняете малых сих, прельщая их тем, что здесь каждый, что ни ночь, избирает себе новую жену. Берегитесь, – не о вас ли написано, что лучше такому человеку надеть на шею мельничный жернов и утопиться в пучине морской!
Дух Пифийский нисшел на Рею, и она заговорила:
– Безумный! хулящий учение вечное, проповедь спасения, обетование блаженства! Ветхий закон ты помнишь, нового же не разумеешь. Слушайте, что сказал апостол древний: Закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедши за другого мужа. Так вы, люди новые, умираете для закона Ветхого, чтобы принадлежать другому, и нет для вас соблазна ни в чем, и ни в чем греха. Никакого нет на вас обязательства, или только одно: жить в радости. Люди новые должны быть счастливы и во всем творить волю свою, не заботясь ни о чем, ибо Отец небесный сам позаботится об них. К свободе призваны вы, братия, и против нее ли восстаете? Чего хотите? – нового рабства? Тело и душу вашу мы расковали, но вы вновь возжелали цепей и скорпионов. Что ж! покиньте нас, возвращайтесь в города, преклоните выю пред ложно именующим себя императором, сносите всяческие унижения, даже до побоев. Но знайте, что отымется у вас владычество над миром и отдано будет другим. Если вы не верите каждому моему слову, я – не Царица вам и вы – не братья мне, нет между нами союза, и я пойду к другим благовествовать им спасение.
Pea сорвала диадему с своей головы, бросила наземь жезл и, думаю, была в этот миг похожа на Великого Македонца, когда он гневно отсылал свои войска на родину и грозил, что один пойдет к Гангу – покорять Индию. И хотя речь Реи не вполне отвечала на сомнения и упреки стариков, такова была ее власть над умами, что буйствовавшие, словно пристыженные дети, смолкли, опустили глаза, просили прощения, иные даже став на колени. Возмущение затихло, и вечером в тот день, после весьма скудного обеда, опять совершилось торжественное богослужение, и опять народ предавался всей свободе, которую и разрешала и требовала новая вера.
Тем не менее положение наше становилось день ото дня хуже, почти все проходы в горах были заняты отрядами префекта, и почти негде было добывать пропитание для жителей Села. Нам явно грозили бедствия осады, и я не без тревоги вспоминал рассказы о страданиях, пережитых Сагунтом, когда его обложил величайший из врагов Рима. Даже некоторые из апостолов говорили открыто, что мы сами готовим себе гибель, и первый Андрей бесстрашно нападал на Петра, обвиняя его в нерадении или измене.
Наконец на одном из наших военных советов дошло до открытой ссоры.
Когда Петр предложил послать отряд юношей с тем, чтобы он прокрался в Римский лагерь и там попытался добыть для нас припасы, Андрей воскликнул с презрением:
– Только детей можно обольщать такими выдумками! Ты, верно, хочешь, чтобы всех нас перебили по очереди! Зачем нас держать столько времени здесь, взаперти, словно свиней, откармливаемых на убой? Братьев наших в других селениях избивают, община наша уменьшается, об апостолах, посланных в дальние местности, нет вестей. Чего же мы ищем: чтобы Римляне добрались и до нас? Завтра же мы должны всем народом выйти отсюда, ударить во врагов, и те легионы сил, о которых нам говорила Царица, даруют нам победу!
Андрея поддержал Фома, который всегда был сторонником мер решительных, и Фаддей, который считал наши жалкие силы неодолимыми. Петр, в речи, построенной умно, возражал им, напомнил, что сходные укоры делались и Фабию Кунктатору, который, однако, спас республику; потом разъяснил, какое преимущество для нас заключается в том, чтобы обороняться, а не наступать, и доказывал, что мы, если потерпим еще немного, истощим все силы Римского легиона, заставим префекта отступить в долину и тогда быстро наверстаем потерянное. Но спорящие не хотели слушать Петра, нападали на него все яростнее и беззастенчивее, и он в конце концов им сказал:
– Если вы не хотите меня слушать, я замолчу. Я один среди вас знаю, что должно делать, и веду вас к торжеству. Но так как вам хочется погибнуть, идите одни, а я с этого часа от руководства делами отказываюсь.
Сказав так, он отвернулся от других и не хотел более говорить, словно Ахилл, оскорбленный в собрании Ахейских вождей, но это Андрея привело в исступление, и он закричал:
– Ты замолчал, потому что тебе говорить нечего, потому что мы твои ковы разгадали! Я давно догадывался, что ты подослан императором, чтобы погубить нас, и потому нарочно заманил в эту дыру. Ты полагаешь, мы не знаем, что ты даже тайно сносишься с префектом! Ты не апостол, но предатель, и заслуживаешь одного – казни.
Тут поднялся неистовый шум, все вскочили с мест, одни защищали Петра, другие его проклинали и устремлялись на него, как когда-то в курии сторонники Брута на Цесаря, но Петр оставался спокойным и, среди общего смятения, продолжал сидеть неподвижно, презрительно озирая собрание. В порыве гнева старики колоны, забывая латинские слова, выкрикивали свои ругательства на местном наречии, Фома, как одержимый Демоном, размахивал руками и чуть не плясал, то набегая на Петра, то отступая под его строгим взором. Андрей даже схватил тяжелую скамью и замахнулся ею. Опять смятение успокоила Pea, которая своим телом загородила Петра и сказала:
– Как вы смеете бесчинствовать в моем присутствии? Кто я для вас? Не Царица ли я? Не свободна ли я в своем выборе? Если для других я не Царица, то для вас Царица, ибо печать моей царственности – вы в Господине нашем. Я избрала Петра апостолом, и я отвечаю за него. Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Кто властен указывать мне и Богу? Мне известно, кого поставить апостолом, а вам неизвестно. Повинуйтесь, а не мудрствуйте, ибо пути, которыми мы вас ведем, выше вашего понимания.
Слова Реи заставили всех притихнуть, и поднятые руки опустились, но так как ропот продолжался, она добавила пророчески:
– Ждать вам осталось недолго: ныне говорю вам – трижды не взойдет солнце, как вы увидите свое торжество над врагами!
Этот последний довод убедил всех, старейшины медленно расселись по своим местам, избегая смотреть друг на друга, и военный совет возобновился. Но, словно отдав все свои силы на миновавший взрыв, апостолы более не возражали ни на что и теперь без спора согласились с предложениями Петра. Он вышел с собрания, высоко держа голову, как победитель, но я подумал, что, как эпирскому царю, ему было больше славы, чем радости от победы.
Когда в тот день, после богослужения, мы остались вдвоем с Реей, я, выбрав подходящее время, заговорил с нею о Петре и сказал ей, что обвинения Андрея мне представляются справедливыми.
– Мне самому давно подозрителен Петр, – говорил я. – Он не верует ни в Христа, ни в Пришедшего, ни даже в Юпитера, – ни в какого бога. Какие же выгоды может получить от союза с нами этот человек, хитрый, знающий, умный? И его распоряжения, с виду дельные, действительно ведут к тому, чтобы усыпить нашу осторожность и дать возможность префекту одним ударом захватить и тебя, и юношу Люциферата, и с корнем исторгнуть все восстание.
Хотя Pea в ту минуту была возбуждена недавним служением, на котором она, как всегда, говорила к народу, и хотя наш разговор происходил в час ласк, когда, соединив объятия, мы приникали друг к другу на нашем жестком, деревянном ложе, едва прикрытом бараньей шкурой, – девушка, услышав мои слова, задрожала; руки ее разомкнулись, я угадал во мраке, что ее голова упала на грудь, и чуть слышно она прошептала:
– Ты прав, Юний: он нам враг, он эмиссарий Грациана...
– Тогда зачем же ты защитила его сегодня! – воскликнул я. – Надо завтра же объявить народу и старейшинам, что ты уверилась в правоте Андрея. Петра мы схватим, будем судить, казним, избавимся от опасного врага...
Pea тихо мне ответила:
– Часто Бог ведет нас к торжеству путями, которые нам непонятны. Орудие гибели он может сделать орудием спасения. Думая уничтожить нас, этот Петр, быть может, подготовит наше торжество. Он один среди нас знает военное дело, и он один способен руководить сражением. Верю, что козни его распадутся во прах, и сам он удивится, увидев, что послужил к прославлению Пришедшего.
– В твоих словах есть противоречие, Pea, – возразил я. – Сколько раз ты мне говорила, что полагаешься не на силу оружия и не на искусство вождя, а на помощь незримых воинов. И сейчас еще ты вверяешься таинственной силе, которая обратит к добру злые замыслы и коварные козни. Как же при этом ты возлагаешь какие-то надежды на знания Петра, на его умение начальствовать в сражении, на все эти земные ухищрения? Будь смелой, верь только себе и своему делу, и не позволяй себя обманывать, если ты знаешь, что это – обман!
Девушка еще более уныло проговорила:
– Милый Юний, эту веру в себя я теряю. Все, что было истинно и прекрасно в малом кругу, стало иным, когда я пришла к народу. Притворство и ложь опутали меня своими сетями, и я не вижу, каким способом вернуться к истине!
И вдруг, с настоящим отчаянием, она воскликнула:
– Боже мой, Боже мой, почто ты меня оставил!
С этим криком она залилась слезами, упала ничком на постель и билась в рыданиях, потому что скорбь, которую пред людьми ей приходилось сдерживать, нашла свой выход, и, в последней безнадежности, Pea повторяла сквозь плач:
– Гибну, гибну, и все гибнет!
Мы были вдвоем в маленьком домике Реи, где ставни у окон были закрыты, и луцерна погашена, так что непроницаемая тьма окружала нас. Но я как бы видел перед собою маленькое худенькое тело девушки, содрогающееся от судорог, лицо, все залитое слезами, обезумевшие глаза, которые больше нигде не встречали света спасательного маяка. Приникнув к Рее, ощущая грудью теплоту ее груди, чувствуя близ себя все ее тело, ласка которого исполняла меня радостью единственной, я в ту минуту опять испытывал лишь одно: желание утешить плачущее дитя, спасти эту девушку, дать ей полное исполнение ее безумных грез.
Я сказал:
– Pea, Pea, успокойся, приди в себя. Ты меня призвала, как помощника, и я им хочу быть. Дни настали решительные, надо действовать без колебаний. Завтра же мы обличим предателя, и завтра же мы начнем наше дело сначала. Ничего еще не потеряно, и мы еще восторжествуем.
Но вдруг Pea, в неизъяснимом ужасе вырвавшись из моих объятий, соскочила с постели, бросилась прочь, пробежала несколько шагов по комнате и с подавленным криком упала на пол. Я поспешил к ней, высек огонь и зажег лампаду. Pea полусидела на полу и озиралась кругом дико, руками судорожно перебирая свои распущенные волосы.
– Что с тобою? – спросил я в невольном испуге.
– Ты ничего не слышал? не видел, Юний? – спросила девушка.
Я ответил, что нет, и Pea, трепеща, передала мне, что внезапный луч пронизал тот мрак, в котором мы лежали, что некий муж, в сияющем облачении, предстал пред ней, подобный тем, что христиане рисуют на своих изображениях святых, и протянул ей свиток, на котором было написано буквами кровавого цвета: «Завтра ты умрешь». Рассказывая это, Pea содрогалась, как если бы над ней уже был занесен разящий меч, и никогда я не видел такого выражения ужаса, как на ее лице, члены ее ослабли, как у сонной или мертвой, и она едва понимала то, что я ей говорил, – состояние, которое где-то верно описал Цесарь.
Как ребенка, я перенес Рею опять на постель и употребил все усилия, чтобы успокоить и привести в себя. Но девушка долго не могла освободиться от страшного воспоминания, и все ей казалось, что сейчас опять появится лучезарный вестник, возвещающий ей смерть. Я прибег ко всем доводам логики, чтобы доказать Рее, что страх ее напрасен, что видение было не предвестие, посланное неким богом, но лживый сон, гость, прилетевший из Тартара не через роговую дверь, но через дверь из слоновой кости. Я напоминал Рее, что в ту минуту, когда явился призрак, она лежала ничком, и, следовательно, представший существовал только в ее грезах, а не в действительности; что я, находившийся рядом, не видел и не слышал ничего. Не забыл я указать и на то, что ничто не предвещало нам опасности и что завтрашний день, по всем вероятиям, должен был пройти столь же спокойно, как сегодняшний.
Когда Pea несколько успокоилась и стала понимать мои рассуждения, я вернулся к прежнему разговору и вновь стал советовать освободиться от Петра, к которому сам продолжал чувствовать и ненависть, и скрытое раздражение. Потрясенная и утомленная, Pea на этот раз уже не спорила и только слабо возразила:
– Но они, люди, не станут подчиняться мне. Они все же видят во мне только женщину. Вести в бой должен, по их понятиям, мужчина.
Тогда я сказал, и в ту минуту говорить иначе не мог:
– Не бойся и не останавливайся перед этим. Ты забываешь, что с тобою я. Меня ты назвала Иоанном, любимейшим из учеников Господина. Это имя я принимаю и буду его достоин. Это я поведу людей новых на бой с нашим врагом!
Легкий румянец окрасил обычно бесцветные щеки Реи, и она, впервые в ту ночь, подняла на меня глаза радостные и исполненные надежды.
– Итак, ты опять – мой? – тихо спросила она.
– Я – твой, Pea, – ответил я, – опять и навсегда.
VIIIМне, однако, не пришлось привести свой замысел в исполнение. На другой день, рано утром, нас с Реей, уснувших крепко после долгих ласк, разбудили тревожным известием, что в виду Села появились передовые разъезды Римского войска. Когда я вышел на улицу, Петр, с мечом у пояса, в шлеме, в пышном халкохитоне вождя, распоряжался там, раздавал вооружение, назначал места, где кому стоять, женщинам приказывал оставаться в домах и заботиться о раненых.
Было не время перед началом боя подымать неурядицу в наших рядах, и потому я ничем не выдал того уговора, к которому мы пришли ночью с Реей, предоставил Петру начальствовать, но решил следить за всеми его действиями и, по возможности, ни на миг его не выпускать из виду.
– Вот общее желание исполняется, – сказал Петр, завидя меня. – Мы будем сражаться с врагами. Ступай, выбери себе в складе подходящее вооружение и займи свое место у баллисты. Кстати, возьми обратно тот кинжал, о котором ты так жалел: сегодня он тебе может пригодиться.
Петр протянул мне кинжал Гесперии, и я взял его, без одного слова, но когда, невольно, я прочел надпись на его рукоятке: «Учись умирать», – мое сердце сжалось.
По пути в склад оружия мне пришлось идти мимо храма, и, заметив, что Люциферат там один, я зашел поговорить с ним. Юноша был печальнее, чем обыкновенно, так как его пугало предстоящее сражение, он жаловался, что я не исполнил своих обещаний, – не бежал с ним из Нового Села, – а потом, между прочим, сказал:
– Сегодня меня совсем забыли, потому что со мною нет даже Марка: Петр услал его...
Марк был расторопный мальчик, приставленный к Люциферату для услуг, и, изумившись, что такого нужного человека могли куда-то отослать, я стал спрашивать подробности. Оказалось, что накануне вечером Петр призвал к себе Марка, и с тех пор его никто более не видел в Новом Селе. Я вспомнил обвинение Андрея, что Петр тайно сносится с префектом, и мои подозрения еще усилились.
В складе оружия я выбрал подошедший мне круглый шлем с перьями и небольшой круглый щит, а на правое бедро повесил испанский меч. Я не надел панциря, потому что непривычка к нему затруднила бы мои движения, и не взял копья, так как не умел им владеть. В военном одеянии я был, вероятно, довольно смешон, хотя Фива, повстречавшись со мною, и сказала мне лукаво:
– Из тебя вышел очень красивый воин.
Скоро появилась и Pea, в своем алом платье, с змиевидным жезлом в руке; на ее лице не было следа ночных тревог, и она, напротив, казалась радостной, бодрой и уверенной в удаче, как никогда. Величественным шагом Царицы проходила она сквозь толпу собравшегося народа, в кратких словах всем пророчествуя о победе. Петр пошел ей навстречу и сказал:
– Ты, Царица, должна остаться в храме и там молиться о той помощи тайных сил, на которую мы надеемся.
– Нет, – возразила Pea, – мое место среди сражающихся: я буду с ними!
Потом добавила, обращаясь ко всем нам:
– Не была ли я права, говоря, что трижды не взойдет солнце, как мы увидим наше торжество?
Петр насмешливо улыбнулся, но ничего не возразил и стал разъяснять апостолам, что каждый должен делать во время нападения. Старики, нахмурив брови, внимательно слушали объяснения Петра, но, по-видимому, понимали плохо.
Так как к Новому Селу был всего один подступ по тропе, перегороженной валом, то там и была сосредоточена вся оборона. У левого края вала, на выступе скалы, стояла моя баллиста, около которой, за неимением свинцовых ядер, был сложен большой запас тяжелых камней. На самом валу были помещены три отряда: первый – лучников, которые должны были издали поражать неприятеля стрелами; второй – особых бойцов, назначение которых было в том, чтобы на подошедших близко сбрасывать камни, тяжелые балки и лить горячую смолу, и, наконец, третий – наших триариев, которым предстояло, под начальством Фомы, сражаться грудь с грудью с легионариями, если бы они взобрались на самый гребень укрепления. Внизу за валом, на который вели три лестницы, были поставлены свежие отряды, чтобы сменять усталых и убитых, и все мальчики из Села, чтобы служить гонцами и приносить сражающимся новое оружие и боевые снаряды. Всем этим было занято около двухсот человек, а другой подобный же строй ждал наготове, под копьем, своей очереди в глубине Села. И снова я не мог оспаривать распоряжений Петра, вполне дельных и полезных.
Утро прошло в томительном ожидании, которое, как сказал поэт, хуже самого сражения. За это время я несколько раз заговаривал с Реей, но она была, как опьяневшая, и повторяла только:
– Пришел час моей славы. Да прославится Отец в Дочери своей.
Чтобы вернуть Рею к действительности, я напомнил ей о ночном видении, но она возразила:
– То был соблазн Ненавидящего меня. Ложным видением он хотел ослабить мои силы. Но сбудется предреченное пророками. Вижу теперь, что моя судьба ведет меня к великому и что истинны пути мои. Наступает время владычества Пришедшего.
Других речей, кроме подобных восклицаний, я от Реи добиться не мог и оставил ее, занявшись своей баллистой.
Колесница Феба уже высоко вскатилась на склон неба, когда мы увидели первых врагов. На противоположном холме, от которого мы были отделены лощиной, показались всадники в одежде Римских воинов. Наши лучники тотчас пустили в них несколько стрел, но безуспешно, и всадники скрылись. Через некоторое время на том же холме появились скифские стрелки и, прячась за подвижными плутеями, в свою очередь, стали пускать стрелы в наше Село, но, так как расстояние было велико, их стрелы также или не долетали до нас, или бессильно падали на самом валу. Это ободрило всех, и в нашем стане громко смеялись над неудачей неприятеля.
Наконец, на том месте, где утвердились враги, произошло новое движение: вероятно, преодолев большие трудности, легионарии вскатили на холм небольшую катапульту, и нам было видно, как они ее заряжали, как навертывали канат на колесо, как целились в нашу сторону. В эту минуту я впервые ощутил дрожь страха, и мне стало стыдно, хотя я и объяснил себе свою робость просто непривычкой к военному делу. Мы все продолжали наблюдать за действиями Римских воинов, как вдруг с сильным шумом дротик ударился в вал, и на нас полетели комья земли. Почти тотчас же ударил второй дротик, потом третий, и я видел, как побледнели стоявшие около меня юноши. В конце концов, летучее железо нашло свою жертву, – один из наших, неосторожно выставившийся из бойницы, был поражен прямо в грудь и повалился навзничь, стуча щитом и шлемом, как о том прекрасно говорит Гомер: «на падшем доспехи взгремели».
Эта первая смерть на минуту произвела смятение в наших рядах, но Петр громким голосом остановил нескольких, побежавших было прочь. Он приказал всем лучше укрываться за портиком вала и ни в каком случае не выходить под удары стрел. Вместе с тем он распорядился, чтобы в самом Селе женщины запели наш гимн, и звуки этой веселой песни, которую повторяло горное эхо, действительно вливали новую отвагу в сердца. Уже беспечно смотрели мы, как безвредные дротики один за другим вонзались в укрепление, делая его похожим на спину дикобраза.
Я оставался со своим маленьким отрядом близ своей баллисты, и мы пятеро удачно прятались за выступом скалы, откуда хорошо было видно все поле сражения. Pea величественно сидела за валом, на большом камне, как статуя некоей богини, почти не шевелясь, не двигая рукой, в которой сжимала свой жезл. Петр, как истинный полководец, переходил от одного отряда к другому, поднимался и на вал, успокаивал, отдавал приказания.
Около часа передовые отряды префекта осыпали нас дротиками и стрелами, пока не убедились, что не могут этим нанести нам никакого вреда. Тогда послышался звук букцины, и на вершине холма стала строиться пехота. Вероятно, то была целая когорта, которая готовилась идти на приступ. При ярком солнце сверкали шлемы, четыреугольные щиты, выкрашенные все в желтый цвет, оконечности длинных копий легионариев, и было красиво их ровное движение, обращавшее собрание людей в одно целое. Я невольно сравнил это войско с толпою наших бойцов, одетых, кому как случилось, толпящихся нестройно, неумело подымавших свои клипеи, скуты, пармулы, даже пельты, бравших то в одну, то в другую руку самые разнообразные гасты, пилы, лапцеи, германские фрамеи, македонские конты, даже простые спары, или домашние топоры, и почти пожалел, что я не в рядах наших врагов. Плотно сомкнувшись, легионарии спокойно зашагали вниз по тропе, направляясь к нашим высотам, и грозно над их строем высился значок когорты с изображением вепря.
Тогда Петр приказал действовать баллистой; мы привели машину в готовность, положили в нее тяжелый камень, натянули вербер и спустили затвор. Так как много дней мы упражнялись в стрельбе в цель, то промаха не было, и, описав в воздухе дугу, громадная тяжесть рухнула в самую середину быстро двигающегося строя. У меня при такой удаче захватило дух от радости, наши приветствовали восторженными кликами меткий удар, и нам было видно, как несколько человек из числа легионариев повалилось на землю; но другие продолжали идти тем же мерным шагом, опять сомкнув ряды.
Охваченный волнением военного состязания, которое испытывал впервые в жизни, я порывисто приказал вновь зарядить баллисту, и второй камень ударил в подступающего неприятеля, потом и третий, и четвертый. В то же время наши стрелки опять натянули луки и стали посылать вниз стаи стрел, из которых не все пропадали даром. Теперь это мы осыпали врага метательными снарядами, и ликовали, и кричали при каждом успехе. Уже на тропе, ведшей в наше Село, валялись странно скорчившиеся тела в медных шлемах, но когорта, в полном молчании, неуклонно подвигалась вперед, только несколько ускорив шаг, чтобы скорее выйти из-под ударов.
Шагов за двести от нашего вала, когда камни баллисты стали уже бесполезными, легионарии остановились, подняли щиты над головами и, образовав таким образом «черепаху», стали стремительно подыматься наверх. Я до сих пор знал о сражениях лишь по рассказам великих историков и поэтов, и теперь, в первый раз наблюдая, как все это совершается в действительности, испытывал детскую радость и неодолимое любопытство. Я забыл, что сам принимаю участие в бою, все мне казалось какой-то веселой игрой, и, не думая о людях, сраженных, может быть, насмерть камнями моей баллисты, я только любовался стройностью и соразмерностью движений хорошо обученных легионариев. Говоря по правде, душою я был с ними, с этими Римскими воинами, преемниками тех, которые одерживали победы под Замой и при Тиграноцерте, чем с толпой смятенных колонов и пастухов, ободрявших себя чуждыми мне криками: «Слава Пришедшему!», «Змий, свят образ твой!»
Достигнув вала, когорта пошла на приступ. Быстро были приставлены лестницы, и воины стали карабкаться вверх. На них наши, крича неистово, бросали камни и палки, лили кипящую смолу, но они, прикрывая голову щитами, все подымались. В десяти шагах от меня началась рукопашная схватка. Мне было видно, как копья втыкались в живое тело, как мечи разрубали плечи, как люди с воем и стоном валились на землю и оставались лежать в каких-то неестественных и смешных положениях. При этом зрелище новый порыв страха охватил меня, я почувствовал, что бледнею, так как мне представилось ясно, что я испытаю, если вражеское лезвее вонзится в меня, и мне стоило больших усилий остаться на месте, а не броситься бежать прочь, ища защиты где-нибудь за домом. Но когда я боролся с этим постыдным чувством робости, я вдруг увидел, что Pea, в своем алом одеянии, делавшем ее целью всех ударов, появилась на гребне вала, среди бойцов, и, размахивая жезлом, что-то кричит им. В ответ на призывы Реи наши отвечают оглушительным криком, приветствуя Царицу. Убитых тотчас сменяют запасные, и, словно люди, издавна привыкшие к военному делу, эти простые селяне колют копьями, рубят мечами, подставляют щиты под удары, сталкивают наступающих в пропасть. Пристыженный примером Реи, я тоже, преодолев робость, приказал лучникам стрелять в задние ряды когорты, и стрелы опять посыпались на Римских воинов.
Неожиданно я увидел, что один из легионариев, отделившись от строя и правой рукой прикрывая, видимо, раненое плечо, быстро спускается обратно в лощину; через минуту за ним последовал другой, потом еще несколько, – и вот вся когорта обратилась в бегство. Я наблюдал, как центурионы, с золотыми фалерами на груди, пытались удержать бегущих, я слышал звук туб, призывавший к новому приступу, но уже ничто не могло остановить отступления. Неприятели бежали от нашего окопа, одни бросая щит, другие прикрываясь им от стрел, падали, вскакивали, карабкались на окружные уступы, позорно прятались в кустах. Не оставалось сомнения, что мы победили.
Pea, обернувшись с гребня вала к Селу, выкрикивала какие-то слова, которые за общим шумом нельзя было расслышать. Недавние бойцы, в порыве радости, обнимали друг друга и поздравляли с победой. Из Села прибежали женщины и тоже что-то вопили и махали руками. А я, забыв всякую осторожность, выступил из-за своего прикрытия и, охваченный негодованием к бегущим, кричал им зло и бессмысленно:
– Трусы! трусы! трусы! Вы – не Римляне! Это сброд скифов и сарматов! Позор империи, что у нее такое войско!
Когда все несколько успокоилось, когда бегущие удалились от нас на такое расстояние, что мы не могли достать их ни стрелами, ни камнями баллисты, а потом и вовсе скрылись из виду, а в окружающих нас горах снова наступило безмолвие, мы все, оставив стражу на валу, собрались посреди Села на совет. Общее воодушевление к этому времени значительно упало, стоны и проклятия раненых, доносившиеся из домов, заставляли содрогаться, а еще не убранные тела убитых, валявшиеся около вала, красноречиво говорили об том, что может ожидать каждого из нас. Только Фома ликовал, приписывая себе всю честь победы, да Pea как будто не замечала ничего и, с глазами исступленными, ежеминутно поднимая руку к небу, твердила, что этот день оправдал и ее надежды, и ее пророчества.
– Видите, видите, – повторяла она, – что не страшны нам легионы вражеские! От лика моего бегут они и тают, как воск от огня! Победа была суждена нам, и мы получили ее, как дар от Охраняющего нас!








