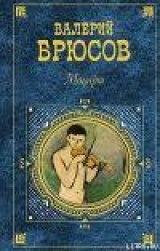
Текст книги "Моцарт (сборник прозы)"
Автор книги: Валерий Брюсов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 47 страниц)
26 сентября
Поездка с Модестом оставила в моей душе неприятное впечатление. Сегодня я уже думала о том, что его требования не то дерзки, не то смешны. Я жалела, что не сказала ему это тогда же. Но мне было слишком хорошо на воле, в лесу, и я была с ним добрее, чем следовало.
Когда сегодня ко мне пришел Володя, я ему обрадовалась искренно. Насколько милее, подумала я, этот ласковый мальчик, для которого блаженство один мой поцелуй и который отдает всего себя, не требуя ничего. На что мне Модест, серьезно говорящий о том, как он убьет меня, если можно так легко, так просто быть счастливой с Володей! Трагедии прекрасны на сцене и в книгах, но в жизни Мариво куда приятнее Эсхила!
Оказалось, однако, что и Володя – тоже мужчина и что все мужчины на один лад. (Давно бы пора мне в этом убедиться!)
Уже по одному тому, что Володя отважился прийти ко мне, я могла догадаться, что случилось нечто особенное. При жизни мужа Володя никогда не бывал у меня в доме. Когда же Володя вошел в гостиную, я увидела, что он расстроен до последнего предела. Такой он был грустный и жалкий, что я, если бы не боялась, что Лидочка подсматривает, тут же схватила бы его за подбородок и расцеловала бы в заплаканные глаза.
Сначала Володя уверял, что ничего не случилось.
– Просто я не видал тебя слишком долго (в самом деле я не была у него целую неделю!). Мне стало недоставать тебя, как в подземелье недостает воздуха. Дай мне подышать тобой.
Я постаралась так обласкать его, что он признался. Впрочем, он всегда в конце концов признавался мне во всем.
Объяснилось, что он получил анонимное письмо, написанное не без грамматических ошибок (может быть, намеренных?), в котором сообщалось, что я – любовница Модеста. Передав мне конверт, Володя, конечно, начал рыдать и уверял, что сейчас же пойдет и убьет себя, так как существовать он может лишь в том случае, если я принадлежу ему одному.
– Глупый! – сказала я ему, – как же ты существовал до сих пор, пока был жив мой муж?
– Ведь ты же его не любила, ведь это была случайность, что ты его встретила раньше, чем меня.
Что было делать? Мне так хотелось, после суровости Модеста, вновь увидеть счастливое лицо Володи, услышать его детские, восторженные клятвы, что я сказала ему все то, чего он втайне ждал от меня. Сказала ему, что письмо – вздорная клевета, что я люблю его одного, что до встречи с ним не знала, что такое истинная любовь, что после этой встречи переродилась, нашла в глубине своей души другую себя, что не быть верной ему мне столь же невозможно, как не быть верной себе самой, что это не моя обязанность, а мое желание, и так далее, без конца...
Володя утешился быстро, поверил безусловно и робко заговорил о будущем.
– Теперь ты свободна. Почему бы нам не уехать за границу? Здесь у тебя столько дел, связей, отношений. Я понимаю, что тебе здесь невозможно открыто признаться в твоей любви ко мне. Я – еще мальчик, тебя могли бы осудить (это он сказал совершенно наивно). Но где-нибудь в Италии, где нас никто не знает, мы могли бы жить друг для друга. Наша жизнь стала бы осуществленной сказкой. День, ночь, дождь, солнце – все было бы для нас счастием...
Ах, глупый, глупый! Он очень мил, как маленькая подробность жизни, но если бы мне опять пришлось провести с ним вдвоем несколько недель, я бы зачахла от тоски и однообразия. Он бы замучил меня и своей невинностью, и своей экзальтацией. Лимонная вода и шипучий нарзан приятны между двумя блюдами, но смысл ужину придают густое нюи и замороженное ирруа.
Я отговорилась тем, что на полгода у меня хватит хлопот по наследству. Месяц – Модесту, шесть месяцев – Володе; что я отвечу, когда сроки истекут? Не брошу ли просто-напросто и маленького ревнивца, и художника-дьявола? Любовь и страсть прекрасны, но свобода – лучше вдвое!
Впрочем, должна была обещать Володе, что приеду к нему нынче вечером.
В тот же день
Странная сейчас была встреча.
Я вернулась от Володи (который, право, растрогал меня своей восторженной нежностью) довольно поздно, за полночь. Мне почудилось, что дверь мне отперли с каким-то промедлением и что у Глаши лицо было совсем заплаканное. Не успела я ее спросить, что с ней, как она доложила:
– Модест Никандрович вас дожидаются.
Действительно, Модест встретил меня в дверях.
– Excusez-moi, mon ami, – сказала я ему, – mais jugez vous même: est ce qu’il me convient de recevoir des visites, le premier mois de veuvage, après minuit. Vous me mettez dans une fausse position [2]2
Простите, мой друг... но судите сами: разве мне удобно принимать посетителей в первый месяц вдовства после полуночи. Вы ставите меня в ложное положение (фр.).
[Закрыть].
Модест извинился и стал объяснять свое непременное желание увидеть меня сегодня. К нему явился Хмылев, требовал денег и угрожал сделать нам какой-то скандал. Опасаясь, что завтра Хмылев придет ко мне, Модест поспешил меня предупредить, чтобы я не поддалась на шантаж этого мошенника.
– Вы опоздали, – сказала я в ответ. – Хмылев уже был у меня, и я ему указала на дверь.
– Поступили умно, как всегда, – сказал Модест.
– Но я совершенно не понимаю, чем он грозит нам, – продолжала я. – Еще при жизни Виктора он мог причинить нам разные мелкие неприятности. Но теперь...
– Конечно, конечно! Вижу, что предупреждать вас не было надобности. Вы все понимаете сами.
Модест поцеловал мне руку и уехал.
Он был явно смущен. Не потому ли он не спросил меня, откуда я возвращалась так поздно? Вообще предлог его ночного визита не показался мне убедительным.
Изумительный человек! Все его поступки, большие и малые, необъяснимы. Никогда не знаешь, зачем он делает то или другое. Быть его женой! да это так же страшно, как быть женой Синей Бороды!
VII29 сентября
Модест, по-видимому, понял, что произвел на меня в деревне неприятное впечатление, и постарался его загладить. Он упросил меня приехать к нему.
В первый раз я ехала к Модесту без лживого предлога, прямо, только не в своем экипаже, а на извозчике. При жизни Виктора, когда у меня было свидание с Модестом, с Володей или еще с кем-нибудь, мне приходилось выдумывать объяснения своего долгого отсутствия из дому. Виктор, конечно, знал, что я ему изменяю, и молчаливым согласием допускал это; когда, возвращаясь, я ему говорила иной раз, что была у портнихи или доктора, он был уверен, что я говорю неправду. Всё же мы считали нужным сохранять эту условную ложь и почувствовали бы себя очень неловко, если бы она была изобличена... Теперь же мне никому не надо было давать отчета – разве только Лидочке, которая все последнее время ревниво следит за моими поступками.
Квартира Модеста оказалась словно преображенной, только потому, что по стенам он развесил свои картины, которые раньше все были собраны в его студии, куда и меня он допускал с великой неохотой. Теперь на входящего со всех сторон глядят странные женщины, созданные Модестом: со спутанными белокурыми волосами, с глазами гизехского сфинкса, с алыми губами вампира. Они то кружатся в пляске вокруг дерева с гранатовыми плодами, то лежат, обессиленные, на мраморных ступенях гигантской лестницы, осененной кипарисами, то, бесстыдные, ждут на широких, тоже бесстыдных, ложах своих жертв... И взоры этих женщин, или этих призраков (не знаю, как точнее назвать), отовсюду обращаются на посетителя, фиксируют его, гипнотизируют его.
Модест, с моего первого шага у него, окружил меня всеми проявлениями ласки и поклонения. Отворив мне дверь, он стал предо мной на колени; полушутя, он поцеловал подол моего платья. Он смотрел на меня влюбленными глазами и называл меня своей царицей. Вкрадчивым голосом он читал мне любовные стихи каких-то провансальских поэтов: смысла стихов я не понимала, но чувствовала, что все хвалы трубадуров своим дамам Модест относил ко мне.
Модест, когда хочет, умеет быть нежным, как никто другой. Его пальцы прикасаются с набожной ласковостью; его поцелуи становятся богомольно страстны; он словам, почти непристойным, придает все благоговение молитвы... Или, по крайней мере, таким он мне кажется... В конце концов, я ведь женщина, и когда мне исступленно клянутся в любви, когда меня целуют восторженно, когда кто-то предает меня страсти – я уже не могу рассуждать и анализировать. Для каждой женщины, все равно – исключительной или обыкновенной, утонченной или простой, в наши дни или десятки тысячелетий тому назад, – мужчина, обладающий ею, в минуту страсти кажется владыкою, достойным изумления и поклонения...
Модест, пока я была у него, ни разу не напомнил мне о нашем разговоре в Любимовке. Только потому, что он решительно избегал малейшего упоминания о перемене, происшедшей в моей судьбе, видно было, что в его душе ничего не изменилось с того дня. Но когда мне пора уже было уезжать, Модест достал из книжного шкафа прекрасный географический атлас и стал его перелистывать. Я с некоторым недоумением разглядывала великолепно литографированные карты...
Дойдя до карты южной Италии, Модест показал мне маленький островок, оторвавшийся от всякой земли, Устику, и сказал:
– Если через месяц ты скажешь мне, что быть со мною не хочешь, я уеду сюда и буду здесь жить до моего конца.
– Что за нелепая мысль, Модест!– возразила я. – Зачем тебе жить на какой-то Устике! Почему не на острове святой Елены, или не на Яве, или просто не в Париже?
– Я еще мальчиком читал об этой Устике, не помню уже где. Меня описание поразило, и в детстве я часто мечтал, что поеду на эту Устику. Как-то незаметно Устика стала для меня символической страной красоты и счастия, какими-то Гесперидовыми садами... После того я много раз бывал в Италии, но никогда не попадал на Устику; туристам делать там нечего, да мне и жаль было разрушать мои детские иллюзии. Но теперь, когда я подумал, что, может быть, мне придется выбирать на земном шаре одну точку, на которой доживать свою неудавшуюся жизнь, – я решил бесповоротно, что лучше Устики не найду ничего. Там, конечно, синее небо, шумный прибой, красивые скалы, стройные люди; мне ничего другого и не будет надо.
Мне показалось обидно, что Модест хочет запугать меня, как шестнадцатилетнюю барышню, и я ответила не без сухости:
– Полно, Модест! Лесть твоя изысканна, но ты не убедишь меня, будто я занимаю в твоей жизни важное место. Если в самом деле я от тебя уйду, брошу тебя, как говорится, ты очень спокойно уедешь в Париж, будешь писать свои картины и переживешь еще десяток романов. Не повторяй только своим будущим возлюбленным тех слов, что сказал мне: они не поверят им также.
Модест внезапно принял очень серьезный вид и сказал:
– Милая Талия! Я человек немного не такой, как все. И я оставляю за собою право любить не так, как все. Мне надо, чтобы моя любовь к тебе получила в полном объеме все, чего она хочет. Без этого я жить не хочу и не могу. Я сожгу все мои картины, я раздам свою библиотеку, я не возьму больше кисти в руки, и если останусь жить, то лишь потому, что презираю самоубийство. Ты понимаешь сладость крупной игры, когда игрок рискует всем своим состоянием? Так вот и я на карту моей любви к тебе поставил всю свою жизнь...
Верил ли сам Модест в свои слова? Сомневаюсь. Он – человек слишком сильный, слишком многогранный, чтобы в любви видеть весь смысл жизни. Угрозами и лестью он просто думал вырвать у меня мое согласие...
Но даже если бы то, что говорил Модест, и было правдой! Неужели только затем, чтобы он не совершил над собой «художественного самоубийства» (так это придется назвать?), я должна выйти за него замуж? Боже мой! я молода, хороша собой, богата – зачем же я отдам все это в чужие руки? Почему о Модесте я должна больше думать, чем о себе самой?
Ну да, Модест мне нравится, вернее, меня восхищает в нем редкое сочетание ума и таланта, силы и изысканности. Но разве я могу быть уверенной, что он мне будет нравиться всегда, что не изменится он или не изменюсь я? Я испытала, что значит жить с мужем, который ненавистен. Но Виктор, по крайней мере, оставлял мне полную свободу, а Модест требователен, жесток, ревнив...
Я хочу сохранить себе Володю надолго, на несколько месяцев, кто знает, может быть, на несколько лет. Я хочу иметь и право, и все возможности любить того, кто еще мне понравится и кому я понравлюсь. Как бы ни была глубока и разнообразна любовь одного человека, он никогда не заменит того, что может дать другой. Иногда один жест, одно слово, одна интонация голоса стоят того, чтобы ради них кому-то «отдаться».
В тот же день
Сейчас получила анонимное письмо. Неизвестный автор, подписавшийся, как это водится, «ваш доброжелатель», пишет, что ему известно, кто убил моего мужа, и предлагает мне, если я желаю «проникнуть в эту тайну», вступить с ним «в соответствующие переговоры». Адрес дан на poste-restante, на какие-то литеры. Сначала я подумала передать письмо судебному следователю, но потом предпочла разорвать и бросить в корзину. Нет сомнения, что это письмо писала та же рука, что и донос Володе.
Но странно все же, что меня лично нисколько не занимает вопрос, кто убил мужа. Виктор как-то совершенно бесследно исчез из моей души. Словно с аспидной доски тщательно стерли влажной губкой то, что было на время написано. Порой, задумавшись, я совсем забываю, что почти шесть лет жила с мужем, что у нас был ребенок, что несколько раз вдвоем ездили мы за границу, что вообще множество моих воспоминаний должно быть тесно связано с Виктором. Положим, я его не любила, но каким же все-таки был он ничтожеством, если так легко оказалось вынуть его и из моего настоящего, и из памяти о прошлом, и из мечтаний о будущем! Впрочем, это ничтожество Виктора было для меня, при его жизни, благодеянием!
VIII1 октября
Приезжала maman чтобы, по ее словам, «серьезно говорить со мной». Объяснение вышло тяжелое и скучное, но принять его во внимание приходится.
Вот приблизительно наш разговор:
– Ты ведешь себя невозможно, Nathalie! Месяца не прошло со дня смерти твоего мужа, человека достойнейшего, который обожал тебя, а ты уже заставляешь говорить о себе всю Москву. Тебя по целым дням не бывает дома. Ты принимаешь у себя мужчин в час ночи. Ты бог весть куда ездишь на открытом извозчике, когда у вас есть лошадь. Это все прямо неслыханно.
– Откуда вы все это знаете, maman?
– Заметь себе, что всегда бывает гораздо больше известно, нежели ты думаешь.
– Во всяком случае я вышла из возраста, когда водят за руки. Я – совершеннолетняя и могу жить, как мне нравится.
– Я – мать. Предупредить тебя – это моя обязанность. Ты сейчас бравируешь мнением общества. Но позднее ты очень пожалеешь, что восстановила его против себя. Ты думаешь, что весь свет в одном окошке, что можно всю жизнь прожить одним художником...
– Maman, вы касаетесь личностей, это неуместно.
– Когда мать говорит с дочерью, все уместно. Ты полагаешь, что о твоей связи не говорят кругом. Совершенно не понимаю, зачем ты ее афишируешь. Никто не требует от тебя ангельской добродетели, но все вправе ждать, что приличия будут соблюдены.
В конце концов, чтобы кончить, я сказала:
– Позвольте вам объявить, maman, что по прошествии года траура я выхожу замуж за Модеста Никандровича Илецкого.
Maman, кажется, не притворяясь, побледнела.
– Но ты с ума сошла, Nathalie! Он бог знает из какой семьи, без роду, без племени, без всякого состояния, притом он сумасшедший!
Последнее слово она произнесла с расстановкой: су-ма-сшед-ший!
– Неужели вам больше нравится, чтобы мы жили в незаконной связи?
– Ты меня не понимаешь. К этому я могу отнестись снисходительно. Я допускаю порывы молодости. Но есть ошибки непоправимые. Никогда не надо делать последнего шага. Зачем доводить что бы то ни было до последней черты? Благовоспитанность состоит в том, чтобы ничем не отличаться от других.
Maman читала мне свои наставления часа два. Когда она, наконец, уехала, у меня сделалась мигрень. Меня мучили не то мысли, не то сны, не то видения. Мне представлялось, что мы с Модестом в каком-то парке, чуть ли не в Булонском лесу, ищем уголок, чтобы свободно остаться вдвоем. Но едва он меня обнимает, появляется толпа знакомых, предводимых maman, и все указывают на нас со смехом. Мы убегаем на другой конец парка, но там случается то же. Так повторяется много раз, причем всегда нас застают в особенно неожиданных, постыдных позах. Этот кошмар измучил меня до полусмерти.
Maman – злой гений всей нашей семьи. С раннего детства она учила меня и сестер лицемерию. Воспитание она нам дала самое поверхностное. Развратила она нас с ранних лет, чуть не подсовывая откровенные французские романы, но требовала, чтобы мы прикидывались наивными дурами. Сама она по своему девичьему паспорту дочь коломенского мещанина, а выйдя замуж за отца, мелкого чиновника из захудалой дворянской семьи, стала играть роль аристократки и нас учила гнушаться людьми «низкого» происхождения. С пятнадцати лет она начала нас тренировать и натаскивать (иначе не умею назвать) на ловлю женихов и двоих старших устроила превосходно; устроит и Лидочку...
Если теперь maman приходит ко мне и заботится о моей нравственности, то потому только, что мне досталось от Виктора состояние. Мать боится, что эти деньги попадут в руки какого-нибудь сильного мужчины. Она предпочитает, чтобы ими владела я, у которой она, конечно, сумеет выманить и вытребовать все, что ей себе желательно получить. Она предпочтет, чтобы у меня были десятки любовников, только бы я не вышла замуж за Модеста.
А для меня нет ничего столь ненавистного, как понятие – мать. Проклинаю свое детство, проклинаю первые впечатления жизни, проклинаю все свое девичество – балы, гуляния, дачные романы, обмен любовными записочками! Все или было обманом, подстроенным матерью, или было отравлено ее клеветой на жизнь и на людей. Мать готовила меня к одному: к разврату и к торговле собой. О! как еще я не захлебнулась в той грязи, куда вы заботливо кинули меня, на ловлю житейского благополучия, мать!..
.............................................................
А все же о словах матери надо подумать. По-видимому, добровольных шпионов больше, чем мы предполагаем, и у наших добрых знакомых достаточно досуга, чтобы следить, куда и на каком извозчике мы едем. Придется, пожалуй, скрепя сердце, затвориться на время траура, как в монастыре; я вовсе не хочу, чтобы на меня показывали пальцами. Только не лучше ли, по совету Володи, уехать в Италию да и его прихватить с собой?
IX6 октября
Почти неделю просидела я дома и чуть с ума не сошла от тоски. Больше сил моих нет выдерживать этот траур.
Сначала я занялась было тем, что отдала визиты родственникам и более близким знакомым, посетившим меня с изъявлениями соболезнования. Разговор о модах предстоящего сезона интересовал меня в первом доме, у Мэри, уже томил во втором, у Катерины Ивановны, и из себя вывел, когда с ним же ко мне обратилась сухопарая Нина, искренно воображающая себя красавицей и наивно говорящая: «у нас, у красивых женщин...»
Потом я попробовала разобраться в делах, оставшихся после мужа. Мне передали ворох счетов, меморандумов, заявлений, отношений и бог знает еще чего. Надо было уяснить себе, какие бумаги переменены, какие нет, по каким проценты получены, по каким нет, какие застрахованы, какие вышли в тираж, сколько рублей лежит на текущем счете и сколько на вкладе, – я во всем этом безнадежно запуталась. В конце концов, дала полную доверенность дядюшке Платону: пусть и здесь он, еще раз, наживет с меня...
По вечерам, когда делать было нечего, я заставляла Лидочку читать мне вслух романы, которые подобает читать и ей (хотя тайком она, конечно, давно прочла и Мопассана, и Катюлля Мендеса, и Вилли, и, вероятно, еще кое-что посильнее). Она читает тоненьким голоском, временами посматривая на меня влюбленными глазами (она меня очень любит), а я думаю о Володе и жалею, что читает мне не он. Так прочли мы длиннейший роман Троллопа, нашедшийся в нашей библиотеке, «Малый дом», который да отпустит ему господь в ряде всех других его прегрешений!
Единственная польза, какую принесло мне мое заточение, это та, что у меня оказалось достаточно свободного времени – обдумать свое положение. Первые дни по смерти Виктора я жила как сумасшедшая, как-то не думая, что надо начинать новый период жизни. Теперь же я обсудила все внимательно и осторожно, и вот мой окончательныйвывод:
За Модеста замуж я ни в каком случае не выйду. Совершит ли он после моего отказа самоубийство или не совершит, мне до того дела нет. Модест – зверь опасный, от него можно всего ожидать, и я не хочу каждый вечер класть голову в пасть тигру, хотя бы до поры до времени и ласковому. Но как только кончатся хлопоты по введению в наследство, я уеду за границу, на Ривьеру или в Швейцарию, и год или другой отдохну от своей замужней жизни. Мне надо стряхнуть и смыть с себя всю эту грязь, что пристала ко мне за годы вынужденного разврата... Что дальше делать, это будет видно.








