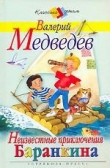Текст книги "Сверхприключения сверхкосмонавта"
Автор книги: Валерий Медведев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
– А вы знаете, – сказал я, – учёные говорят, что коэфициент полезного действия мозга человек использует на шесть процентов!
– Значит, у всех шесть, а у тебя шестью два – двенадцать? спросил отец.
– А если шестью шесть – тридцать шесть? – спросил отца я.
– Это что же получается? Феномен Иванов, что ли? – вмешался в разговор дядя Петя,
– Так, так, так! – сказал дяди Петин знакомый. – Ах, вот в чем дело, в процентах!
– А по-моему, это какой-то трюк, – сказал дядя Петя. – Вот мне рассказывали, что на экзаменах по гражданскому праву на юридическом факультете Геттингенского университета один из студентов, получив экзаменационное задание, сразу же попросился выйти. Ну, вышел и вышел. Там по правилам во время экзаменов можно покидать аудиторию, поскольку в такие дни специальные надзиратели, на всякий случай, дежурят повсюду, даже в туалетах. Они и разоблачили злоумышленника, когда он в кабинке "тихо разговаривал сам с собой". Оказалось, что в ручных часах студента был вмонтирован мини-передатчик, а под курткой спрятан миниатюрный радиоприёмник. Студента к дальнейшим экзаменам не допустили, но, отдавая дань его инженерному таланту, комиссия порекомендовала ему заняться изучением технических дисциплин. Дело в том, что приёмно-передаточное устройство, «радиошпаргалку», этот будущий юрист сконструировал и собрал сам. Юра, встань, я тебя обыщу. Может, у тебя тоже что-нибудь вроде этого.
Я встал и позволил себя обыскать.
– Нет, это какой-то сверх… сверх… сверх… – сказал отец.
"Ну-ну, папа, поднатужься, ну, догадайся, кто у тебя сын, ну…" – хотелось мне сказать отцу.
– Это какой-то сверхумный, сверхзагадочный сверхбезобразник!
– Знаете, что, ребята, я хочу в конце нашей беседы внушить вам очень полезную мысль, – сказал я.
И эти слова просто взорвали моего отца.
– Минуточку! – воскликнул отец. – Что здесь происходит? Кто кого проверяет? Кто в ком разбирается? Кто кого воспитывает? Кто и что кому внушает? И кто кого здесь гипнотизирует?
"Ах, вот в чём дело! – мелькнуло у меня в голове. – Отец пригласил к себе на помощь не просто врача, а гипнотизёра".
– Нет, ему в нормальном состоянии ничего внушить невозможно, я вас очень прошу, загипнотизируйте Юру, с его согласия – сказал отец. – Ты согласен загипнотизироваться? – спросил меня отец.
– Конечно, согласен, – сказал я, – если дело приняло такой оборот.
– Вы согласны его загипнотизировать? – обратился отец к дяди Петиному знакомому.
– Я согласен, – ответил дяди Петин знакомый. – Но я не убежден, поддастся ли он гипнозу.
– Поддамся, поддамся, – успокоил я гипнотизёра.
– И когда будешь загипнотизирован, дашь нам всем честное слово, что ты с завтрашнего дня станешь учиться умеренно и получишь по какому-нибудь предмету хотя бы тройку!… Вы можете внушить ему, обратился папа к дяди Петиному знакомому, – что он… нет, уж лучше в спящем состоянии вы объясните, для чего это всё нужно!
Мы ушли с дяди Петиным знакомым в мою комнату, и ровно через полчаса я как ни в чем не бывало вернулся в столовую. Дядя Петя и отец сидели не сводя глаз с дверей моей комнаты. Увидев, что я вышел из комнаты один, отец спросил;
– А где же доктор?
– Он спит, – сказал я.
– Как спит?! – вскрикнули в один голос отец и дядя Петя.
– Очень просто. Я его загипнотизировал.
– Как ты его загипнотизировал? – не понял отец.
– Но он не смог меня загипнотизировать, а я его смог, – объяснил я. – Он со мной разговаривал, потом стал говорить: спать, спать, спать! Но ты же знаешь, папа, что сегодня по расписанию у меня сон в десять часов, а сейчас только половина пятого.
– Ну, всем досталось, и гипнотизёру больше всех! – захохотал дядя Петя и всё хохотал и хохотал до слез.
Не знаю, товарищи потомки, что здесь было смешного?!
– Разбудить, – закричал отец, – разбудить гипнотизёра, сейчас же разбудить!
– Пожалуйста, – сказал я, – разбудить так разбудить.
Мы втроем прошли в мою комнату, и отец с дядей Петей увидели гипнотизёра, лежащего на моей кровати в глубоком сне.
– Пациент находится, – сказал я, – в глубоком гипнотическом сне третьей стадии. Обычно различают три степени глубины гипноза: сонливость, гипотаксию и сомнамбулизм. При сонливости наблюдается лёгкая дремота и общее расслабление мускулатуры. При гипотаксии, характеризующейся угнетением произвольных движений, часто отмечаемся так называемая восковидная гибкость мускулатуры – каталепсия, то есть такое состояние, при котором рука, нога или голова загипнотизированного долго сохраняют приданное им искусственное положение. Сомнамбулическая стадия – это стадия наиболее глубокого гипноза. Во время сомнамбулизма загипнотизированному можно внушить различные зрительные, слуховые и обонятельные так называемые галлюцинации.
– Перестань хоть сейчас читать лекцию и немедленно разбуди доктора, – сказал отец в отчаянии.
– А может, мозг-то работает у Юрки не шестью шесть – тридцать шесть, – услышал я за своей спиной. – Может, шестью восемь – сорок восемь? – тихо сказал дядя Петя.
– Что происходит? Ничего не понимаю! – тихо воскликнул отец.
– Таблица уважения происходит, – объяснил я отцу и неожиданно открыл дверцу шкафа. В шкафу сидели Кириллов-Шамшурин и Данилова. – Выходите… заговор обреченных! – И я стал выводить доктора из третьей стадии гипнотического сна.
ВОСПОМИНАНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ. Оказывается, я знаю даже то, чего я не знаю
Я, дорогие товарищи потомки, уже натянул на себя куртку и подумал, что меня уже давно никто не атакует стихами. И только об этом подумал, как тут же обнаружил в правом кармане куртки свёрнутый листок бумаги. Я извлёк его из кармана и развернул. Ну конечно же, это были стихи! Стихи назывались загадочно и на этот раз имели прямое отношение к космосу. Посудите сами: название стихотворения было такое – «На далёкой звезде, на Збюне». Затем шли такие, с позволения сказать, четверостишия:
Тишина кораблём завладела,
Космонавт прикоснулся к струне,
И гитара чуть слышно запела
На далёкой звезде, на Збюне,
За бортом ветерок не подует
Ручеёк не споёт о весне…
Космонавтов гитара волнует
На далёкой звезде, на Збюне.
Видно, парень влюбленный мечтает
О глазах голубых на Земле,
Под гитару он их вспоминает
На далёкой звезде, на Збюне.
А второй вспомнил иву родную,
Вспомнил мать в приоткрытом окне,
И гитара с ним вместе тоскует
На далёкой звезде, на Збюне.
Третий видит поля в дымке синей
И скучает по мягкой траве,
И гитара поет о России
На далёкой звезде, на Збюне,
Зеленеют луга заливные…
Звездолётчик коснулся струны,
Шлет гитара свои позывные
*
Дочитав стихотворение, я косо наложил на тексте следующую резолюцию: «Никакой звезды Збюны нет. В стихотворении речь идёт о космонавтах, следовательно, ко мне, сверхкосмонавту, всё это не имеет никакого отношения». Затем я спрятал текст стихотворения в папку моих воспоминаний, чтобы вечером зашифровать, и, выскочив на улицу, побежал в школу на просмотр самодеятельного концерта. По дороге заглянул к одному парню за мешком с догрузом. Дело в том, что я занимаюсь планёрным спортом в молодёжном составе (под фамилией Нестеров!) Но для полётов не хватает у меня веса, и вот для погрузки мне ещё и одному парню прописали по мешку спрессованных опилок. Взяв мешок, я по дороге от дома до самой школы декламировал то единственное, что я считаю в жизни стихами, а декламировал я вот что:
"Померкли алые краски весеннего заката. На потемневшем небосклоне выступает звёздная россыпь. В южной части неба сияет зодиакальное созведие Льва. Над ним – известное ещё с детства созвездие Большой Медведицы. Несколько ниже – созвездие Волосы Вероники.
Левое созвездие Льва, на юго-востоке, повисло зодиакальное созвездие Девы с голубовато-белой звездой Спикой. Созвездие Девы весьма интересно. В этом направлении сосредоточено грандиозное скопление галактик. Число этих далеких звездных систем достигает двух тысяч пятисот.
Среди них выделяется эллиптическая галактика М87, обладающая огромной массой, значительно превышающей массу такой гигантской галактики, как туманность Андромеды".
По дороге в школу меня вообще-то ничего не беспокоило. Единственное, что меня немного беспокоило – это то, что дни перед этим днём и весь этот день были у меня так заняты и загружены, что я не успел даже мельком хотя бы перелистать учебники и материалы, необходимые для встречи с участниками театральной самодеятельности. У них ведь тоже есть свои учёные записки, учебники и всевозможные пособия. Положение было почти безвыходным, но у нас у сверхкосмонавтов, безвыходных положений не бывает.
"Посмотрим, посмотрим, – подумал я, – какой же у меня будет выход из этого безвыходного положения".
Вбежав в здание школы, я в несколько прыжков поднялся по лестнице к актовому залу. Возле дверей актового зала стоял целый отряд учеников, охраняющих вход в школьный храм самодеятельного искусства.
Я остановился, чтобы оценить обстановку. Маслов и Лев Киркинский посмотрели на меня и многозначительно переглянулись. Лена Марченко с Даниловой Верой тоже переглянулись и сделали большие глаза.
– Те же и Всесторонний, – сказал Лев Киркинский.
"Так, ещё одно прозвище", – подумал я, не обращая внимания на слова Киркинского.
– Ну, что нового? Какие новые безумные идеи носятся в нашем воздухе? – спросила Вера Лену Марченко.
– В воздухе носится такая безумная идея, – сказала Лена Вере, – что когда ты не спишь, то ты спишь, а когда ты спишь, ты не спишь!..
– Эта идея безумная! – согласился с девчонками Маслов.
– Но достаточно ли она безумна, как сказал Нильс Бор, – вопросил всех Лев Киркинский, – чтобы быть воистину гениальной?
При этом разговоре все, конечно, не сводили с меня глаз, а точнее, с догрузочного мешка. Я поставил его перед собой на ступеньку лестницы.
– Ещё одна загадка, – сказала Вера Данилова, – мешок… Что это за мешок? И что бы это значило?
– По-моему, это исторический мешок, которым кто-то когда-то кого-то из-за угла прибил, – предположил Киркинский.
Я, конечно, мог прихлопнуть Киркинского сразу, лично, но мне нужно было прихлопнуть сразу всех.
– Римский поэт и сатирик Ювенал около двух тысяч лет назад писал, – сказал я, обращаясь ко всем и в особенности к Кутыреву, который то выглядывал из-за широкой спины Маслова, то скрывался, – что люди, слоняющиеся без дела (слова "слоняющиеся без дела" я подчеркнул интонацией), требуют только хлеба и всяческих зрелищ!.. – С этими словами я попробовал пройти в актовый зал. Но охрана, сплотившаяся вокруг Маслова, не пустила меня.
– Всесторонним и посторонним вход воспрещён, – сказал Маслов, обращаясь ко мне. – Посторонним в том смысле, кто не участвует в спектакле.
– У вас здесь будет генеральная репетиция? – спросил я Маслова.
– Генеральная, – подтвердил Маслов.
– А знаешь, почему она называется генеральная? – спросил я у Маслова.
– Почему? – спросил Маслов.
– Потому, что на этой репетиции буду присутствовать – я, генерал Иванов. Я вообще удивлен, что не получил пригласительного билета на генеральную репетицию. Вам бы следовало пригласить меня, посоветоваться со мной, получить, в конце концов, моё разрешение.
– Крупноблочная мысль, – сказал Лев Киркинский.
– А что ты от него хочешь? – удивился Маслов. – Ведь он сейчас спит, а во сне человек не отвечает за свои слова и поступки.
"Что такое? Что такое? Что такое? – запрыгало у меня в голове. – Откуда они знают о сне наяву, и о яви во сне? Идёт утечка информации, но каким образом и откуда?" Я снова попытался пройти силой в актовый зал, не очень идя на обострение, но меня снова не пустили.
– Вы что, хотите, чтобы в воздухе появились неопознанные летающие предметы? – спросил я.
– Потомок Чингис-Хама, – сказала Лена Марченко.
– Частица нейтрино, – сказал я, – не вступает в реакцию ни с кем и ни с чем на свете.
– Вот тебе за всё пора бы и голову оторвать, – сказал Маслов.
– Есть такие… так называемые, я даже не знаю, как их назвать, ну, одним словом, планарии. Если у планарии оторвать голову, она у неё снова отрастает, – возразил я.
– У планарии отрывать голову не стоит, – сказал Лев Киркинский, – а у тебя стоит.
– Когда вы успеете, я не говорю – сможете, оторвать мне голову, к тому времени она у меня уже будет регенерироваться.
– А неужели и вправду есть такие, планарии, что ли? – спросила меня на этот раз вполне серьёзно Вера Данилова. – Я думала, что только у ящериц хвост отрастает.
– Да, есть! Когда оторванная голова будет отрастать, я вам позволю оторвать свою голову, чтобы продемонстрировать.
– Представляю, как это будет ужасно, – сказал Виктор Маслов, две головы Юрия Иванова! Тут от одной-то столько неприятностей а там две!.. Хоть с планеты Земля убегай!..
– Ребята, да пропустите вы его, – сказал Кутырев, – его всё равно не переговоришь.
Я вскинул догрузочный мешок на плечи и…
– А это, – спросил Кутырев, скосив глаза на мой мешок с прессованными опилками, – это у тебя не взорвётся?
– Если мне ваши штучки-мучки понравятся, то не взорвётся…
– Но он же действительно посторонний, – остановил мое продвижение Маслов, – посторонний для нас и для всего нашего дела. Я понимаю, что, если бы он что-то понимал в театре…
– Когда с ним дерёшься, – поддержал Маслова Киркинский, – то от него действительно можно что-то почерпнуть. А тут… Чего он будет нам глаза мозолить!?
– Я, конечно, в ваши дурацкие игры не играю, но я знаю правила всех, даже самых дурацких игр!
– Сказал мистер Икс плюс Игрек минус Зэт… – съязвила Марченко
– Знаешь, Иванов, – сказал Борис Кутырев, – хоть мы и считаем тебя всесторонне развитым человеком, но в твоём развитии есть ущерб и предел. Зачем ты лезешь к нам на репетицию, ничего в ней не понимая?
– Ты же в системе Станиславского ни бум-бум, – поддержал Кутырева Лев Киркинский, – а у нас здесь собрались звезды школьной самодеятельности.
– Так, – остановил я Киркинского одновременно волевым жестом и ещё более волевым взглядом. – Значит, вы звёзды школьной самодеятельности и, как звёзды, вы считаете, что я не знаю теории Станиславского?
– Да, мы в этом убеждены, – заупрямился Киркинский. – Читал ты умопомрачительного много и знаешь только то, что знаешь и сколько знаешь, но не больше, но о системе Станиславского, я убеждён, ты не имеешь никакого представления.
– Ты, Киркинский, прав только в одном: в том, что я не изучал систему Станиславского, не изучал, но… – я обвел звёзд школьной самодеятельности телескопическим взглядом и добавил: – Но я её знаю назубок.
Наступила такая, я бы сказал, фокусническая пауза, во время которой со мной случилось что-то удивительное для меня, хотя я и привык ничему не удивляться в себе. Во мне возникло ощущение, что я знаю и прекрасно разбираюсь в системе Станиславского. Это ощущение переросло у меня в уверенность, что я действительно знаю и разбираюсь в системе Станиславского, хотя я и ни разу не брал в руки книгу об этой системе.
Кажется, удалось выжать из моего мозга в смысле КПД ещё часть капэдэшек! Это вам уже не шестью шесть, как сказал дядя Петя, это уже, может быть, все шестью восемь.
То, что произойдёт дальше, дорогие товарищи потомки, я должен сначала объяснить. Сначала для самого себя, а потом и для вас.
Как могло случиться, что я, не изучая систему Станиславского, вдруг прекрасно в ней разбираюсь? Как это получилось? Вычислительная машина может решать любую математическую задачу, начиная с таблицы умножения и кончая самыми невероятными интегралами, так как всякое, даже самое сложное решение есть точная комбинация всевозможных цифр. Вот и мои знания о системе Станиславского родились сами собой из какой-то таинственной таблицы уважения к знаниям, накопленным человеком, таблицы уважения, которой мой мозг, вероятно, владел чисто механически. Ведь любое знание – это тоже точная комбинация точных слов.
– Значит, вы считаете, что я не знаю систему Станиславского? Я обвёл взглядом всё созвездие школьной самодеятельности.
Все смотрели на меня с недоверием, и больше всех сомневался в моих словах Арутюн Акопов – звезда фокусов и самодеятельной манипуляции. Последний фокус, который он показывал вчера в классе перед уроком, он назвал: "Законы физики не уважая". Фокус в общем-то ерундовый. Акопов клал на ладонь линейку, потом переворачивал ладонь к полу, и линейка по законам гравитации падала на пол. Потом он снова поднимал линейку, снова клал её на ладонь и опять переворачивал ладонь к полу, И на этот раз линейка не падала на пол.
– В общем-то в каждом деле есть свой фокус, – сказал я, обращаясь больше всего к Акопову. – Твой фокус, Арутюн, заключается в том, что у тебя пришита к манжете и надета на средний палец тонкая прочная нить под цвет кожи. Вот под эту нить ты второй раз, чуть сгибая ладонь, незаметно подсовываешь линейку. – Я помолчал и продолжил: – Но в системе Станиславского нет фокуса, в ней есть секрет. А секрет этот заключается в том, что… – Я снова сделал паузу, напоминающую многоточие, и продолжал: – Взгляды Станиславского на мастерство актёра складывались на основе реалистических традиций русского театрального искусства XIX века, заложенных творчеством Александра Сергеевича Пушкина, Николая Васильевича Гоголя, Александра Николаевича Островского и нашедших воплощение в игре Щепкина, Шумского, Мартынова, Садовского, – перечислял я фамилии, и это перечисление доставляло мне истинное удовольствие.
Затем я сказал, что он, то есть Станиславский, стремился постигнуть общие законы актёрского творчества. Потом я остановился на том, что у него была (и я чуть было не сказал: "как и у меня") большая склонность к самоанализу, о чём свидетельствуют его дневники (и я чуть было не сказал: "как и мои"). Но здесь меня неожиданно перебил голос Льва Киркинского:
– У меня есть слабая надежда, что ты, Иванов, не знаешь, в каком году встретился Станиславский с Немировичем-Данченко?
– В 1897 году, – сказал я, набрав побольше воздуха, – произошла встреча Станиславского с Немировичем-Данченко, – в результате которой возникло решение…
– Пропустите Всестороннего, – сказал Кутырев, бледнея и хватаясь за перила лестницы. Маслов отошел от двери, и я, рванув её на себя, вступил в актовый зал.
– Ты видел, как летает моль? – спросил меня Маслов, увязавшийся за мной.
Я остановился. Маслов прочертил указательным пальцем в воздухе глупо запутанную линию.
– Так и мысль твоя, её путь проследить невозможно… Вот ракета летит и… моль летит тоже. А какая разница! – бубнил он, идя следом за мной.
Но я его уже не слушал. Я уселся в седьмом ряду. Хотя я и предупредил, войдя в актовый зал, всех участников генеральной репетиции, что я пришёл, и поэтому можно начинать, и хотя Борис Кутырев несколько, как мне показалось, несерьёзно повторил за мной мои слова: "Иванов пришел! Можно начинать!", но генеральная репетиция никак не начиналась. Всё время кого-то или чего-то не было на месте. Затем, когда кто-то или что-то исчезнувшее появлялось, то исчезал ещё кто-то или что-то опять пропадало. Нет, это дело несерьёзно и несерьёзны люди, которые этим делом занимаются. Все кричат, спорят, препираются, а больше всех Борис Кутырев.
– Слушай, Кутырев, – сказал я, обращаясь к Борису, – вот я смотрел документальный фильм о запуске космического корабля, у них всё как-то по-другому делается. Там каждый на месте, никто никого не ищет, ничто вдруг не исчезает и не появляется вдруг. Почему бы и тебе, по их примеру, не объявить сначала пятнадцатиминутную готовность, потом десятиминутную, потом одноминутную, потом: семь, шесть, пять, четыре, три, два, один… и – пуск!
Кутырев посмотрел на меня как-то невразумительно, и я понял, что это предложение для него слишком сложное. Поэтому я снизил свои требования и сказал:
– Слушай, Кутырев, есть такая брошюра, под названием "Психологические аспекты расстановки кадров". Там говорится, что при подборе и расстановке кадров целесообразно руководствоваться положением о соотношении врожденных и приобретённых качеств человека, на базе которых формируются способности. Способности в психологии – это комплекс выработанных в процессе деятельности достаточно стойких свойств личности, являющихся условием успешного выполнения некоторых видов деятельности.
После этих слов Кутырев посмотрел на меня ещё более невразумительно и сказал:
– Иванов! Пощади!
И я его пощадил. Я замолчал. А Кутырев опять спросил:
– Ты работал над ролью?
– Если вы всё это (я обвёл руками зрительный зал) считаете работой, то я работал!
Наконец всё и все очутились каким-то чудом на своих местах, и Борис Кутырев произнес длинную и пространную речь, похожую на лекцию об актёрском мастерстве и технике речи…
Слова-то какие: «мастерство», "техника речи"! В конце своей речи Кутырев призвал на помощь Александра Сергеевича Пушкина, который будто бы гениально сформулировал в стихах всю суть актёрского мастерства: "как роль свою ты верно поняла, как развила её…" – в смысле развила, пояснил Кутырев, "с каким искусством, как будто бы слова рождала не память рабская, но сердце!".
"И на это, – подумал я про себя, яростно сжимая теннисный мяч в руке, – тратить свою память и сердце". Я положил руку на пульс, – сердце билось как всегда, пятьдесят два удара в минуту.
Конечно, посещение генеральной репетиции было для меня самой большой перегрузкой за последнее время. И это вполне понятно: у меня не было никакой адаптации к театру. Я уже даже не помню, когда я был в последний раз в кино.
Так как легче всего человек переносит перегрузки по направлению от груди к спине, это показал опыт космических полётов, то наилучшим положением космонавта в кресле является положение под углом сорок пять градусов к направлению, по которому действует ускорение. Правда, под углом восемьдесят градусов к действию ускорения космонавт способен выдержать необычайные перегрузки – в двадцать шесть с половиной раз. Но я, конечно, здесь, в зрительном зале не мог принять такое восьмидесятиградусное положение перед перегрузками школьного концерта. Тогда бы мне пришлось смотреть концерт лёжа, что вызвало бы у звёзд школьной самодеятельности полное недоумение.
И вообще с удовольствием бы я сейчас сидел в своей комнате, смотрел бы в телескоп на настоящие звезды, а не на эти "звёзды школьной самодеятельности", как назвал свою труппу Борис Кутырев.
Я занял соответствующее положение под углом в сорок пять градусов и сказал:
– Можно начинать! Давайте, давайте, показывайте, по какой такой системе вы тут все вместе теряете даром время! Или вы здесь тоже на стыке систем готовы сделать открытия?!
– Юрий Евгеньевич, пощади! – взмолился Кутырев.
– Ключ на старт! – сказал я и пояснил: – Это значит, что начинает действовать автоматика старта!.. Протяжка один!.. Ключ на дренаж!.. Протяжка два!.. Пошла команда: восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Пуск!..
– В общем, ребята, начинайте! – перевел Кутырев мои космонавтские слова на обыкновенный человеческий язык. Занавес стал медленно раздвигаться.