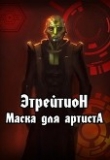Текст книги "Гори, гори, моя звезда..."
Автор книги: Валерий Фрид
Соавторы: Александр Митта,Юлий Дунский
Жанры:
Советская классическая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)
Пролог
На холме за местечком стоял монастырь. Монахи бросили его, утекли кто куда. Окна были побиты, а двери сняты с петель и унесены. Теперь тут никто не жил.
Но странное дело: от одной из монастырских труб вдруг полез в ночное небо жгут дыма. А когда этот черный жгут хорошо вырос и мазанул размочаленным хвостом по самой луне, тогда в степи показались тихие, неслышные всадники.
С четырех сторон скакали они к монастырю – по шляху по тропкам и прямиком по белому от лунного света ковылю.
Всадники съехались у порушенных монастырских ворот, слились в один черный ком, и этот ком покатился вниз с холма по разбитой степной дороге.
Тишина кончилась. Конники гикали, свистели, палили в воздух из обрезов. Вот они скрылись в лощине, где спало местечко, и спустя немного над крышами заметалось петушьими гребешками пламя. Это горели крестьянские хаты.
В ДВАДЦАТОМ ГОДУ ПО ЮГУ РОССИИ ГУЛЯЛИ БАНДЫ. ОДНА ТАКАЯ БАНДА ДОНИМАЛ А МЕСТЕЧКО КРОПИВНИЦЫ., НИКТО НЕ ЗНАЛ, ОТКУДА ОНА БЕРЕТСЯ, КУДА УХОДИТ ПОСЛЕ НАЛЕТА. ВПРОЧЕМ, НАШ РАССКАЗ БУДЕТ СОВСЕМ ПРО ДРУГОЕ…
Пасмурным утром по столбовой дороге двигалась военная часть. Впереди на рослом сухопаром жеребце ехал полковник, за ним конники в черных лохматых папахах, потом пехота, а позади – артиллерия и обоз.
В ТЕ ЖЕ ДНИ ОТСТАВШИЙ ОТ СВОИХ БЕЛЫЙ ПОЛК ПРОБИВАЛСЯ В КРЫМ, К БАРОНУ ВРАНГЕЛЮ. ПУТЬ ЕГО ЛЕЖАЛ ПО КРАСНЫМ ТЫЛАМ, ЧЕРЕЗ МЕСТЕЧКО КРОПИВНИЦЫ. НО И НЕ ПРО ЭТО БУДЕТ НАШ РАССКАЗ…
Действие первое
В местечке Кропивницы шумела, суетилась ярмарка. Постная, конечно, ярмарка, не то что в мирное время.
На дверях кирпичной лавчонки дегтем было написано: «Карасину нема и не ждите», мануфактурная лавка была заколочена, в бакалейной гулял по пустым прилавкам ветер.
На майдан въехала бричка с рогожной халабудой. Пегая костистая лошадь плохо слушалась вожжей, потому что возница был городской человек и она его не уважала.
Вертя головой во все стороны, приезжий с интересом оглядывал базар. Только тыква имелась тут в изобилии. Ею торговали и в шорном, и в скобяном ряду. Повсюду высились штабеля, пирамиды, горы щекастых тыкв. Этот нетребовательный овощ урождался при всех режимах – его будто и не касались революция, интервенция, Гражданская война.
Еще были на ярмарке синенькие, беленькие и красненькие – так назывались по-местному баклажаны, кабачки и помидоры.
Покупатели слонялись между рядами, но не покупали: такого добра у самих было богато. А чего у них не было, того и на ярмарке не было.
С развлечениями тоже обстояло плоховато.
Карусель не крутилась уже третий год, деревянные лошадки порастеряли за это время свои хвосты и головы. А в бывшем тире торговали опять-таки тыквой.
И совсем уж бедным был конный ряд: четыре негодящих клячи и жеребенок с замаранным хвостом. Возле них вертелась девочка-заморыш лет шестнадцати в разбитых мужских сапогах.
Задевая чужих волов, стукаясь о чьи-то оглобли, бричка с халабудой выкатилась на середину площади. Городской человек достал из-под козел медный охотничий рог, приставил к губам, надулся и затрубил.
Все головы враз повернулись к нему. А приезжий встал на козлы, откашлялся и заговорил. Фигурой он был мал и тщедушен, но голос у него оказался позычней охотничьего рога.
– Товарищи! – загудел он, легко перекрыв ярмарочный шум. – Революционный Всенародный Театр-Эксперимент начинает бесплатное представление!
Смотрите и слушайте «Юлий Цезарь», трагедия Вильяма Шекспира в обработке Владимира Искремаса!
Он оглядел толпу – усатых хлеборобов, злых на скудные времена теток, черноногих ребятишек – и сказал, как приговорил:
– Вы римляне. Ваш император Юлий Цезарь убит. Убит революционерами… Но у тирана остались друзья. И вот один из них, Антоний, над телом Цезаря говорит речь. Антоний – это я.
Артист скрылся на секунду в халабуде, а когда появился снова, то на нем уже был длинный белый балахон.
Неподалеку, между тиром и каруселью, стояло дощатое зданьице – не то балаган, не то театр – под вывеской «АНТРЕПРИЗА г-на ПАЩЕНКО». Оттуда вышел тучный молодой мужчина в шапочке «здрасьте-прощайте», сделанной из морской травы.
– А ну, ходи сюда, – закричал он, стараясь перекрыть набатный голос артиста. – Все ходи до меня! Иллюзион! Синематографическая лента «Драма на пляже»!
Все видели, как в праздник Луперкалий
Я трижды подносил ему корону,
И трижды он ее отверг… —
гремел приезжий артист.
Иллюзионщик тоже перешел на стихи: – Дамочки на пляже в одном неглиже! Кто не увидит, сам себя обидит!
Он схватил палку с гвоздем на конце и при ее помощи повесил на стенку фанерную картину, изображающую даму в купальном костюме и шляпе с перьями. Рядом он повесил вторую картину, потом третью – и все они были такие же интересные.
Римляне, не дослушав Антония, потянулись через базарную площадь к иллюзиону.
– Вот пакость-то! – говорили они, конфузливо косясь на афиши. – Ну-ну, пойдем поглядим…
Артист умолк на полуслове. В растерянности он стянул с головы лавровый венок и закричал по-детски беспомощно:
– Товарищи! Как же вам не стыдно!.. Куда вы? – Голос его утратил всякую зычность и дрожал от обиды и удивления. – Ведь если бы я жонглировал помидорками, вы бы стояли и глазели, разинув рот… Разве не так?.. А когда настоящее искусство – вам неинтересно!.. Почему?
К этому времени около брички осталась только одна слушательница – похожая на утенка девчушка, в больших сапогах – та самая, что крутилась раньше у лошадей.
Жидким, но непрерывным потоком селяне уже текли в двери иллюзиона. Торжествуя свою мерзкую победу, иллюзионщик помахал конкуренту травяной шапочкой. Но в этот момент начались новые и неожиданные события.
Словно дождь по крыше, зацокали копыта, ударили гулкие выстрелы.
– Банда! Банда! – закричал народ, и все, кто был на площади, бросились врассыпную.
С пушечным громом, будто ярмарка отстреливалась от наступающего врага, захлопывались ставни лавчонок, подпрыгивая, катились по земле тыквы.
На майдан вынеслись остервенелые всадники. Они палили во все стороны из куцых обрезов, орали, свистели.
Бараньи шапки у всех были надвинуты низко-низко, лица до самых глаз укутаны то ли шарфами, то ли рушниками.
Пролетая мимо карусели, самый веселый из бандитов махнул шашкой и срубил голову деревянной лошадке.
На обезлюдевшей базарной площади скалились желтыми зубами расколотые тыквы. Визжали, тычась друг в друга, перепуганные мешки с поросятами.
Иллюзионщик, шмыгая между рядами, спасался бегством.
А в другую сторону мчался, нахлестывая лошадку, артист, и римская его тога хлопала на ветру, как белый флаг.
Третья сила, сказавшая последнее слово в споре двух искусств, проскакала табуном кентавров через площадь и оставила за собой жгуты пыли, эхо пальбы да труп единственного представителя Советской власти на ярмарке – пожилого милиционера.
Повозка с халабудой остановилась, въехав на боковую улочку Здесь было тихо и безопасно. Артист стянул с себя тогу и вдруг обнаружил, что возле брички стоит и не мигая смотрит на него все та же девчушка в больших сапогах.
– Опять ты! – улыбнулся артист. Он был польщен. – Тебе понравилось? Ты любишь театр?
– Дядичко, – сказала девчушка, – я бачу, у вас коняка, як була у моего батька… Може, это она и есть?
Артист обиделся и огорчился.
– Ничего подобного! Я ее купил у цыгана.
– А мени сдается – это наш Лыско. Отдайте его, будьте ласковы. – И девчушка нежно позвала: – Лыско! Лыско!
Лошадь и ухом не повела.
– Вот видишь, – сказал артист с облегчением. – Никакой это не Лыско. Его зовут Пегаш. Но я его называю Пегас… Н-но, Пегас!.. Н-но!.. Н-но, Пегаш!
Но лошадь не отзывалась и на эти клички.
Артист сердито хлестнул ее вожжами по пегим ребрам. Такое обращение Пегас понимал, и бричка медленно покатилась по заросшей лопухами улочке.
Тяжелое медное солнце скатилось уже к самым крышам.
Ведя под уздцы совсем приморившегося Пегаса, артист переходил от дома к дому, а девчушка в сапогах уныло и упорно следовала за ним.
В конце проулка, где уже начинались огороды, стояла хибара с выбитыми окнами и гостеприимно распахнутой дверью. Перед ней приезжий и остановился.
– Хозяин! – крикнул он зычно. – Кто хозяин? – Поскольку никто не отозвался, артист сам ответил: – Я хозяин!
Он вошел в хибару, огляделся и остался доволен своим новым жильем. Пол не был загажен, из мебели имелись стол и лавка, а крыша просвечивала только в двух-трех местах.
Приезжий снова вышел на улицу, начал распрягать Пегаса и вдруг вспомнил про свою преследовательницу Ну конечно! Она была тут как тут. Стояла шагах в десяти и угрюмо наблюдала за действиями артиста.
Тот забеспокоился.
– Уходи сейчас же! – сказал он суровым голосом. – Кыш!
Девчушка отодвинулась на шаг.
– Отдайте Лыска, то и уйду.
…Уже давно вместо солнца над крышами повисла луна. Искремас сидел в хибаре у окошка и с ненавистью глядел на девчушку» столбиком торчащую посреди улицы. Обоим хотелось спать.
Девушка зевнула. Зевнул и Искремас. Внезапно в его глазах, совсем уже слипавшихся, зажегся свет какой-то идеи.
– Ты что, всю ночь собираешься тут стоять? Но это же дико!.. Ну, давай, так: утром пойдем в ревком. Они разберутся, чья это лошадь. А пока заключим перемирие… Заходи в дом и спокойно спи до утра. По рукам?
– Ни, – сказала девчушка, подумав.
– Но тебе холодно! Тебе хочется спать!.. Я ведь вижу.
– Ни. Не пийду до хаты… Вы щось со мной зробите.
– Что? Что зроблю?
– Будто не знаете… Юбку на голову, тай годи… Была девка, стала баба.
Искремас даже задохнулся от возмущения.
– Ведь ты ребенок! – выкрикнул он, когда к нему вернулся дар речи. – Откуда у тебя такие мысли?..
Он отбежал от окна, но тут же возвратился.
– Стоишь? Ну и стой на здоровье…
И он уселся за стол спиной к окну.
При свете керосиновой лампы была видна только спина Искремаса, но эта спина так понятно двигалась, что девушка могла угадать каждое действие своего врага.
Вот он постукал о стол, лупя крутое яичко… Вот он запихал его в рот – видимо, целиком, потому что когда он повернулся и спросил: «У тебя, случайно, соли нету?» – щека у него была оттопырена, а голос как бы закупорен.
Не получив ответа, артист снова нагнулся к столу и повозился, разворачивая что-то.
Потом вытер жирные пальцы о волосы и опять спросил:
– Хоть ножик-то у тебя найдется? Сало порезать.
– Нема.
– Эх ты… Ну ладно. Заходи, сала поедим.
Девушка не ответила, но подошла ближе к окну.
Артист стал рвать сало зубами. Шмат был, наверное, очень большой и тугой: голова Искремаса моталась из стороны в сторону, даже лопатки шевелились.
Девушка не выдержала и двинулась к открытой двери.
Надо сказать, что никакого сала у Искремаса не было. И он давно забыл, каковы на вкус крутые яйца. Он сидел за пустым столом и делал вид, что ужинает: кусал несуществующее сало, заедал воображаемым хлебом. При этом он посматривал уголком глаза на дверь.
Как только девушка переступила порог хибары, Искремас метнулся к двери и проворно задвинул щеколду.
– Ага! Попалась! – закричал он, радуясь успеху своей затеи.
Пленница рванулась назад, но было уже поздно. Она отчаянно замолотила кулачками по спине Искремаса, как заяц по барабану. Однако отпихнуть артиста от двери ей не удалось. Он был сильнее.
Поняв, что бой проигран, девчушка печально утерла нос рукавом и села на лавку. Она поглядела на голый стол, и глаза у нее стали вдвое больше от удивления.
– А дэ ж? – спросила она испуганно.
– Нету! – засмеялся Искремас. – И не было. Просто я тебе показал, как умный человек может перехитрить глупого!
– Нема сала… Ничого нема, – прошептала девчушка. И вдруг заплакала злыми, безнадежными слезами.
Искремас смутился.
– Девочка, перестань! Ну перестань! – Он забегал по комнате, натыкаясь на стол и лавку. – Ах я скотина! Ах я дурак! Ну прости меня… Слушай, не плачь, у меня есть еда! Должна быть. Вчера, во всяком случае, что-то было…
Говоря это, артист выгребал из своего саквояжа разные предметы: лохматую бороду, корону, шерстяной носок и наконец то, что искал, – краюху хлеба и пол-луковицы.
– На, на, на!
Девушка взяла хлеб и стала жевать, не переставая плакать. А Искремас суетился вокруг нее:
– Не плачь! Ты же подавишься! И не торопись. Как тебя зовут?
– Крыся!
– Крыся? Странно… Это что же, прозвище?
– Ни, прозвище у меня Котляренко. А зовут Христина.
– При чем же тут Крыся?
– Я ж вам русским языком кажу!.. – Крыся действительно старалась говорить с Искремасом по-русски. Для этого она, как могла, коверкала украинский язык, разбавляя его русскими словами. – Я ж вам русским языком кажу… У меня хозяева были поляки. Они меня Крысей звали. По-нашему Христя, а по-ихнему Крыся… Хорошие такие хозяева – только они меня прогнали. Я ихнее дитя убила.
– Убила? – с ужасом переспросил артист.
– Та не до смерти!.. Уронила с рук, шишку набила.
– Понятно… А родители твои где?
– Вмерли от тифу. Уже год, як вмерли.
– М-да… Невесело. Ну что же, Крыся, будем знакомы. Моя фамилия Искремас.
– То нехристианское имя.
– Конечно нет! Это псевдоним. Искусство революции массам. Сокращенно – Иск-ре-мас. Поняла?
– Не… Та мени все равно.
– Тем лучше. Так вот, Крыся, ты умная девочка и должна уяснить себе: это лошадь не твоя. Это моя лошадь.
– Ни.
– Ну как хочешь… Кретинка!
Кроме горницы в хибаре был чулан. Там Искремас постелил на полу попону, а вместо подушки пристроил свой сак.
– Тут ты будешь спать, – объяснил он Крысе.
Потом пощупал сак – не слишком ли жестко – и извлек из него два альбома. Один альбом был толстый, другой – тонкий. На обложке тонкого был нарисован рукой Искремаса лавровый венок, а на толстом – череп и скрещенные кости.
– Знаешь, что это такое? Рецензии. – Искремас помахал тощим альбомом. – Вот тут меня хвалят, а тут… Тут всякая чушь. Писали злобные идиоты…
Толстый альбом с черепом артист швырнул в угол, а тоненький небрежно протянул девушке:
– На. Можешь почитать.
– А навищо?
– Как хочешь. – Искремас обиделся. – Тогда ложись и спи. И даю честное слово, что никто тебя не тронет. – Он вышел, прикрыв за собой дверь, и сказал уже из комнаты: – Но и ты дай мне слово, что не убежишь. Ведь должны мы верить друг другу?
– А як же, – донеслось из чулана.
Искремас подумал, потом взял табуретку и, старясь не шуметь, просунул одну из ее ножек в дверную ручку. Теперь дверку нельзя было открыть изнутри.
Крыся лежала, сжавшись в комочек, и настороженно прислушивалась к непонятному шороху. Потом встала, неслышно подкатила к двери кадку, на кадку взгромоздила какой-то ящик и для надежности подперла дверь ухватом.
Утром Искремас проснулся от пения птиц. Он вскочил с лавки, прошлепал босиком к окну и тоже запел хриплым утренним баритоном:
Я раджа, индусов верный покровитель.
Правлю страной, как пра…
И вдруг глаза у него широко раскрылись, а рот захлопнулся.
В пейзаже, который он видел из окна, чего-то недоставало. И он только сейчас понял, чего именно. Коновязь была на месте, бричка с халабудой тоже – а вот Пегас исчез без следа.
В гневе и обиде артист кинулся к чулану. Табуретка была не потревожена. Отшвырнув ее, Искремас толкнул дверь. Она не открывалась. Искремас толкнул сильнее: отъехала со скрипом Крысина баррикада, и артист протиснулся в чулан.
Крыся спала на попоне. К груди она крепко, как ребеночка, прижимала зазубренный топор – видно, нашла его среди хлама.
Искремас сумел оценить горький юмор ситуации и даже улыбнулся. Он взял из Крысиных рук топор и стал трясти девушку за плечо:
– Крыся! Крыся!.. Вставай!
Она открыла глаза и увидела над собой топор.
– Ой, дядечка, не убивайте!
– Крыся, проснись, – сказал Искремас печально. – Нашу лошадь украли.
Искремас умывался на улице возле осиротевшей коновязи. Крыся поливала ему из жестяной кружки. К артисту уже вернулось хорошее настроение.
– А может, и к лучшему, что этого Росинанта увели, – говорил он, отфыркиваясь. – Побуду месячишко в ваших краях. – Он на секунду опечалился. – Конечно, хотелось бы к началу сезона быть в Москве… Но не судьба. Поставлю что-нибудь здесь… В конце концов, не важно, в какой печке горит огонь. Важно, какой огонь!.. Ты будешь умываться?
Крыся грустно мотнула головой.
– Как хочешь. У нас свобода совести. – Он утерся холщовым полотенчиком, сунул его в карман и вздохнул. – Ладно. Настал печальный миг разлуки. Прощай, Крыся, прощай навек.
Девушка сморщила лоб в напряженном раздумье.
– Дядечка, – сказала она вдруг. – Можно я при вас останусь?
– Как это «при мне»?
– Да так. Замисть дочки… Буду вам стирать, варить. А вы меня будете жалеть. Может, и покушать дасьте, если у вас останется.
Лицо у нее жалобно скривилось, губы и нос запрыгали. Искремас очень растерялся.
– Нет, нет, нет, это исключено… Я бы рад, честное слово, но подумай сама – куда я тебя возьму?.. У меня ни кола ни двора…
– Возьмите! – повторила Крыся настойчиво и даже уцепилась за руку Искремаса, чтобы он не убежал. – Вы одни пропадете… Бо вы малахольные…
Полностью одетый и побритый, артист шагал по зеленой, в садочках, улице. Рядом семенила повеселевшая Крыся. То и дело она забегала вперед, но тут же возвращалась – будто собачонка, которая боится потерять хозяина.
Над плетнями, как лысые головы, торчали на кольях выставленные для просушки горшки. Проходя мимо, Искремас щелкал их по лбу.
Из одного садика – с вывороченным и поваленным плетнем – доносился крик:
– Да что же ты делаешь? Идол косоглазый!.. Краску-то зачем переводишь? Люди, глядите на него!
Искремас остановился поглядеть и послушать.
В саду, у надломленной яблони, стояла, скрестив руки на толстой груди, баба и ругала своего мужика. Тот действительно занимался очень странным делом – красил зеленые неспелые яблоки в красный цвет.
На скамеечке перед ним стояли банки с краской, он макал кисть и красил. На яблоках возникали яркие полоски – оранжевые, красные, малиновые. И покрашенные яблоки выглядывали из листвы, словно краешки маленьких радуг.
– Человече! – не выдержал Искремас. – Что это вы делаете?
Упрямо сжав скулы и не отвечая, хозяин продолжал свою непонятную работу. А баба выкрикивала:
– Лучше снял бы яблоки – поросеночку!..
Искремас поглядел на покореженный ствол, на корни, торчащие наружу.
– Да, погибла яблонька, погибла… Кто ж это ее?
– Банда, вот кто!.. Бомбами кидались, – крикнула баба и потянула мужа за рукав. – Да брось ты, дурень!
Хозяин зыркнул на нее своими дикими, косоватыми глазами, продолжая водить кистью.
Подперев пальцем подбородок, Искремас смотрел, как зеленые яблоки одно за другим становятся красными.
– Крыся! Ты знаешь, кто это?
– Спантелеченный? – догадалась Крыся. – Ненормальный?
– Это человек красивой души! – строю поправил Искремас. – Но ты не видишь, потому что тебя никто не научил смотреть. Этим яблокам людская злоба отказала в счастье созревания. А он их пожалел – и вот они созрели под его кистью…
Он снова повернулся к хозяину яблони:
– Вы садовник?
– Маляр.
– Маляр?.. Скажите, а вывески на базаре – это не наша работа?
Маляр кивнул.
– Вот и отлично! Вы для меня просто клад… – Он представился: – Владимир Искремас. Проездом в Москву я решил основать здесь Революционно-экспериментальный театр. Я уже и место присмотрел. А вы мне поможете писать декорации…
Зрители в иллюзионе ждали сеанса и лузгали семечки. Чуть не у каждого на коленях лежал большой, как колесо, подсолнух. Искремас с Крысей пристроились в заднем ряду.
Экраном служила латаная простыня, а рядом с проекционным аппаратом был укреплен дамский велосипед и на табуретке стояла облупленная шарманка.
Иллюзионщик запер дверь на крючок, оседлал велосипед и принялся ногами крутить педали, одной рукой – ручку аппарата, а другой – шарманку. Зажужжала динамо-машина (ее приводил в действие ремень, идущий от велосипедного колеса), застрекотал проекционный аппарат, и на экране появилось название ленты: «Драма на пляже».
Шарманка загнусила «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». Под эту музыку возникли море, пляж, а на пляже счастливое семейство – муж, жена и их дитя в соломенной шляпке.
Жена под хохот зрителей сбросила с себя платье и осталась в купальном костюме с непозволительно короткой, чуть не выше колен, юбочкой. Муж тоже разделся и тоже оказался в купальном костюме.
– Городская дама, а ни стыда, ни срама… – прокомментировал иллюзионщик. – Дивитесь на москаля – бегает, зад заголя!
Зрители еще похохотали. Искремас с омерзением отвернулся от экрана.
Между тем драма на пляже развивалась. Муж куда-то удалился, поцеловав на прощание жену и дочку, а из моря тут же вылез некто с усиками и в полосатом, как тигр, купальнике.
– А вот московский франт-элегант, – объяснил иллюзионщик. – На ходу подметки режет, завлекает женский пол!
Надо сказать, что иллюзионщик добывал хлеб свой в поте лица своего. Он выкрикивал комментарий, не переставая работать руками и ногами.
А на экране легкомысленная дамочка уже вовсю кокетничала с усатым-полосатым. Вот они, взявшись за руки, скрылись в кустах.
– Ось воно як по-городскому! – поддавал жару иллюзионщик. – Мужик из дому, а жинка к другому!
Зрители прямо-таки зашлись от хохота. Не смеялись только Искремас и Крыся. Артист в ярости скрежетал зубами, а Крыся, сцепив у подбородка худые ручки, не отрывала от экрана зачарованных глаз.
– Не смей смотреть! – прошипел Искремас. – Это же галиматья!
– Та ну вас! – отмахнулась Крыся. – Я вже пять разов смотрела. Сейчас так жалко будет… Ой! Ой! – И она заплакала.
– Не смей! Не смей плакать! – приказывал Искремас.
Но события на экране действительно приняли печальный оборот. Дитя, оставленное без присмотра, уронило в море свой мячик, побежало за ним, споткнулось… и вот уже на пустынных волнах качается лишь детская соломенная шляпка.
– Эх, интеллигенция! – злорадно комментировал иллюзионщик. – Пардон-мерси! А родное дитя, будто кутенка, утопили!
Тем временем преступная мать вернулась из кустов, увидела на волнах детскую шляпку и, все поняв, стала в отчаянии ломать руки.
Крыся зарыдала в голос.
– Ой, лышенько! – завздыхали в темноте и другие зрительницы.
Лента кончилась. Публика, громко топая, двинулась к выходу. Остались сидеть только Искремас и Крыся.
Иллюзионщик утер взмокший лоб и улыбнулся Искремасу.
– Что, коллега, не одобряете? – сказал он нормальным петербургским голосом. – Ей-богу, зря. Народ меня ценит. Они мне хлеба, я им – зрелищ…
Больше Искремас не мог терпеть.
– Это возмутительно! – завопил он. – Люди истосковались по искусству, а вы их пичкаете черт знает чем! Убирайтесь отсюда вон! Здесь будет проживать Вильям Шекспир!
– Позвольте! По какому праву? – окрысился иллюзионщик.
– По какому праву? – процедил Искремас сквозь сжатые зубы. Теперь он (конечно, бессознательно) играл уже другую роль: не Христа, изгоняющего торговцев из храма, а чекиста, которому этих торговцев поручено арестовать. – По какому праву?.. Я эмиссар революционного театра. То, чем вы тут занимались, – профанация искусства, а следовательно, скрытая контрреволюция!..
И, зловеще прищурившись, он сунул руку в карман – не то за мандатом, не то за наганом.
Зрители, задержавшиеся было в дверях, чтобы послушать скандал, при грозных словах «мандат» и «реквизировать» сразу улетучились.
– Если мандат, тогда – пожалуйста, – потерянно сказал иллюзионщик и стал свинчивать свою механику. – Но уверяю вас, я тоже, в меру своих сил, сеял разумное, доброе и вообще…
– Вам помочь? – неловко спросил Искремас. Ему уже стало жалко побежденного.
Но иллюзионщик испуганно замотал головой, вывел на улицу свой дамский велосипед, взгромоздил на горб аппарат, динамо, шарманку и поехал, вихляя, с базарной площади.
Искремас окинул антрепризу господина Пащенко хозяйским взглядом.
– Крыся! – сказал он и обнял девчушку за худенькие плечи. – Я видел, ты плакала, когда смотрела на экран. Но ведь это была дрянь, подделка… И вообще белиберда!.. А я открою для тебя дверь в настоящее искусство. В новый, удивительный мир!
На оглоблях брички сушились рубахи и подштанники Искремаса. Выплеснув мыльную воду, Крыся прислонила корыто к стенке, взяла топор и принялась щепить полешко – на растопку.
Искремас беседовал в халупе с маляром – тем самым, что красил яблоки. Артист был в свежей белой сорочке и по-домашнему босиком.
– Сейчас, когда нету керосина, соли, спичек – когда вообще ничего нет, кроме сыпного тифа, – говорил Искремас, перегнувшись через стол к гостю, – обыватель испугался революции, попятился… А я, как и в первый день, скажу ей: да святится имя твое!
Маляр слушал, застенчиво улыбаясь, а странные его глаза глядели и на Искремаса и куда-то еще.
– Она дала мне внутреннюю свободу. То искусство, о котором я мечтал всю жизнь, стало теперь возможным… Даже необходимым!
Вошла Крыся, села в уголку и стала штопать носок артиста.
– Я выведу театр на простор площадей. Уличные толпы будут моими статистами, а может быть, и моими героями! Традиционный театр – лавка старьевщика… Весь этот хлам не нужен революции!
– За царем лучше було, – отозвалась Крыся из своего угла.
– Что ты мелешь, дура? – подскочил на месте Искремас. – Кто тебя научил?
– Хозяева говорили.
Искремас успокоился.
– А, хозяева… Что ж, по-своему они правы. Им, хозяевам, при царе действительно жилось лучше. А теперь нам живется лучше, потому что теперь мы хозяева… Кстати, у нас гость. Почему ты его не угощаешь?
– Нема ничого, – с вызовом сказала Крыся.
– Как это – нема? А картошка! Я видел, ты чистила.
– Нема никакой картопли.
– Здравствуйте! Он же сам нам принес. Целый мешок!
Маляр сидел и миролюбиво улыбался.
Искремас вскочил из-за стола и полез смотреть в печку. При этом он говорил гостю:
– Поразительное существо! Упрямая, злая и глупа, как морская свинка. Представляете, она даже не может запомнить, как меня зовут! Ну-ка отвечай – как меня зовут?
– Якиман, – неуверенно сказала Крыся.
– Искремас! Искремас!.. А вот и картошка. Зачем же ты лгала?
– А всех кормить, так сами с голоду подохнем.
– Замолчи! – Он поставил перед маляром дымящийся чугунок. – Вот. Прошу вас… И ты, Крыся, поешь.
Сам Искремас есть не стал. Он вообще ел очень редко; всегда находились какие-нибудь более важные дела. Сейчас, например, комкая в пальцах подбородок, он наблюдал за Крысей:
– Глядите на эту личинку, – сказал он маляру. – Ведь я из нее сделаю актрису. Хорошую актрису… Потому что, как сказал бы френолог, у нее есть шишка искусства!.. Есть, есть. – Он повернулся к маляру. – Да, так вот… Этот ваш городок – пустыня, которая ждет дождя. И мой спектакль будет таким дождем. Ливнем! Я поставлю нечто вроде мистерии о Жанне д’Арк…
Маляр робко кашлянул. Вообще-то, он был прекрасный собеседник – то есть ничего не говорил, а только слушал. Но тут и он не выдержал.
– Не пойдут, – сказал он грустно.
Искремас ужасно огорчился – у него даже губы задрожали. Он побарабанил пальцами по столу, тряхнул головой, отгоняя сомнения, и сказал наконец:
– А я вам говорю, пойдут! Валом повалят!
По улицам местечка двигалась необычная процессия. Шестеро мальчишек волокли за оглобли бричку Искремаса. На бричке был воздвигнут черный деревянный крест, а к этому кресту была привязана Крыся – в дерюжном балахоне и с распущенными волосами.
За повозкой шли мальчишки поменьше, в черных рясах с капюшонами, с факелами в руках.
Возглавлял процессию Искремас, в белой сутане с нашитыми черными крестами. Размахивая горящим факелом, он выкликал:
– Добрые горожане! Идите за мной!.. Мы будем сжигать самозванку и колдунью… Она виновна в том, что она умнее нас и смелее нас, честнее нас! На костер ее за это, на костер! Погреемся у веселого огня, добрые горожане!
К тому моменту, когда бричка выехала на базарную площадь, за нею уже тянулась большая толпа.
– Религию позволили? – спрашивали друг у друга любопытные.
– Ага… А вон тот, горластый, – это новый батюшка.
– Пип?
– Який, к бису, пип! То комэдия.
– Ничего не комедия. Ворожейку споймали, зараз палить будут!..
У дверей антрепризы переминался с ноги на ногу маляр, в берете с пером и с алебардой. Алебарду он держал, как маховую кисть.
Крысю вместе с крестом сняли с повозки и внесли в театр. Давя друг друга, зрители ринулись следом.
Рукописная табличка «Председатель ревкома» была прибита к стенке большим гвоздем. На этом же гвозде висел маузер в деревянной кобуре.
Стены ревкома были расписаны агитфресками: мужики попирали толстобрюхих мироедов, рабочие ковали мечи.
(История сохранила нам рассказы о красочных уличных шествиях двадцатых годов в Витебске, разрисованном революционными художниками. Поверим же тому, что на стенах уездного ревкома теснились фигуры, какие, наверное, нарисовал бы Питер Брейгель Мужицкий, живи он в двадцатые годы двадцатого века.)
Посреди комнаты на табуретке сидел посетитель и уныло разглядывал расписные стены.
А председатель, молодой и степенный, втолковывал ему:
– Гражданин Щапов, эта банда у нас, как бельмо на глазу, или, понятней сказать, как чирей на заднем месте. И вы обязаны нам помочь!
– Но я же ни сном ни духом!..
– Как бывший буржуй, – продолжал председатель, не слушая, – вы свободно можете знать, где они ховаются, кто их вожак…
– И как здоровье персидского шаха, – желчно добавил Щапов.
– Шо вы этим хочете сказать?
– А то, что я про банду ничего не знаю и знать не хочу!.. Не верите – расстреляйте меня! – Он рванул на груди ветхую манишку. – И жену стреляйте! И детей!
Председатель досадливо поморщился:
– Это вы предлагаете большую глупость. Зачем же нам стрелять ваших деток? Идите себе.
Поклонившись, Щапов пошел к дверям.
Ревкомовский писарь, который все это время скрипел пером, не поднимая головы, теперь встал. Был он не старше председателя, чернобров и смугл лицом. Одернув гимнастерку, он вышел из-за стола и загородил дорогу бывшему буржую.
– Не торопись, – сказал он негромко. – Это тебе был официальный допрос. А теперь давай говорить по душам. Отвечай, буржуйская морда, где банда? Кто у них атаман?
Он защемил между пальцами мясистый нос Щапова и крутанул.
– Охрим! – сердито закричал председатель. – Опять? А ну, брось!
Писарь отпустил буржуйский нос. Щапов пулей выскочил за дверь. И сразу же в комнату просунулась взволнованная физиономия иллюзионщика.
– Товарищи! Разрешите обратиться!
– Почекайте трохи, – недовольно сказал председатель, и дверь закрылась. А предревкома снова повернулся к Охриму: – Шо ты за мучитель? – покачал он головой. – Это же стыд! Это позор!
– А это не стыд, что мы ту клятую банду ловим, ловим за хвост, а ухватить не можем?!
Дверь опять отворилась. На пороге топтался иллюзионщик.
– Товарищи! Разрешите все-таки обратиться!
– Ну, шо там у вас? – вздохнул председатель.
– Товарищи, пожар! Горит театр, товарищи!
Когда председатель, Охрим и запыхавшийся иллюзионщик прибежали на базарную площадь, над театром клубился сизый дым, а очумелые зрители спасались от огня через окна и двери.