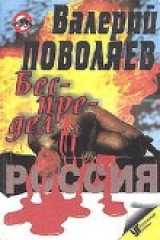
Текст книги "Беспредел (Современные криминальные истории)"
Автор книги: Валерий Поволяев
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Людмила Кортун считала себя строгой матерью: она видела, что происходит с ее Юлькой (сама через все это прошла, причем совсем недавно, поскольку для мамы возраст у нее был не самый старый – всего сорок три года. Еще можно было родить несколько детей), где ту заносит, где дочь ошибается, где дает излишнюю волю эмоциям, и она искренне старалась подсказать, как быть, где-то сделать внушение, а где-то и врезать ладонью по затылку. Подзатыльник подзатыльнику, конечно, рознь, можно так врезать, что посыплются зубы, но подзатыльники матери были таковы, что на них обижаться было нельзя. Это были ласковые подзатыльники, скажем так, заботливые.
Как подзатыльник подзатыльнику рознь, так и человек человеку. Другая бы только благодарила маму за учебу и улыбалась ласково, а Юлька нет, Юлька каждый раз превращалась в звереныша и норовила цапнуть маму зубами за руку. Та только удивлялась: откуда в дочке столько злости? Растет, будто детдомовская, это ведь детдомовские бывают злыми, это там ребятам приходится драться едва ли не за каждый кусок хлеба, а то и за жизнь…
У Юльки же все есть – и кусок хлеба с молоком, и сладкое, и модная обувка, и золотые сережки в ушах, и такие кофточки, что на нее даже взрослые женщины, проверенные андреапольские модницы, оборачиваются: надо же, как одета эта юная красотка! От Юльки же взамен требовалось только одно – учиться.
Юлька, конечно, ходила в школу, но очень часто путала ее с дискотекой. Школа для нее была лишь неким информационным центром, где можно узнать последние новости, себя показать, на других посмотреть, выведать, какая девчонка в какого паренька влюбилась, с кем сходила в кусты, у кого появились ломовые записи и вкусная выпивка. В общем, современная девчонка была Юлия Кортун, хотя и жила в городе маленьком, провинциальном и ввиду своей провинциальности – строгом. Впрочем, имя у города было вполне столичное, звонкое – Андреаполь – оно очень нравилось Юльке и, если хотите, предполагало некую итальянскую вольность нравов. Никто, даже сама Юлька, не может сказать, когда у нее был первый мужчина, это произошло давно и совершенно незаметно – наверное, потому, что Юлька была пьяна, очень пьяна. Да и после этого у нее перебывало столько ухажеров, что их и сосчитать-то, честно говоря, трудно. Много, одним словом.
Юлька любила жизнь, любила мужчин, любила дом, в котором жила, любила веселье и музыку, любила смотреть рекламные ролики по НТВ и американские фильмы, любила свое тело; но были и вещи, которые Юлька не любила. Она не любила школу, не любила мать и зависимость от нее, не любила то, что была такой юной. Среди ее подруг были девчонки, которым их соплячество нравилось, а Юльке не нравилось – ей хотелось стать взрослой. Хотя и говорят некие острословы, что молодость – недостаток, который быстро проходит, на самом же деле все обстоит не так – молодые годы идут очень медленно, тянутся еле-еле, словно бы специально норовя вызвать досаду, а вместе с нею – ярость и злость.
Чаще всего свою злость и ярость Юлия вымещала на матери – та ведь находилась рядом, под рукой, как говорится, вот ей больше всех и доставалось. Можно было бы, конечно, обрушивать ярость и на учительниц, но у тех с Юлькой разговор мог быть очень короток: наставят в дневник двоек и попрут из школы взашей; можно было свою злость выплескивать и на одноклассниц, но тут разговор мог быть еще короче – те, не задумываясь, залепят пару оплеух либо вообще зубы вышибут… От дорогих товарок всего можно ожидать.
Поэтому оставалась мать. Отношения с матерью иногда достигали степени белого каления – температуры, когда плавится металл. В матери Юльку раздражало все – и то, как та красится, и то, что не понимает «хипповую» музыку, не ценит «металлистов» и теннисную секс-бомбу Аню Курникову, не может отличить киви-ликер от огуречного рассола и так далее, по жизни же мамашка старается шагать в обнимку с разными деревенскими хитростями… Их Андреаполь вообще больше похож на деревню, чем на город.
На огороде у мамашки, например, очень часто паслись соседские куры загородка-то худая, дырка на дырке, мужчины в доме нет, вот куры и чувствуют себя среди мамашкиных грядок как гвардейцы на Невской першпективе – проход у них всюду вольный, маршируют хохлатки туда-сюда. Соседка, недолюбливавшая Людмилу Кортун, этому обстоятельству была рада: все куры лишний раз чего-нибудь склюют.
Заделать же дыры было невозможно – не женское это занятие, да и на одну заделанную дыру завтра появятся четыре. Тогда Юлькина мамаша пошла на военную хитрость – раскидала среди морковных грядок, особенно любимых соседскими курами, несколько яиц, а утром, на глазах у нехорошо изумившейся соседки, собрала их да на летней кухоньке демонстративно изжарила яичницу.
Больше соседские куры ее не беспокоили – сидели там, где им надлежало сидеть. И несли яйца.
А Юльке эта деревенская мамашкина хитрость – как кусок глины в чае вместо сахара, она лишь брезгливо поморщилась да выругалась. Подружкам сказала:
– Как была мамашка козлом женского рода, так козлом женского рода и осталась.
Однажды за завтраком она сказала матери с недоброй улыбкой:
– Когда-нибудь мы с тобой сойдемся на узкой дорожке. Одной из нас придется лечь в землю.
– Господи, пронеси! – Старшая Кортун перекрестилась.
– Вот тебе и «Господи, пронеси!», – передразнила ее Юлька.
Ненависть Юльки к матери росла, будто на дрожжах, не по дням, а по часам.
Иногда Юлька исчезала из дому, скрывалась у кого-нибудь из подружек, со злорадством думая: пусть мать помучается, погадает, где она находится, попереживает. И мать, видя, что дочь к ночи не вернулась домой, действительно переживала, плакала горько.
В начале июня Юлька ушла на дискотеку, надела свои любимые золотые цацки, накрасилась, натянула на плечи шелковую кофту и ушла. Домой Юлька не вернулась.
На танцах она познакомилась с представительным, понравившимся ей парнем Сережей Дуровым. Она видела его и раньше – у своей подружки Оли Петровой, но тогда ни познакомиться, ни сойтись с ним не удалось, – а сейчас он оказался на танцах. Один. Без «напарницы». Юлька незамедлительно подкатилась к нему, пригласила на белый танец, а чуть позже, в танце же, сказала Дурову, что хочет быть его девушкой.
Дуров не возражал: Юлька ему понравилась. В прошлый раз, у Ольки Петровой, она какой-то несерьезной свиристелкой, недозрелой писклей выглядела, а сейчас ничего – вполне взрослая, вполне сформировавшаяся женщина.
– Ладно, – сказал он ободряюще.
Юлька от радости вспыхнула, покраснела, словно маков цвет. Вот почему в тот вечер она не вернулась домой. Не вернулась она и на следующий день. А чего, собственно, ей делать дома? Мать лицезреть? От внутренней гадливости ее даже передернуло. В школу идти не надо. Каникулы, безмятежная летняя пора.
Они с Сережей крепко выпили и завалились спать. На следующий день сделали то же самое. И через день.
Счастливое молодое время. Никаких забот, никаких дум, никаких обязательств, никаких этических норм. Сегодня с Сережкой Дуровым, завтра, если он надоест, – перейдет к Витьке Клопову, от Витьки – к немцу Петеру Вагриуцу и так далее. Одна только заноза в сердце, словно кусок железа, мать. Очень уж надоела мамашка!
Через неделю совместной жизни с Дуровым Юлька сказала ему – дело было ночью – после жарких объятий:
– Серега, ты должен выполнить социальный заказ…
– Чего-чего?
– Социальный заказ, говорю, должен выполнить. Никогда не слышал о таком? Мой личный заказ. И тогда мы оба будем богаты.
– Быть богатым – это хорошо, – Дуров засмеялся. – Что я должен для этого сделать?
– Убить мою мать.
Дуров разом оборвал смех, внимательно посмотрел на свою юную подружку, потом, потянувшись к ночнику, включил его, посмотрел еще более внимательно.
– А ты, часом, не того? – Он повертел пальцем у виска. – А?
– Вот она где у меня сидит, моя мамашка, вот где! – Юлька яростно попилила себя пальцем по горлу. – Вот где! Вот где! Вот где! Наелась я ее досыта, хватит!
От звонкого истеричного голоса Юльки Дурову сделалось не по себе, и он поспешил выключить свет.
– Ладно, – сказал он, – будет день – будет и пища. Выдастся подходящий момент – заказ выполним.
А Юльку уже трясло от злости, она лежала в постели, вытянувшись в струну, обнаженная, и крепко стиснутыми кулаками взбивала простынь:
– Не хочу, чтобы она жила! Не хочу, не хочу, не хочу!
Отступив, надо заметить, что Юлька обращалась с этой просьбой не только к Дурову. Свидетель Бекалиев Олег Куатович сообщил, что еще зимой к нему приходила Юлия Кортун, просила убрать свою родительницу. Пообещала хорошо заплатить. Бекалиев отказался.
Свидетель Миткалев Михаил Сергеевич заявил: Юлия Кортун приезжала к нему с просьбой убрать мать. Миткалев даже не стал говорить на эту тему.
В конце июня, в один из жарких вечеров, Людмила Кортун встретила у колодца старика Фомина, тот поинтересовался:
– Ну как твоя Юлька? Небось уже красавицей стала?
– Юлия по нескольку месяцев не живет дома. И сейчас ее нет.
– Да ты что? – удивился старик. – Вроде бы рано ей замуж-то.
– Не замужем она. Ушла и не живет.
– Где же она?
– Не знаю. Хотя недавно получила от нее письмо с угрозами. Грозится убить меня.
– Господи! За что?
– Дом ей мой нужен. И все, что я нажила.
– Свят, свят, свят! – Старик истово перекрестился.
Четвертого июля, в три часа ночи, Юлька разбудила пьяного Дурова:
– Вставай!
Тот недовольно завозился в постели.
– Ты чего?
– Вставай, кому сказала! – В Юлькином голосе зазвучали командные нотки.
– О-о-о-ох! – со стоном потянулся Дуров. Ему было плохо, хотелось выпить. – Ты не могла бы отложить свои дела на завтра?
– Не могла бы! Вставай! Или я ухожу от тебя!
Это было серьезно. Терять Юльку не хотелось. Дуров, нехотя, с руганью и бурчанием, поднялся.
– Пошли на улицу Пушкина! – скомандовала ему Юлька.
Дуров все понял, натянул на плечи куртку, взял нож-бабочку, отщелкнул лезвие, попробовал пальцем. С подвывом зевнул.
– А отложить это дело нельзя?
– Нельзя! – Голос Юлькин вновь, как и тогда ночью, сделался каким-то вскипевшим, истеричным, и Дуров подчинился.
Они шли по пустынным улицам своего города, и им казалось, что звуки их шагов слышат все – не только Андреаполь, но и вся Тверская область. Они слышны даже в Москве, их видят, их слышат, засекают каждый их шаг осознание одного лишь этого может остановить любого человека – любого, но только не Юльку Кортун. Она шла по улице и, сжимая кулаки, шептала про себя:
– Все, с этим пора кончать, с этим пора кончать… Надоела мне мамашка хуже горькой редьки.
На улицах ни одной машины, ни одного человека – даже жизни в Андреаполе вроде бы никакой нет – вымерла жизнь, только в нескольких местах, словно бы переговариваясь друг с другом или устраивая спевку, заливались трогающими душу трелями поздние в этом году соловьи.
Минут через двадцать Юлька с Дуровым пришли на место. Юлька обошла дом, потрогала рукой углы, словно проверяла их на прочность, сказала Дурову:
– Стань сбоку двери и прижмись к стенке, чтобы тебя не было видно из окна.
Дуров подчинился. Извлек из кармана куртки нож-бабочку, вытер о штаны.
– Я готов, – проговорил спокойно, будто врач на хирургической операции.
Юлька постучала в окно. Один раз, потом другой. Время уже приблизилось к четырем часам утра, а сон в эту пору, как известно, самый крепкий. Наконец зашевелилась занавеска, и показалось обеспокоенное женское лицо.
– Мам, это я! – крикнула Юлька. – Открой!
Ей показалось, что мать за окном облегченно вздохнула: наконец-то дочка вернулась, ведь стыдоба была какая… Юлька злорадно усмехнулась: сейчас она покажет мамашке «облегчение», сейчас та завоет благим матом.
Дверь распахнулась, мать, накинув на плечи платок, в старенькой рубашке-ночнушке показалась на пороге, и в ту же секунду Дуров, сделав резкий шаг вперед, очень похожий на каратистский бросок, ударил Людмилу Кортун ножом.
Юлька поспешно отскочила в сторону, нырнула за угол – она свое дело сделала, выманила мамашку из дома, но видеть, как ее убивает Дуров, не хотела. Юлька вообще боялась крови.
А Дуров бил и бил Людмилу Кортун. Почему-то люди, взявшие в руки нож и поднявшие его на человека, обязательно звереют. Это давно уже подмечено. Такое впечатление, что тяжелый дух свежей крови действует на них, они, опьяненные, не могут остановиться. Так и Дуров. Он не мог остановиться. Всего он нанес старшей Кортун двадцать пять ударов – бил, пока не выдохся.
В уголовном деле отмечено: «Смерть Кортун Л.В. наступила на месте происшествия в результате массивного внутреннего и наружного кровотечения с развитием шока от кровопотери тяжелой степени».
Выдохшись, Дуров тупо посмотрел на неподвижно лежащую женщину и выкрикнул хрипло, подзывая скрывшуюся за углом Юльку:
– Иди! Цыпленок сдох!
Юлька робко выступила из-за угла, отвернула голову в сторону.
– Не хочу смотреть на нее. Открой мне второй выход. Дверь там изнутри запирается на крючок.
Дуров прошел в дом, открыл дверь, Юлька бесшумной мышкой скользнула внутрь, отыскала висящий на гвозде ключ от подвала. Прихватила также несколько больших мешков для мусора, кинула Дурову:
– Запакуй… – Тут у нее что-то застряло в горле, она никак не могла выговорить слово «мать» или «мамашку». -…запакуй в них мать. Я пока пойду подвал открою.
Дуров проворно – весь хмель с него слетел – упаковал Юлькину мать в мусорные мешки, перетянул веревкой. Когда труп тащили в подвал, успели наследить и во дворе, на крыльце уже было наслежено – из убитой натекло много крови.
– Юлька, кровь придется замыть, – сказал Дуров.
– Без тебя знаю!
Нож-бабочку Дуров забросил в дровяной сарай, в гору поленьев: век бы этого ножа не видел! В дровах его никто не найдет.
Юлька проворно подхватила два ведра и помчалась на огород за водой там у них стояли бочки с дождевым НЗ. Быстро замыла крыльцо, Дуров лопатой соскреб кровь, испятнавшую двор. И оба дружно кинулись в дом, чтобы забрать драгоценности, которые мать хранила в своих многочисленных шкафах. Особых богатств не нашли – взяли лишь несколько золотых украшений, магнитофон «Атланта», «зубы» – четыре золотые коронки, сберкнижку и так называемые «правоустанавливающие документы» на дом.
– У мамашки было кольцо красивое, с синим камнем, – вспомнила Юлька. Не видел?
– По-моему, видел. На руке осталось.
Спустились в подвал, содрали с коченеющей руки перстенек с сапфиром.
– Ну, теперь все, – облегченно проговорила Юлька, оглядывая дом, теперь все это наше!
– А труп? – забеспокоился Дуров. – Труп как же?
– Пусть пока валяется в подвале. Потом что-нибудь придумаем. Может, там, в подвале, и зароем. Я всем буду говорить, что мать уехала отдыхать на курорт. Целый месяц ее никто не будет искать…
Вечером, уже в темноте, они вновь вернулись в дом на улице Пушкина, взяли еще кое-какие вещи – часть для того, чтобы сбыть, часть для личного пользования. Дуров к той поре уже сбыл золотые украшения Кортун-старшей, выручил 250 рублей. Хотя реальная стоимость украшений была, наверное, раза в четыре больше. Юлька выругала Дурова. Тот огрызнулся:
– Попробуй сама продать!
На следующий день Юлька подделала кое-какие бумаги, написала от имени матери заявление, взяла ее паспорт и побежала к нотариусу переоформлять на себя дом.
Не тут-то было. Слишком много существовало различных юридических крючков и преград, о которых Юлька даже не подозревала. Она выскочила от нотариуса со сжатыми кулаками.
– У-у, бюрократы проклятые! – махнула рукой. – Ладно. Через месяц, когда от мамашки останется лишь гнилая половина, все равно свое возьмем!
И уехала вместе с Дуровым в город Торопец веселиться дальше. Лето же на дворе. Каникулы. Отдыхать надо!
Милиция начала искать Юльку скоро – нашлись люди, которые и крик матери слышали, когда в нее Дуров всаживал нож, и то, как Юлька с каким-то парнем выносила из дома вещи, видели. Прибывшие сотрудники милиции обратили внимание на бурые пятна, впитавшиеся в землю двора, на свежие соскребы земли, ведущие к подвалу будто бы специально, а потом заглянули и в сам подвал.
Следствие не было запутанным – вела его местная прокуратура, следователь А.Г. Щербина, – Юлька запираться не стала, Дуров тоже. Дуров только одно бубнил на допросах: «Я был пьян, я за свои действия не отвечал». Гораздо сложнее было делать анализ всего случившегося. И вообще, что происходит с современной молодежью? Мы, наверное, около часа просидели с первым заместителем прокурора области Валерием Александровичем Федуловым, размышляя над тем, что происходит на Тверской – и не только Тверской земле. Звереет молодежь, не имея ни работы, ни увлечений – кроме травки, алкоголя и дискотеки, но это не увлечения, развлечения – они потеряли ориентиры и все чаще и чаще скатываются в яму преступности. Как в некую пропасть, откуда веет могильным духом. И дальше будет хуже. Дальше целые города могут стать преступными. Если не будет разработана программа спасения молодого поколения. Особенно программа, связанная с занятостью.
Ладно, Юлька – глупая, хотя и жестокая, но Дуров-то – тертый калач, уже побывал в местах не столь отдаленных… На что он надеялся, беря в руки нож? На то, что пронесет?
Не пронесло.
Состоялся суд. Юлька получила девять лет лишения свободы. Дуров четырнадцать. С конфискацией имущества. Суд рассудил все по совести, по закону – так оно должно быть. Одно только покрыто мраком: как Юлька думает жить дальше? И вообще, выйдет ли она из колонии, неся в себе такой запас ненависти? Там, за колючей проволокой, совсем другие законы жизни, там жестокостью отвечают не только на жестокость, но и на доброту тоже, считая доброту проявлением слабости. Той самой слабости, которую старшая Кортун испытывала к своей дочери…
В общем, вопросов полно, а ответа на них нет.
Беда в почтовой сумкеОдна из самых незащищенных ныне профессий – профессия почтальона. Случается, иная девчушка – вчерашняя школьница, покидает отделение связи с сумкой, битком набитой деньгами – ей предстоит разнести пенсии старикам, оплатить переводы, помеченные штампом «С доставкой на дом», выдать пособия инвалидам, прикованным к постели, собрать с них кое-какие деньги – плату за свет, за газ и прочее… В общем, у девчонок набирается довольно много того самого «товара», который интересует бандитов всех мастей, – денег. И иногда совсем не бывает сил у иной курносой почтальонши защищать толстую, сшитую из древнего рыжего либо черного дерматина, сумку. Вот и погибают эти девчонки, будто солдаты в бою. То в одном месте нашей необъятной России, то в другом.
И тем не менее они безропотно выходят на работу. Наверное, радость, расцветившая лицо иного пожилого человека, пенсионера или инвалида-фронтовика, «афганца» или «чеченца», который увидел, что к его дому идет почтальонша, в несколько раз перекрывает постоянное ощущение опасности, все эмоциональные расходы, гасит испуг, превращающий душу в серого мышонка, делает жизнь осмысленной, – ради таких улыбок и ходят, наверное, девчонки по домам, отмеченным печатью бедности. Да ладно бы только девчонки – очень часто в отделениях связи работают умудренные жизнью, измотанные непосильными домашними заботами женщины, попадаются среди почтальонов и мужчины… Они хорошо знают – в доброй сотне домов их встретят с превеликой радостью, с объятиями, которые принято называть распростертыми, постараются напоить чаем, последний кусок колбасы пустят на бутерброд, и лишь в одной квартире из ста, в одной из двухсот или из трехсот, – но только в одной встретят хмуро и даже скажут какую-нибудь гадость.
…Стоит на земле тверской древний город Торопец, спокойный, уютный, неторопливый, хотя название его свидетельствует об обратном, жители в Торопце – приветливые, открытые… Но, как говорится, в семье не без урода, уроды водятся во всяких семьях, в том числе и в самых открытых и приветливых. Правило это ныне проявляется, к сожалению, все чаще и чаще. Среди доверчивых улыбающихся лиц встречаются порой лики угрюмые, с угрозой, затаившейся на дне глаз. И кто знает, на что способны такие люди, что они задумали…
Вячеслав Алексеевич Кожевников жил тихо, одиноко, дружбы ни с кем не водил, с соседями не ругался, в дурных компаниях замечен не был, но вот какая вещь – общение с ним всегда оставляло ощущение холода, онемения, оторопи – непонятно чего, в общем. Когда такой человек оказывается рядом, стараешься держать себя в собранном состоянии, в напряжении, поскольку неожиданно возникшее чувство, что должно что-то произойти, не то чтобы не проходит – усиливается.
Лет Кожевникову было уже немало – за шестьдесят, был он холост, на дамский пол вообще старался не обращать внимания, пить особо не пил, рюмочка, опрокинутая под горячую котлету с давленой картошечкой либо выпитая в кампании со старым корешом Малютиным на задах огорода, в счет не шла – это не питие, а лечение. Прежняя работа Кожевникова была связана с жилищно-коммунальным хозяйством: кому кран починить, кому перекосившуюся водопроводную трубу поправить, кому гвоздь в оторвавшуюся доску вколотить, кому сгнивший шуруп на утюге сменить, – работа хоть и несложная, но хлебная и нужная, принадлежит к разряду тех, что может здорово облегчить (либо испортить) жизнь. Ведь капающий кран может свести с ума кого угодно…
Пенсию Кожевникову приносили один раз в месяц, – впрочем, приносили не только ему, у них половина Высокой улицы, на которой он жил, – пенсионеры, все получали деньги в один и тот же день.
Пенсию приносила всегда улыбающаяся, очень приветливая и приятная женщина по имени Галя. Галя Григорьева. Сумка у нее каждый раз была полным-полна – надо полагать, денег в такой «кошелек» вмещалось немало. Кожевников, когда поглядывал на «кошелек», невольно облизывался: эх, попали бы эти деньги в его руки! М-м-м!
Галя отсчитывала Кожевникову деньги, с улыбкой вручала, просила расписаться в ведомости и, спросив напоследок, не надо ли чего принести в следующий раз и выслушав традиционный ответ: «Принеси побольше денег», улыбалась широко, лучисто – шутка ей нравилась, – исчезала.
С ее приходом в домах пенсионеров обязательно появлялось хорошее настроение, а с ним – и надежда, что завтра обязательно будет лучше, чем сегодня. Галя была чем-то вроде птицы, приносившей людям тепло… А Кожевников, провожая ее глазами, произносил едва ли не вслух: «Сыпануть бы тебе заряд дроби под хвост, птица ты этакая… Да посмотреть, чем ты начинена».
Впрочем, лично против Гали Григорьевой он ничего не имел – почтальонша как почтальонша, если завтра вместо нее придет какая-нибудь Варя Агафонова либо Надя Уткина – ради Бога! Он против них тоже ничего не будет иметь.
Но вот раздутая донельзя, полная денег дерматиновая сумка… вот на этот счет он имеет кое-какие соображения.
День 23 марта выдался по-настоящему весенний: небо радовало своей южной голубизной, солнце вызолотило снег до янтарной сочности, тени были пронзительно синими, установилось настоящее весеннее тепло, – и все, даже замшелые торопецкие старухи, выползли на улицу подышать свежим воздухом и погреться. День этот был еще хорош и тем, что Галя Григорьева разносила пенсию по домам, пробираясь по талым лужам от одного пенсионера к другому. Вышла она, по меркам местного отделения связи, рано – ей хотелось быстрее доставить деньги: а вдруг кто-нибудь из них сидит без хлеба, не имея на руках даже завалящей пятерки, чтобы купить себе полбатона пшеничного и граммов двести сахарного песка для чая. Галя хорошо знала, как живут здешние пенсионеры, как ждут ее, с какой радостью будут встречать, поэтому и торопилась…
Дом, в котором жил старик Кожевников, состоял из двух квартир: в одной половине дома обитал сам Кожевников, в другой – такой же, как и он, пенсионер, также ожидавший прихода Гали Григорьевой, по фамилии Зуев.
На этот раз Кожевников начал готовиться к приходу Гали Григорьевой загодя и, как он считал, основательно: достал старый гвоздодер, обернул его капроновым чулком, добыл несколько целлофановых пакетов побольше, прикинул свои действия…
Кожевникову срочно понадобились деньги. Он умудрился влезть в долги. И хотя долг был небольшим – всего триста пятьдесят рублей, давил он на шею будто тяжелое ярмо – все время тянул вниз. Головы поднять невозможно. Способ добыть деньги Кожевников видел только один – взять из сумки почтальона.
Без пятнадцати минут двенадцать во дворе залаяла собака. Кожевников поспешно накинул на плечи пиджак и выскочил во двор – Галю Григорьеву он решил встретить во дворе.
А с другой стороны, вдруг это не Галя, а кто-нибудь еще? – например, старый болтливый корешок Малютин, с которым они иногда пропускают по стопке-другой, чтобы получше познать радости жизни, либо кто-нибудь еще сосед за солью, например?
Но это была Галя Григорьева.
– Собака ваша меня не загрызет? – спросила она Кожевникова, нащупывая рукой задвижку на калитке.
– Да ты что, Галя, – Кожевников натянуто рассмеялся, забегал вокруг Гали, – она у меня больше для блезиру, чем для сгрыза… – Он перестал суетиться, широко повел ладонью, приглашая Галю войти в дом. – Прошу, Галочка, прошу! Погода-то сегодня какая… Словно золотой червонец.
На крыльце он поднялся на цыпочки, прострелил взглядом улицу: много ли народу видит, что почтальонша зашла к нему? Кожевникову показалось, что этот визит не засек никто… А с другой стороны, он эту Галю запрячет так, что ее днем ни с фонарем, ни с собаками не найдут.
Времени было без двенадцати минут двенадцать. Кожевников, закрывая за Галей дверь, поспешно накинул на прочную стальную петлю крючок.
Галя села за стол, вытащила из сумки ведомость, в которой Кожевников должен был расписаться, следом – две пачки денег. В одной пачке светлой банковской резинкой были перетянуты пятидесятирублевые купюры, в другой десятирублевые.
Когда Галя склонила голову над ведомостью, чтобы в списке найти фамилию Кожевникова, тот глубоко вздохнул и, задержав в себе дыхание, потянулся рукой к гвоздодеру, лежавшему на табуретке. Затем резко, сильно, будто вколачивая в дерево гвоздь в неудобном месте, без оттяжки, ударил Галю. Удар пришелся по затылку, точно под основание черепа.
Галя охнула и ткнулась лицом в ведомость, из уголка ее рта выбрызнула кровь. Кожевников поспешно накинул на Галину голову полиэтиленовый пакет, чтобы кровяным краснотьем не испятнать пол, затем еще трижды ударил по голове гвоздодером. Бил он по-прежнему резко, коротко, без оттяжки. Потом накинул на голову Гале еще один пакет и крепко стянул его на шее пальцами.
Через несколько минут все было кончено. Он завалил почтальоншу на пол и в тот же миг вздрогнул от громкого голоса, раздавшегося за дверью:
– Алексеич! Ты чего, спишь? Отворяй, господин-товарищ, ворота. В магазин бежать пора!
Это друг-кореш появился, язви его в душу. Малютин. Он обязательно должен был появиться: ведь сегодня день пенсии. Кожевников застыл, затем, стараясь не издать ни скрипа, ни стукотка, ни царапанья, потянулся к коробке репродуктора и увеличил громкость. Вновь замер. Малютин еще несколько раз ударил ногой в дверь– не верил, что Кожевников решился в одиночку, без него, отметить «святой день», но, видать, это было так. Дед Кожевников отсутствовал, лишь из форточки доносилась громкая музыка радиорепродуктора: глуховатый дядя Слава иногда включал трансляцию на полную мощность… Малютин посидел на крыльце еще минут двадцать, выкурил пару сигарет и ушел.
Вернулся он через два часа. Дверь Кожевникова на этот раз была открыта. Старик стремительно пронес мимо Малютина ведро, наполненное грязной буроватой водой, выплеснул в угол, под забор, потом, вернувшись в дом, кинул на мокрый пол половик.
– Ты чего это? – опешил Малютин. – Ты ведь уже давным-давно должен был разговеться в честь дня пенсионера, а ты не то чтобы еще ничего не выпил, ты даже ничего не нюхал.
Кожевников молча достал из-за обоев пятидесятирублевую бумажку деньги он по обыкновению прятал на кухне, под отклеившимися обоями, – сунул Малютину:
– На! Дуй в магазин! Купи бутылку водки и двести граммов колбасы.
Малютин, мигом озаботившись, пробежался взглядом по мокрому полу и спросил:
– А хлеб не нужен?
– Хлеб у меня есть.
Малютин исчез. Будто дух бестелесный: только что был человек – и не стало его.
Тело Гали Григорьевой Кожевников закопал под пол в землю, туда же бросил и опустошенную почтовую сумку.
Первый сигнал тревоги прошел в 17.00. Именно в пять часов вечера оператор главной кассы районного управления почтовой связи доложила по селектору начальству:
– Почтальон Григорьева не явилась в отделение связи и не отчиталась за денежную сумму, которая у нее имелась.
Подождали час. Григорьевой не было.
В 18.00. специальная группа выехала на ее участок.
Довольно быстро группа выяснила, что Григорьева выдала деньги восьми пенсионерам.
Пошли по домам.
Первой пенсию на участке Гали Григорьевой получили Ефимова М.А. с мужем. Галя вручила Ефимовой 366 рублей 52 копейки, ее мужу – 847 рублей 26 копеек. Вторым пенсию получила семья Суслова А.Н. Он – 530 рублей 14 копеек, его жена – 441 рубль 10 копеек. Следом шла Кудряшова Е.Н. Галя выдала ей 422 рубля 10 копеек, на предложение выпить чаю и поболтать о политическом моменте Галя ответила отказом – некогда, мол, – и отправилась к дому Егоровой. От Егоровой – к двухквартирной «крепости», в которой обитали семья Зуева и Кожевников. Егорова А.С. получила 312 рублей 32 копейки и проводила Галю Григорьеву к Зуеву В.В. Там Галя вручила пенсию его жене – 562 рубля 06 копеек, затем Зуев вежливо проводил милую почтальоншу до калитки и попросил почаще заглядывать в их дом.
Галя, улыбаясь, пообещала. На прощанье махнула ободряюще рукой:
– Скоро, говорят, будет повышение пенсий!
Двинулась на вторую половину дома, где жил Кожевников.
Зуев машинально глянул на часы. Стрелки показывали без четверти двенадцать. Увидел, как засуетился, забегал Кожевников около Гали. Ему отчего-то сделалось неприятно, и он пошел к себе дом.
На квартире Кожевникова Галин след обрывался. Вячеслав Алексеевич был последним, кто видел почтальона Григорьеву.
Группе поиска после несложных подсчетов стало известно, что в сумке у Гали оставалось 1518 рублей 40 копеек, среди денег имелось пятнадцать пятидесятирублевых купюр серии «ГЛ», все купюры уже были в употреблении, находились в хорошем состоянии и носили следы сгиба вчетверо. Было известно также, во что одета Галя Григорьева – в куртку сиреневого цвета и розовую шапочку. Обута по случаю весны в резиновые сапожки с рифленой подошвой. Служебная характеристика ее была положительной, и не просто положительной, а очень положительной, хвалебной – полным-полно благодарностей и грамот плюс правительственная награда – медаль.







